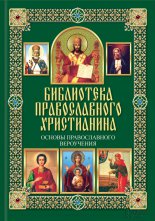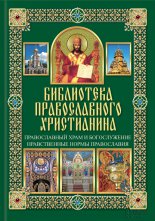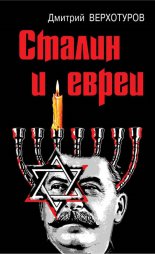Женщины в любви Лоуренс Дэвид

Джеральд гортанно рассмеялся и сказал:
– Это одна точка зрения. Я даже могу сказать, что почувствовал себя лучше. Мне это определенно помогло. Такое братство тебе было необходимо?
– Возможно. Как ты считаешь, это и есть клятва?
– Понятия не имею, – рассмеялся Джеральд.
– В любом случае, чувствуешь себя свободнее и более открыто – а это как раз то, что нам сейчас нужно.
– Разумеется, – сказал Джеральд.
Они подошли поближе к огню, захватив с собой графины, стаканы и еду.
– Я всегда перекусываю, прежде чем лечь в постель, – сказал Джеральд. – Так мне лучше спится.
– А мой сон не будет таким сладким, – сказал Биркин.
– Вот как? Вот тебе и пожалуйста, мы совсем не похожи. Надену-ка я халат.
Биркин остался один и стал глядеть на огонь. Его мысли обратились к Урсуле. Казалось, она вновь проникла в его сознание. Джеральд спустился вниз в халате из плотно-зеленого шелка в широкую черно-зеленую продольную полоску, ярком и необычном.
– Ты очень изящен, – сказал Биркин, рассматривая объемное одеяние.
– В Бухаре это было кафтаном, – сказал Джеральд. – Он мне очень нравится.
– Мне тоже.
Биркин молчал, обдумывая, насколько тщательно Джеральд подбирал себе одежду, какой дорогой она была. Он носил шелковые чулки и запонки искусной работы, шелковое белье и шелковые подтяжки. Забавно! Это было еще одно различие между ними. Что касается собственной внешности, Биркин был неизобретательным и относился к ней легкомысленно.
– Разумеется, тебе тоже, – сказал Джеральд, словно размышляя вслух, – в тебе есть что-то загадочное. Ты необычайно силен. Это очень неожиданно и довольно удивительно.
Биркин рассмеялся. Он разглядывал фигуру другого мужчины, белокурую и привлекательную в своем богатом наряде и часть его разума размышляла о разнице между ними – огромной разницы; так различаются, пожалуй, мужчина и женщина, только в другом направлении. Но в действительности именно Урсула, именно женщина захватила сейчас существо Биркина. Джеральд вновь растворялся во мраке, и он забыл про него.
– Ты знаешь, – внезапно произнес он, – я пошел и сделал предложение Урсуле Брангвен сегодня, попросил ее выйти за меня замуж.
Он увидел, как на лице Джеральда появилось сияющее удивление.
– Да что ты!
– Да. Со всеми формальностями – сначала поговорил с ее отцом, как это принято в нашем мире – хотя это получилось совершенно случайно – или просто обстоятельства сложились неудачно.
Джеральд только удивленно смотрел на него, словно не понимая, о чем он говорит.
– Ты же не хочешь сказать, что совершенно серьезно пошел и попросил ее отца разрешить ей выйти за тебя замуж?
– Да, – сказал Биркин, – именно так я и сделал.
– Что? А до этого ты с ней-то говорил об этом?
– Нет, ни слова. Я внезапно подумал, что пойду туда и спрошу ее – а так случилось, что вместо нее появился ее отец – вот я и спросил его.
– Можно ли тебе ее получить? – заключил Джеральд.
– Да-а, точно.
– А с ней ты не говорил?
– Говорил. Она пришла потом. И услышала то же самое.
– Вот как! И что же она ответила? Ты теперь обрученный человек?
– Нет – единственное, что она сказала, что не хочет, чтобы на нее давили.
– Она что?
– Сказала, что не хочет, чтобы на нее давили.
– «Сказала, что не хочет, чтобы на нее давили»! И что же она под этим подразумевала?
Биркин пожал плечами.
– Не могу сказать, – ответил он. – Полагаю, в тот момент ей не хотелось об этом думать.
– Но так ли это? И что ты тогда сделал?
– Вышел из дома и направился сюда.
– Ты направился прямо сюда?
– Да.
Джеральд смотрел на него с удивлением и приятным волнением. До него все еще не доходило.
– Но то, что ты говоришь, все действительно так и было?
– Слово в слово.
– Да?
Он откинулся на спинку кресла с восторгом и приятным изумлением.
– Ну, это хорошо, – сказал он. – И ты пришел сюда побороться со своим добрым ангелом, да?
– Я? – сказал Биркин.
– Ну, все так и выглядит. Разве ты не это сделал?
Теперь пришла очередь Биркина не понимать слова собеседника.
– И что теперь? – спросил Джеральд. – Ты собираешься, так сказать, оставить свое предложение в силе?
– Пожалуй, да. Я поклялся себе, что пошлю их всех к черту. Но мне кажется, через какое-то время я повторю свое предложение.
Джеральд пристально рассматривал его.
– Так значит, она тебе нравится? – спросил он.
– Мне кажется, я люблю ее, – сказал Биркин и на его лице застыло жесткое выражение.
На мгновение лицо Джеральда осветилось радостью, как будто это было сказано специально, чтобы доставить ему удовольствие. Затем на его лице появилась крайняя серьезность, и он медленно кивнул.
– Ты знаешь, – сказал он, – я всегда верил в любовь – в настоящую любовь. Но разве ее сегодня найдешь!
– Не знаю, – сказал Биркин.
– Очень редко, – сказал Джеральд. Затем, после паузы: – Я никогда сам ее не испытывал – только не то, что я назвал бы любовью. У меня были женщины, с некоторыми отношения продолжались довольно долго. Но я никогда не испытывал любви. Мне кажется, я никогда не чувствовал к женщинам такой любви, которую испытываю к тебе – не любовь. Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Да. Я уверен, что женщин ты никогда не любил.
– Ты ведь чувствуешь это, да? А как ты думаешь, полюблю ли я когда-нибудь? Ты понимаешь, о чем я?
Он приложил руку к груди, сжимая ее в кулак, словно хотел вытащить что-то из нее.
– Я имею в виду, что я не могу объяснить, что это такое, но я знаю это.
– Так что же это в таком случае? – спросил Биркин.
– Понимаешь ли, я не могу выразить этого словами. То есть в любом случае это что-то прочное, что-то, что не изменится.
Его глаза блестели и в них сияла загадка.
– Как ты думаешь, смогу ли я испытывать такое к женщине? – беспокойно спросил он.
Биркин взглянул на него и покачал головой.
– Я не знаю, – сказал он. – Не могу тебе сказать.
Джеральд был on qui vive, словно ожидая приговора. Теперь он откинулся назад на своем стуле.
– Нет, – ответил он, – я тоже, я тоже.
– Ты и я, мы с тобой разные, – сказал Биркин. – Я не могу сказать, что случится в твоей жизни.
– Нет, – сказал Джеральд, – не более чем я. Но говорю тебе, я начинаю в этом сомневаться!
– В том, что ты когда-нибудь полюбишь женщину?
– Ну… да… тем, что мы называем истинной любовью.
– Ты сомневаешься?
– Ну… начинаю.
Последовала длительная пауза.
– В жизни всякое случается, – сказал Биркин. – Можно идти разными дорогами.
– Да, это правда. Я верю в это. И заметь, мне неважно, что будет со мной, неважно, если я не буду ее испытывать.
Он помедлил и пустое, бессмысленное выражение появилось на его лице, выражая его чувства.
– Пока я чувствовал, я так или иначе жил – и меня не волнует как. Но я хочу чувствовать, что я…
– …удовлетворен, – подсказал Биркин.
– Ну-у-у, возможно, удовлетворен… мы с тобой пользуемся разными словами.
– Это то же самое.
Глава XXI
На грани смерти
Гудрун собралась в Лондон – она вместе с одной приятельницей устраивала небольшую выставку своих работ, и, готовясь оставить Бельдовер, обдумывала свою дальнейшую жизнь. Будь что будет, но в самом ближайшем будущем она отправится в путь. Винифред Крич прислала ей письмо, в котором слова подкреплялись рисунками.
«Папа тоже ездил в Лондон, на прием к врачам. Он очень устал. Ему сказали, что он должен очень много отдыхать, поэтому основную часть времени он проводит в постели. Он привез мне чудесного тропического попугая из дрезденского фарфора, еще фигурку пашущего человека и двух карабкающихся вверх по стеблю мышек, тоже фарфоровых. Только мышки из копенгагенского фарфора. Они мне нравятся больше всего, хотя они не очень блестят, во всем остальном они очень славные – у них такие тонкие и длинные хвостики. Все фигурки блестят, как стекло. Разумеется, это все из-за глазури, но этот блеск мне не нравится. Джеральду больше всего нравится пахарь в рваных брюках, он пашет на быке, – по-моему, это немецкий крестьянин. Фигурка бело-серая – на нем белая рубашка и серые брюки, она очень блестит и искусно сделана. А мистер Биркин считает, что самая красивая из всех них девушка в расписанной нарциссами юбке, сидящая под цветущим боярышником и обнимающая ягненка. Но это смешно, потому что ягненок-то вовсе не похож на ягненка, да и она выглядит как-то глупо.
Дорогая мисс Брангвен, приезжайте скорее, вас здесь очень не хватает. Прилагаю рисунок, изображающий сидящего на кровати папу. Он говорит, что надеется, что вы не бросите нас. О, дорогая мисс Брангвен, я уверена, что вы нас не бросите. Возвращайтесь скорее, будем рисовать хорьков, они самые прекрасные и благородные из всех зверьков. Мы можем вырезать их из древесины дуба, изобразив, как они играют, на фоне будет зеленая листва. Вырежем их, ладно? Они такие чудесные.
Папа говорит, что нам можно будет оборудовать мастерскую. Джеральд говорит, что для этого прекрасно подойдет помещение над конюшней, только нужно будет сделать окна в крыше, а это совсем нетрудно. Тогда вы сможете оставаться здесь целыми днями и работать, и мы сможем жить в мастерской, как два самых настоящих художника, как человек на картине в холле, со сковородкой в руках и картинами на стенах. Я страстно мечтаю стать свободной, жить вольной жизнью художницы. Даже Джеральд сказал папе, что только художники бывают свободными, потому что они живут в собственном творческом мире».
Это письмо показало Гудрун, каковы были намерения Кричей. Джеральд хотел привязать ее к своему дому, к Шортландсу, и использовал Винифред как предлог. Отец думал только о своей девочке и хватался за Гудрун как за спасительную соломинку. И Гудрун была благодарна ему за его проницательность. Потому что девочка и в самом деле была необычной. Гудрун была довольна. Она была согласна проводить свои дни в Шортландсе, если ей предоставят мастерскую. Школа ей уже порядком поднадоела, ей хотелось сбросить с себя эти оковы. Если у нее будет мастерская, она сможет свободно продолжать работать и в полной безмятежности будет ждать перемен. К тому же ее очень сильно интересовала Винифред, она с радостью была готова воспользоваться возможностью и узнать девочку поближе.
А в тот день, когда Гудрун должна была вернуться в Шортландс, Винифред устроила маленькую праздничную церемонию.
– Тебе следует набрать цветов и подарить их мисс Брангвен, когда она приедет, – улыбаясь, сказал сестре Джеральд за день до этого.
– Нет, – воскликнула Винифред, – это глупо.
– Вовсе нет. Это самый обычный, но при этом очаровательный знак внимания.
– Нет же, это глупо, – запротестовала Винифред со свойственным ее возрасту крайним упрямством.
Тем не менее, эта мысль ей очень понравилось. Ей очень хотелось претворить ее в жизнь. Она порхала по теплицам и оранжереям, мечтательно разглядывая возвышающиеся на своих стеблях цветы. И чем больше она смотрела, тем больше ей хотелось сделать из них букет, тем сильнее очаровывала ее мысль о предстоящей церемонии, тем застенчивее и сдержаннее становилась она, пока под конец совсем не смутилась. Это желание постоянно преследовало ее. Казалось, некая вызывающая сила бросала ей вызов, а у девочки не хватало смелости принять его. Поэтому она вновь и вновь ходила по оранжереям, разглядывая розы в горшках, девственно-белые цикламены и волшебные белые корзинки цветущих лиан. О, какими же красивыми они были, какими восхитительными, она была бы на седьмом небе от счастья, если бы смогла сделать идеальный букет и на следующий день подарить его Гудрун. Желание и крайняя нерешительность едва не довели ее до слез.
Наконец, она скользнула к отцу.
– Папочка… – начала она.
– Что, драгоценная моя?
Но Винифред не решалась подойти, она была смущена до слез. Отец взглянул на нее, и жаркая волна нежности, щемящая любовь всколыхнулась в его сердце.
– Что ты хочешь мне сказать, милая?
– Папочка! – ее глаза слегка улыбнулись. – Очень глупо будет, если я подарю мисс Брангвен цветы, когда она приедет?
Больной мужчина взглянул в ясные, умные глаза дочери и его сердце сжалось от любви.
– Нет, любимая, совсем не глупо. С королевами так обычно и поступают.
Винифред это не очень обнадежило. Она смутно подозревала, что в самой идее о королеве было что-то глупое. Но ей так хотелось сделать романтичным это событие!
– Так можно? – спросила она.
– Подарить мисс Брангвен цветы? Конечно, чижик. Скажи Вилсону, я позволяю тебе взять все, что захочешь.
Девочка слегка улыбнулась еле заметной, рассеянной улыбкой, уже представляя себе, как она будет это делать.
– Но они мне нужно только завтра, – сказала она.
– Завтра так завтра, чижик. Поцелуй-ка меня…
Винифред молча поцеловала больного мужчину и покинула комнату. Она вновь обошла все теплицы и оранжерею, высоким, безапелляционным, искренним голосом объяснив садовнику, что ей нужно, и показав ему выбранные ею цветы.
– Для чего они вам нужны? – спросил Вилсон.
– Просто нужны, – отрезала она.
Как бы ей хотелось, чтобы прислуга не задавала лишних вопросов.
– Да, вы это уже говорили. Но зачем все-таки они вам нужны – для украшения, чтобы кому-то послать или как?
– Я хочу сделать букет для приветствия.
– Букет для приветствия! А кто приезжает – герцогиня Портлендская?
– Нет.
– Вот как? Ну, если вы соедините все цветы, что выбрали, в одном букете, то он получится чрезмерно пестрым.
– А мне как раз и нужен чрезмерно пестрый букет.
– Вот как! Тогда больше не о чем говорить.
На следующий день Винифред, надев платье из серебристо-серого бархата и сжимая в руках вызывающе яркую охапку цветов, с острым нетерпением ждала в классной комнате когда приедет Гудрун, постоянно выглядывая на дорогу. Утро выдалось дождливое. Девочка ощущала необычный аромат оранжерейных цветов, букет был для нее маленьким костром, зажегшим в ее сердце странный, незнакомый огонь. Легкая романтическая атмосфера пьянила ее.
Наконец, Гудрун показалась, и Винифред побежала вниз предупредить отца и Джеральда. Они рассмеялись ее волнению и серьезности и вместе с ней спустились в холл. Лакей уже спешил к двери, и в следующую секунду он уже брал у Гудрун зонтик и плащ. Хозяева дома стояли поодаль и ждали, когда их гостья войдет в холл.
От дождя Гудрун раскраснелась, ветер выбил ее волосы из прически и теперь они завились мелкими колечками. Она походила на цветок, только что распустившийся под дождем, обнажая свое сердечко и испуская тепло впитанного солнечного света.
У Джеральда сжалось сердце, когда он увидел ее красоту и понял, что совсем ее не знает.
Она была в нежно-голубом платье и темно-красных чулках.
Винифред приблизилась к ней с непривычно торжественным и официальным видом.
– Мы так рады, что вы вернулись, – произнесла она. – Это вам.
И она подарила свой букет.
– Мне! – воскликнула Гудрун.
Она на мгновение растерялась, но затем ее лицо вспыхнуло жарким румянцем, казалось, радостное пламя на мгновение ослепило ее. Она подняла загадочный, горящий взгляд на мистера Крича и на Джеральда. И у Джеральда вновь все сжалось внутри, точно выше его сил было видеть ее жаркий, откровенный взгляд. Она обнажила свою душу перед ним, и это было невыносимо. Он отвернулся, чувствуя, что между ними что-то неизбежно должно было произойти. И он пытался разорвать путы этой неизбежности.
Гудрун поднесла цветы к лицу.
– Какие они красивые! – растроганно произнесла она. И затем, охваченная внезапным порывом, наклонилась и поцеловала Винифред.
Мистер Крич подошел и протянул ей руку.
– Я боялся, что вы сбежите от нас, – шутливо сказал он.
Гудрун посмотрела на него светящимся, плутовским, непонятным ему взглядом
– Неужели! – ответила она. – Нет, мне не хотелось оставаться в Лондоне.
Тем самым она дала понять, что рада вернуться в Шортландс. Ее голос был теплым и ласковым.
– Это хорошо, – улыбнулся мистер Крич. – Видите, все в этом доме очень рады видеть вас здесь.
Гудрун с теплотой и застенчивостью посмотрела на него своими темно-синими глазами. Сознание своей силы заставило ее позабыть обо всем на свете.
– И, похоже, вы вернулись, радуясь полной победе, – продолжал мистер Крич, удерживая ее руку в своей.
– Нет, – сказала она, загадочно улыбаясь. – Что такое радость, я не знала, пока не приехала сюда.
– Полно, полно! Мы не собираемся слушать эти россказни. Разве мы не читали в газетах отзывы, Джеральд?
– Вы хорошо показали себя, – отозвался Джеральд, пожимая ей руку. – Удалось что-нибудь продать?
– Так, – ответила она. – Не очень много.
– Неважно, – сказал он.
Она спрашивала себя, что он хотел этим сказать. Но она вся светилась, настолько ей понравился оказанный ей прием, настолько ее захватила эта маленькая церемония в ее честь, очень польстившая ее самолюбию.
– Винифред, – сказал отец, – ты ведь найдешь сухие туфли для мисс Брангвен? Вам лучше скорее переодеться.
Гудрун вышла, сжимая в руке букет.
– Совершенно неординарная молодая женщина, – заметил отец Джеральду, когда она ушла.
– Да, – коротко отрезал Джеральд, как будто замечание отца было ему неприятно.
Гудрун проводила в комнате мистера Крича около получаса – ему это очень нравилось. Обычно он выглядел разбитым и бледным, как смерть и казалось, что жизнь вытекает из него капля за каплей. Но как только ему становилось легче, ему нравилось представлять, что он такой же, как и прежде, – здоровый мужчина в самом расцвете сил, что он не пленник потустороннего мира, что он по-прежнему крепок и живет полной жизнью. И Гудрун великолепно подыгрывала этой его фантазии. Когда она была рядом, на драгоценные для него полчаса он вновь обретал силу, жизненную энергию и совершенную свободу, и в эти полчаса он жил более полной, чем когда-либо ранее, жизнью.
Она пришла к нему в библиотеку, где он лежал обложенный подушками. Его лицо походило на желтоватую восковую маску, взгляд был темным и невидящим. Его черная бородка, подернутая сединой, теперь, казалось, росла из восковой плоти трупа. Однако он казался веселым и энергичным. Гудрун прекрасно умела подыгрывать ему. Она воображала, что он самый обычный человек. Но жуткое выражение его лица навсегда запечатлелось в ее душе, проникло в самое ее подсознание. Она знала, что, несмотря на всю свою веселость, его взгляд навсегда останется пустым – это были глаза мертвеца.
– А вот и мисс Брангвен, – сказал он, внезапно оживляясь, когда слуга доложил о ней и она вошла в комнату. – Томас, придвинь мисс Брангвен стул вот сюда – да, вот так.
Он с удовольствием смотрел на ее мягкое, свежее лицо. Оно давало ему иллюзию жизни.
– А теперь, полагаю, вы не откажетесь выпить рюмку хереса и съесть маленькое пирожное. Томас…
– Нет, благодарю вас, – ответила Гудрун.
Но при этих словах ее сердце сжалось от ужаса. Казалось, услышав отказ, больной мужчина погрузился обратно в пучину смерти. Она должна была подыгрывать ему, а не перечить. Через минуту она уже улыбалась своей лукавой улыбкой.
– Я не очень люблю херес, – сказала она. – Зато не откажусь от чего-нибудь другого.
Больной мгновенно ухватился за эту соломинку.
– Никакого хереса! Нет! Что-нибудь еще! Что же? Что у нас есть, Томас?
– Портер, кюрасао…
– С удовольствием выпью кюрасао, – сказала Гудрун, доверчивыми глазами смотря на больного.
– Конечно. Итак, Томас, кюрасао – и маленькое пирожное. Или печенье?
– Печенье, – сказала Гудрун.
Ей ничего не хотелось, но она была мудрой девушкой.
– Да.
Он ждал, пока она усядется поудобнее с рюмкой ликера и печеньем. Теперь он был доволен.
– Вы слышали, – начал он с каким-то воодушевлением, – о наших планах устроить для Винифред мастерскую над конюшней?
– Нет! – притворно-удивленно воскликнула Гудрун.
– О! А мне казалось, что Винифред писала об этом в письме.
– Ах да, конечно. Но я думала, что это только ее фантазии, – снисходительно и проницательно улыбнулась девушка. Больной мужчина воодушевленно улыбнулся.
– Нет-нет. Все так и будет. Под крышей конюшни есть прекрасная комната – с наклонными балками. Мы подумываем о том, чтобы превратить ее в мастерскую.
– Это было бы великолепно! – с взволнованной теплотой воскликнула Гудрун. Балки под крышей ей нравились.
– Вы находите? Это вполне можно устроить.
– Как чудесно это будет для Винифред! Если она собирается заниматься серьезно, то это как раз то, что нужно. У художника обязательно должна быть своя студия, иначе он так и останется любителем.
– Вот как? Да. И мне очень хотелось бы, чтобы вы разделили ее с Винифред.
– Огромное вам спасибо.
Гудрун уже обо всем этом знала, но ей приходилось казаться застенчивой и взволнованной, словно ее переполняло чувство благодарности.
– Но больше всего мне хотелось бы, чтобы вы бросили свою работу в школе и использовали мастерскую на свое усмотрение – работайте в ней столько, сколько пожелаете.
Он смотрел на Гудрун темными, пустыми глазами. Она ответила на это взглядом, полным благодарности. Слова умирающего человека, словно эхо, доносившиеся из его мертвого рта, были неподдельно прекрасными и естественными.
– Что касается вашего заработка – вы же не откажетесь принять от меня столько, сколько вам платит Комитет по образованию? Я не хочу, чтобы вы лишились своего дохода.
– О, – сказала Гудрун, – если я смогу работать в мастерской, то я смогу достойно зарабатывать, не беспокойтесь.
– Ну, – сказал он, радуясь, что ему выпал шанс стать благодетелем, – думаю, мы все это уладим. Вы не против пожить здесь?
– Если есть мастерская, где я могу работать, – ответила Гудрун, – мне больше не остается ничего желать.
– Правда?
Он был очень рад. Но силы его истощились. Она видела, как серая, ужасная пелена боли и разложения, застилавшая его разум, вновь накатила на него, и в пустых потемневших глазах появилась мука. Процесс умирания не прекращался ни на минуту. Гудрун поднялась и мягко сказала:
– А теперь вам следует поспать. Пойду поищу Винифред.
Она вышла, сказав сиделке, что он остался один. Тело больного мужчины умирало день за днем, смерть подбиралась все ближе и ближе к последнему узлу, который еще не давал его человеческой сущности распасться на части. Однако этот узел был крепким и нерушимым – воля умирающего ни на мгновение не дала слабину. Да, на девять десятых он был мертв, однако оставшаяся десятая доля оставалась неизменной, пока смерть не уничтожит и ее. Именно воля не позволяла развалиться его существу, но с каждым днем подчиняющаяся ей зона становилась все меньше и меньше; в конечном итоге от нее останется лишь маленькая точка, которая тоже будет сметена.
А для того, чтобы цепляться за жизнь, ему были необходимы человеческие взаимоотношения, поэтому он хватался за последнюю соломинку. Винифред, дворецкий, сиделка, Гудрун, – все эти люди, с которыми его связывали известные взаимоотношения, служили ему последними источниками, из которых он мог черпать силы. Джеральд в присутствии отца каменел от отвращения. То же самое происходило и с другими детьми, за исключением Винифред. Когда они смотрели на отца, они видели одну только смерть. Их охватывало глубинное отвращение. Они не могли смотреть на знакомое лицо, не могли слышать знакомый голос. Зрелище и звуки смерти пробуждали в них крайнюю антипатию. У Джеральда в присутствии отца перехватывало дыхание. И ему приходилось тут же уходить прочь. Но и отец также не выносил присутствия своего сына. В душе умирающего сразу же просыпалось сильное раздражение.
Когда мастерская была готова, Гудрун и Винифред перенесли в нее все свои вещи. Они получали удовольствие, обставляя ее и приводя в порядок. Теперь они могли вообще не появляться в доме. Они ели в мастерской, и проводили там время в полном умиротворении. А атмосфера в доме постепенно становилась жуткой. Две сиделки в белых одеждах, словно вестники смерти, медленно скользили по дому. Отец уже не вставал, братья, сестры и дети, постоянно посещающие его, наполняли дом приглушенными разговорами.
Винифред регулярно навещала отца. Каждое утро после завтрака она шла в его комнату, где его умывали и усаживали в кровати, и проводила с ним около получаса.
– Тебе лучше, папочка? – задавала она ему неизменный вопрос.
И он также неизменно отвечал:
– Да, мне кажется, что немного лучше, котенок.
Она любовно и заботливо брала его руку в свои. И это мгновение было ему очень дорого.
В середине дня она прибегала снова и рассказывала ему про все произошедшее, а по вечерам, когда задвигались занавески и комната становилась уютной, она сидела у него очень долго. Гудрун возвращалась домой, Винифред была в доме одна: больше всего ей нравилось находиться рядом с отцом. Они болтали о пустяках, и он становился таким, как до болезни, когда он мог еще ходить. Поэтому Винифред, с тонким умением избегать болезненных тем, свойственным лишь детям, вела себя так, как будто ничего серьезного не происходило. Инстинктивно она не обращала на это внимания и была счастлива. Однако в глубине души она понимала, что происходит, так, как это понимали взрослые – а возможно, даже и лучше.
Отец довольно умело поддерживал в ней эту иллюзию. Но когда она уходила, он вновь попадал в объятия смерти. Но он еще радовался этим светлым моментам, хотя по мере того, как иссякали его силы, ему все труднее и труднее было сосредоточиваться, и сиделке приходилось отсылать Винифред, чтобы не истощать его силы.