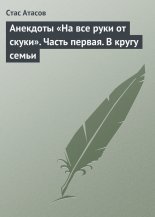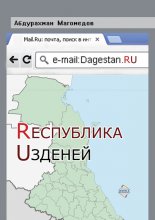Вид с метромоста (сборник) Драгунский Денис

Была у нас в дачном поселке бригада маляров. Две женщины и мужчина. Работали, кстати, неплохо и, в общем, недорого.
Бывало, прожду их целый день. Нету! И телефон ни у кого не отвечает. Назавтра иду по поселку, вижу – вот они идут, голубчики.
Здороваются как ни в чем не бывало.
Я говорю:
– Сергей! Наташа! Люба! Вы что? Мы ведь договорились, что вы придете?
– Ну да, – степенно отвечает Сергей.
– Что вы в четверг, вчера то есть, придете к восьми утра?!
– Ну да, – кивает он.
– Где ж вы были?! Я вас ждал! Я специально заранее, с вечера приехал!
Сергей смотрит на меня сквозь старенькие исцарапанные очки и достойно, невозмутимо, негромко, как-то даже величественно, почти что царственно говорит:
– Обстоятельства изменились.
И разводит руками.
Что это за обстоятельства, я понял чуть позже.
В следующий раз они сказали, что работают у нашей соседки. И что она их очень задерживает, прямо вот не выпускает с участка.
Я решил соседке позвонить.
– Здрасьте, – сказал я. – Это Денис Драгунский… Я насчет маляров.
– Я уж собралась вам звонить, – сказала она. – Когда вы их отпустите ко мне?
Оказалось, эти орлы работали в третьем месте.
Только ты
тщетны были бы все усилья
«Один раз он не пришел вечером, – рассказывала Нина Павловна. – Девять, десять, одиннадцать. Сотовых тогда не было, восемьдесят третий год. Мы только поженились, Леночке полгодика. Да у нас вообще телефона не было! Двенадцать ночи. Что делать, куда бежать? Я одна с грудным ребенком. Вдруг меня такая злоба взяла. Думаю: придет пьяный, весь в помаде. Хотя никогда такого не было. Но я вот так себе представила. И я ему скажу: „Вон отсюда, не нужен ты мне! Не пропадем без тебя! Уходи!“
И только приготовилась – явился. Весь пропотел, руки черные. Смеется, извиняется и восемьдесят рублей мне протягивает, красненькими десятками. Их с ребятами позвали что-то монтировать, левая работа. И он поехал, денежку сшибить. Для дома, для семьи. Восемьдесят рублей! Тогда это была сумма. Он получал сто пятьдесят примерно, а я на пособии сидела.
Я его обнимаю, свитер с него снимаю, а у самой настроение ужасное. Как будто что-то отняли. Кусок изо рта выдернули. Почему?
И вдруг обмираю. Поняла! Потому что я хотела его выгнать. Повод искала.
Но почему, спрашивается?
Сама не знаю.
Красивый, умный, добрый. Аккуратный. Бреется электробритвой. С утра бритва зудит, спать не дает. И перед сном. Перед сном-то зачем? „А чтоб тебе было приятно целоваться“. Ага, понятно. „Тебе приятно?“ Приятно, приятно.
И придраться не к чему. Хороший отец. Ни разу на меня голос не повысил. Растет по службе, всё в дом. При Гайдаре у него с ребятами небольшой бизнес был. Другие – зубы на полку, а у нас всё есть. Потом в министерство устроился.
Наконец решила: хватит ждать. А то жизнь совсем пройдет. Тем более что Леночка уже на втором курсе.
Всё, думаю, сегодня скажу. Пришла домой, а там стол накрыт, вино, цветы. Ленка вся сияет. Кем-то там его назначили или куда-то выбрали, я даже не поняла… Но неудобно стало.
А еще через пять лет, то есть шестого апреля пятого года, время восемь тридцать, сижу в кресле, смотрю фильм по плееру, апельсин чищу.
Входит мрачный. „Нина, нам надо поговорить. Ты умная, ты всё поймешь. За Леночку не беспокойся, я ей буду помогать“.
Господи, думаю, неужели нашел себе кого-то?
– Уходишь от меня? – спрашиваю.
Он кивает.
А меня слеза прошибла. Плачу от радости, удержаться не могу. Хоть в сорок четыре, а всё-таки жить начну.
Вдруг вижу: он тоже заплакал.
Стал на колени, головой мне в живот уткнулся.
– Нинуся, прости меня. Я никогда тебя не брошу! Столько прожито, столько пережито… Никто меня так любить не сможет, как ты любишь!
А я как раз апельсин чистила, я же говорю.
Ножик маленький, но острый-острый.
Как вы думаете, мне дадут УДО? Я уже четыре года без замечаний».
Правда
рассказ моего приятеля
Мой приятель, художник Сева Ш., рассказывал:
«Был на соседнем факультете такой Саша, непростой парень, сын генерала и внук сталинского наркома, но они с матерью жили в коммуналке, очень бедно, потому что этот генерал их бросил довольно давно. Но это неважно.
Вот он однажды познакомил меня с очаровательными, чистейшими и милейшими девушками – он так выражался. Девочки были как две капли – близнецы. Лена и Ася. У одной пучок, у другой хвостик.
Недели две у нас был многоугольник: Саша влюблен в Лену и Асю; Лена и Ася обе влюблены в меня; а я всё никак не мог определиться.
Потом я выбрал Асю. Не специально. Как-то так получилось. А Саша оказался побоку.
Потому что Лена всё время была рядом с сестрой. Даже когда всё свершилось, она спала в углу на диванчике. Я знакомил ее со своими друзьями. Ничего не выходило. Мы существовали втроем. Нет, с Леной у меня ничего не было. Хотя на самом деле было очень много. Мы мечтали, как я и Ася поженимся, а Лена будет жить с нами. Просто как Асина сестра. Иногда мы валялись на кровати втроем в обнимку – безо всякого, по-дружески.
Потом мне всё это стало, ну, не то что бы надоедать, а перестало вдохновлять. Хотя Ася была замечательная, и Лена тоже. Будущее показало».
– В смысле? – спросил я.
– Они потом обе мощно процвели, – сказал Сева. – Только не надо догадки строить, ладно?
– Ладно, – сказал я.
«Вот, – продолжал Сева. – Однажды была какая-то пьянка, и я увел Лену. Одну. В такси она дрожала, вцепившись мне в руку, и говорила, как ей стыдно перед Асенькой. Приехали, в прихожей поцеловались первый раз по-настоящему, и вдруг она спросила: „А ты меня любишь?“ Очень неприличный вопрос. Я сказал еще более неприличную фразу: „Я люблю другую женщину“. „Асеньку?“ – спросила она. „Нет“, – сказал я. „Кто же наша счастливая соперница?“ – „Наташа К.“, – сказал я.
Вот и вся история. Чудесные были девочки. Были, конечно, и ссоры, и обиды, и слезы, но слезы высыхали, и ясные серые глаза смотрели на меня с невозможной, нереальной какой-то любовью. И все эти бесценности я отдал за кошмарную, в сущности, тварь.
Но не могли же мы, в самом деле, жить втроем! А быть с какой-то одной – всё бы пропало. Потому что когда я похитил Лену и потащил к себе одну, всё стало сразу пропадать. Уже в такси.
Как мне было жаль их бросать ради Наташки! Как это было глупо и как я этого не хотел, но что же было делать?
Никогда не забуду, как Ася спросила меня, когда всё свершилось: „Мы с тобой теперь навсегда, правда?“ Я ответил: „Правда“. Я не врал, я тогда верил, что правда. И знаешь, ведь это и сейчас правда».
– Правда? – спросил я.
– Правда, – сказал он.
А тем временем где-то
этнография и антропология
Иногда вдруг хочется путешествовать.
Это желание обуревает меня на несколько минут. Хочется аэропорта, самолета (обожаю летать на самолете!), незнакомого аэропорта в месте прибытия. Хочется ехать на такси или на электричке, глядеть в окно сначала на сады и поля, потом на пригородные домики. Въезжать в город. Заселяться в гостиницу.
Хочется жадной прогулки в первый же день на еще затекших от сидения в самолете ногах, хочется, как это всегда в первый день приезда бывает, забежать в глупо дорогой ресторан. Хочется всматриваться в чужие лица, угадывать слова чужой речи, щупать разные совершенно ненужные вещички в магазине. Запрокидывать голову, глядя на шпили, капители и просвеченные заходящим солнцем розетки в полутемных готических соборах. Читать вывески и таблички у парадных подъездов: «доктор…», «адвокат…», «инженер…».
Вдруг вспомнилось: у одной моей подруги юности папа был директор завода, и у них на двери квартиры висела латунная табличка «Инженер Фирсов А.А.» – буквы тридцатых годов, когда слово «инженер» звучало очень гордо, – но это случайно вспомнилось, я же про путешествие.
Читать вывески и таблички, немножко заплутать, вернуться на чугунных ногах в отель и еще полчаса перед сном пялиться в чужестранный телевизор. И слушать шум улицы за окном.
Но это хотение длится у меня ровно столько, сколько вам надо времени, чтобы эти строки прочесть.
А дальше я снова возвращаюсь в скучное «да ну…».
Очень быстро проходит это веселое стремление мчаться куда-то.
Мой папа говорил мне, что я – в ранней юности, разумеется, дело было – страдаю болезнью под названием «а тем временем где-то».
Мне постоянно хотелось мчаться.
Я был убежден, что самая приятная компания, самая шумная попойка, самые классные девочки – не здесь, а где-то там. И я мчался. Я обожал за один вечер обежать две или три компании. У меня всегда была толстая-претолстая, замусоленная, исписанная вдоль, поперек и наискосок записная книжка и полный карман двушек, для автомата. Такой вот как бы мобильник 1970-х. Я звонил и мчался.
Куда это желание подевалось, не могу догадаться.
Вернее, очень даже могу.
Брат. 9 ноября 2007 года
гроб должен быть закрыт, заколочен
Первая Градская, корпус 17, как мне сказала племянница. Въехать, конечно же, не позволяют. Иду метров двести до этого места. Ветер, как всегда в таких случаях. Корпус 17. Надпись «Патолого-анатомическое отделение». Сбоку дверь. Толпятся люди с цветами. Вижу знакомых. Захожу в небольшую многоугольную прихожую. В противоположной от входа стене – дверь. Рядом с дверью надпись (на белом листе, от руки, но крупно): «Договорившихся с другими похоронными фирмами не обслуживаем». По левой стене – несколько гробовых крышек. Под ленты подсунуты квитанции и листочки с крупно распечатанными фамилиями.
Все стоят полукругом. Теснятся. В дверь дует. В середине пусто. Думаю, что сейчас из дальних дверей вынесут (или выкатят) гроб. Но нет. Начало церемонии в 12, мы опоздали и приехали в 12:20, но еще ничего не началось. Вдруг кто-то проходит в эти дальние двери, снова выходит, потом его кто-то зовет снова туда, и вот двустворчатые двери раскрываются, и нас жестами приглашают зайти.
Там круглая невысокая и не очень большая комната. Низкие окна. Под окнами грубо беленные чугунные радиаторы. Две ниши в стене, одна напротив другой, со скульптурами – крашенный белой масляной краской гипс. Скульптуры изображают скорбь – полуобнаженные дамы склоняют головы над погребальными урнами. Посреди комнаты на грубом шестиногом столе гроб. В изножии цветная фотография моего брата. Много цветов. Цветы горой лежат в гробе. Много людей, много речей, все говорят очень хорошо, искренне. Заканчивается панихида. «Давайте прощаться», – говорит тот, кто ведет панихиду.
Прощаемся. Все подходят к гробу, трогают край, кто-то крестится, кто-то отдает последнее целование. Прощаются, и выходят, и идут через эту прихожую наружу, во двор.
Вот остались только родные. Я последний. Последний раз гляжу на своего брата, целую ледяной лоб. Мне хочется плакать. Я плачу. Потом я делаю шаг назад и соображаю, что все ушли, и стоит незакрытый гроб с неловкой горой цветов. Как будто мой брат остался один в самом что ни есть беспомощном состоянии – мертвым.
К стене комнаты прислонена крышка. Я трогаю ее и понимаю, что один не справлюсь.
Из дверцы сбоку выходит коренастая тетка в сизом халате. Раскоряченная, кричаще уродливая. Служительница морга.
Я говорю: «Надо закрыть гроб». Она говорит: «Сейчас ребята придут, закроют». Я говорю: «Ну, и где же они?» – «Да сейчас, сейчас придут, куда денутся», – говорит она. Я говорю: «Цветов столько… они не поместятся в гробу, надо их как-то разложить, наверное…» Она говорит: «Вы ж их с собой брать не станете? А хотите, берите, ваши цветы, заберите, сколько вам надо». Я еще раз говорю: «Ну, может, давайте мы с вами закроем гроб всё-таки…» – и берусь за крышку. Она отвечает, не трогаясь с места: «Ребята сделают, я ж сказала. Идите, идите на поминки, а мы тут всё сделаем, не переживайте… Ребята, наверное, обедают. Сейчас придут, и закроют, и отвезут… а вы идите, не переживайте».
Я постоял еще минуту и ушел. Надо было, конечно, дождаться. Послушать этот страшный, но обязательный стук молотка, заколачивающего гроб.
Иначе это не похороны. Получается, что я (мы все) его как бы не «похоронили» в прямом смысле слова – не поместили в «захоронку», в закрытое место, где хранят. Коль не в могилу, так хоть бы в гроб.
Не вышло. Ребята были на обеде.
Чувствую осколок ужасного внутри себя. Как будто я нарушил какой-то древний и важнейший закон. Но, утешаю я себя, там были его жена, дочь, зять, почти взрослый внук, сестра с мужем…
Да, конечно, и я, и зять моего брата, и его внук, и муж нашей с ним сестры могли бы вчетвером закрыть гроб. Но они ушли уже. А позвать их я не догадался.
Июньской ночью
по нечетной стороне
После ужина Филиппов решил пройтись.
Он вышел из кафе, где просидел часа два, и двинулся по Новослободской к Савеловскому, по нечетной стороне. Он хотел дойти до конца улицы, потом повернуть налево, обойти громадный треугольный дом и по Бутырскому Валу вернуться немного назад, а там был переход через ветку железной дороги – и вот так выйти на Пятую улицу Ямского Поля и потом насквозь до улицы Расковой, где он снял квартирку.
Вся жизнь прошла в этом районе. Страшное дело.
Было поздно, но почти светло. Потом стало быстро темнеть – туча закрыла небо, и всё-таки четверть двенадцатого.
На Новослободской было шумно и людно. Филиппов с удовольствием смотрел на молодых парней и девчонок, как они идут в обнимку, пьют пиво и свободно себя чувствуют.
Он долго стоял на светофоре у Лесной. Перешел на зеленый свет.
На углу был магазин со странным названием «Палантир». Давным-давно здесь был универмаг «Молодость».
– Молодость, где ж ты, молодость… – промурлыкал Филиппов.
В витринах висели громадные люстры с ценниками. Пригляделся – люстры стоили по полтораста тысяч, а одна, с розовыми стеклянными цветами, вообще полмиллиона рублей.
– Совсем с ума сошли! – засмеялся он.
Этот кусок улицы был совершенно пуст. У арки, которая вела к проходной Бутырской тюрьмы, стоял микроавтобус с надписью «срочная юридическая консультация». Филиппов помотал головой и пошел дальше.
Из подъезда следующего дома вышли двое, встали на тротуаре. Менты в штатском, Филиппов сразу понял.
– Ваши документы! – мент заступил дорогу и показал свою корочку.
Филиппов вытащил паспорт. Паспорт был очень хороший, с московской регистрацией. Мент пролистал его, спрятал в карман и сказал:
– Пройдемте. Понятым будете.
Филиппов вздохнул и сказал, что можно было просто попросить.
– Просто никто не хочет, – сказал второй мент. – Ну, ладно. Мы вас просим.
Филиппов солидно выглядел: костюм, очки, седая бородка.
– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал менту Филиппов.
В комнате обыскивали мужчину лет сорока. На столе лежали пачки денег, травматика. Потрошили сумку. В углу сидела еще одна понятая, по виду продавщица из киоска.
– Вот, – сказал дознаватель и показал плоскую коробочку.
– Подкинули! – крикнул мужчина.
Филиппов узнал его; двадцать лет назад он был похудее, конечно. Но как был мелкотой, сявкой, так и остался. Не жалко. Он посмотрел в окно. Там был темный двор, и не верилось, что в ста шагах веселая ночная Москва.
– Подпишите, – сказал мент.
Филиппов подписал.
– Благодарю, – сказал мент, отдавая паспорт.
– Пожалуйста, пожалуйста, – улыбнулся Филиппов. – Обращайтесь!
Выйдя наружу, он пошел дальше, но потом свернул в Угловой переулок, прошел его насквозь, поймал такси, доехал до Белорусского вокзала, купил билет на экспресс до «Шереметьево».
Бумажник был с собой, остальное неважно.
Утром улетел в Калининград и больше в Москву не ездил.
У любви, как у кошки, хвостик
Кармен-сюита
Хочется сочинить сюжет для оперы.
Например, такой.
Дон Хозе, отсидев срок, возвращается в родной город.
На площади он встречает свою бывшую невесту Микаэлу. Она красива и пышно одета. Ее сопровождают Фраскита и Мерседес; они заискивают перед ней.
Хозе полон раскаяния. Он просит у нее прощения за горе, которое он ей причинил, связавшись с Кармен и разорвав помолвку.
Микаэла насмешливо отвечает, что даже благодарна ему. После его ареста она вышла замуж за капитана Цунигу и прибрала к рукам сигарную фабрику и всю табачную торговлю в городе.
Она дает Хозе несколько золотых и просит больше ее не беспокоить.
В гостиничном ресторане Хозе встречает Цунигу. Тот рассказывает, что оказался под каблуком у Микаэлы, оборотистой и злой бабы. Ругает ее.
Хозе вступается за свою бывшую невесту и вызывает Цунигу на дуэль. Тот говорит, что нужны секунданты. Забежавшая в ресторан Фраскита зовет Данкайро и Ремендадо. Бывшие контрабандисты, они стали полицейскими. Они хором убеждают Хозе, что это глупо вызывать на дуэль мужа бывшей невесты.
Ресторан пустеет.
Задержавшийся у стойки Данкайро говорит, что в городе жить скучно, и даже веселая Кармен уже не та.
– Кармен? – изумлен Хозе. – Ведь я ее убил!
– Ей сделали операцию, – отвечает тот. – Она выжила. Но теперь уже не танцует. Она торгует в табачном киоске.
Наутро Хозе идет за сигаретами. Он издалека видит Кармен, как она отпирает киоск. Боже, как она изменилась! Располневшая, седая, печальная.
Она оборачивается и узнает его. Старая любовь пронзает ее сердце. Она обнимает Хозе, умоляет простить ее, говорит, что прощает ему тот удар кинжалом. В душе у Хозе просыпаются воспоминания. Кармен предлагает ему жить у нее в доме, и он готов пойти с нею.
Тут на площади появляется Микаэла в сопровождении Эскамильо. Он, как председатель городского общества защиты животных, просит у богачки Микаэлы благотворительный взнос. Он флиртует с ней, целует ей руки, она воркует в ответ.
Хозе смотрит то на Кармен, то на Микаэлу.
Микаэла кажется ему гораздо красивей. Он возмущен, что Эскамильо опять отнимает у него любимую женщину, правда – другую. Он вынимает нож, но Кармен выбивает его у Хозе из рук.
– Ты мой! – говорит она и обращается к Микаэле: – Сеньора, позвольте мне начать торговлю на час позже, я провожу моего жениха к себе в дом, он приехал издалека, сеньора.
– Хорошо, – говорит Микаэла. – А ты за это поработаешь до восьми вечера.
– Да, сеньора, – кланяется Кармен и берет Хозе за руку.
– Нет! – восклицает Хозе. – Прочь, цыганка! Я люблю ее! – и бросается на колени перед Микаэлой.
Кармен хватает с земли нож, вонзает его в шею Хозе.
– Полиция! – кричат Микаэла и Эскамильо.
Появляются Ремендадо и Данкайро.
– О, что же будет со мною? – рыдает Кармен.
Микаэла обнимает ее и говорит ей и одновременно полицейским:
– Оформим как необходимую оборону.
В смысле – не говорит, а поет.
Изменник
слова и смыслы
Один молодой человек стоял перед письменным столом.
Стол был придвинут к окну. Комната была маленькая. Еще там была кровать, желтый старенький шкаф и кусочек ковра на линолеумном полу.
Дело было после обеда.
Дело было в одном не очень далеком, но теперь уже заграничном городе – случается ведь такое, когда наши города вдруг становятся иностранными, – но ничего особенного, кстати. Примерно полвека назад это происходило в Британской империи, а в Средние века вообще было обычным делом.
Что-то я отвлекся. О чем это я?…
Да, вот о чем. В одном теперь уже заграничном городе был пригород. А в пригороде был дом отдыха. И в этом доме отдыха жили участники летней школы молодых ученых.
Поэтому на письменном столе лежали книги с закладками, тетрадки, карандаши и блюдце с недогрызенным яблоком. Еще пепельница. Пачка сигарет и зажигалка.
А еще на столе сидела девушка Маша.
Она обнимала молодого человека, а он ее. Он стоял, она сидела на столе и обнимала его не только руками, но и ногами тоже, у нее были сильные ноги в черных бриджах, белых носках и кедах. И этими прекрасными ногами она обнимала его за бедра, пока он обнимал ее за плечи и талию. Такие у них были раскованные, но на данный момент пока еще невинные ласки.
Потому что у них пока еще ничего не было. Они подружились только позавчера. Хотя знакомы были уже года полтора, наверное. Они оба были молодые ученые из одного и того же института, но раньше как-то не обращали друг на друга внимания. А тут буквально с первого дня всё началось, прямо в автобусе, который вез их на эту летнюю школу.
Они обнимались и болтали о всякой ерунде, и вдруг она спросила:
– А что Алиса скажет? Не обидится? Скажет Алиса: «А ну-ка, колися!»
Она произнесла «Алися», так что вышло в рифму.
Алиса была жена молодого человека. Они поженились два месяца назад. Она работала в том же самом институте, но на летнюю школу не поехала.
Молодому человеку эти шутки не понравились.
– Пока что нет, не обидится, – сказал он. – Пока что я ей не изменяю.
– Ах, не изменяешь? – Маша сильно оттолкнула его, соскочила со стола и крикнула. – А ну вон отсюда!
Крикнула вроде бы смеясь, но на самом деле совершенно серьезно.
Он попытался обнять ее, но она вырвалась. Он обхватил ее обеими руками, она больно уперлась кулаками ему в грудь. Он не отпускал и бормотал: «Прости, прости, прости». Наконец она опустила руки и шепотом спросила:
– Ну что? Изменяешь?
– Изменяю, – сказал он. – Уже два дня изменяю.
Она обняла его.
Потом, через полгода примерно, он развелся с Алисой.
Но женился не на Маше, а совсем на другой.
Сестры – нежность и точность
этнография и антропология
Однажды вечером, примерно в половине шестого, я сидел в уличном кафе на Малостранской площади в Праге, на углу собственно площади и Мостецкой улицы, которая ведет к Карлову мосту. Пил кофе, ел пирожок и глядел на храм Св. Николая, на трамвайную остановку, на светофоры, которые загорались красивым красным цветом.
В Праге вообще много красивого красного – розы и гортензии, названия улиц и номера домов, шарфы, занавески и даже красная подкладка сюртука у какого-то странного джентльмена.
Но я про другое.
Рядом со мной, за соседним столиком, сидели две девушки. Даже, можно сказать, девочки. Они пили зеленый чай из высоких толстостенных фаянсовых чашек. Еще на столе был большой фотоаппарат – один на двоих.
Они устали, сбросили туфли. Одна поджала ноги под себя, скрестила их и сидела почти что в позе лотоса.
Другая вытянула ноги под столом и, поставив пятки на перекладину, сводила и разводила стопы. У нее были трогательно толстенькие пальцы с короткими ненакрашенными ногтями, да и сами ножки у нее были толстые и короткие.
Лотос и Коротышка.
Они довольно громко разговаривали, вроде бы по-чешски. Но с официантом вдруг заговорили по-английски. То есть это были не чешки. Хотя язык был прохож на славянский. Но точно не знаю. Не разобрался, не расслышал.
Не в том дело.
Официант принес им пиццу, а также вилки и ножи.
Лотос разрезала пиццу на четыре куска и уронила свой нож. Красиво и ловко нагнувшись, подобрала его с каменного пола. Коротышка что-то сказала ей. Наверное, «брось его, он грязный!». Лотос засмеялась и положила нож на стол. Подула себе на пальцы, обтерла их салфеткой. Коротышка засмеялась тоже.
Они стали есть пиццу руками.
Потом допили чай.
Потом стали говорить о чем-то очень тихо.
Официант унес пустую посуду.
Коротышка положила руки на стол, медленно протянула их вперед. Лотос положила лицо ей в ладони. Коротышка погладила ей щеки. Лотос приподняла голову и посмотрела на подругу. Она тихонько шевелила губами, касаясь ими Коротышкиных пальцев.
Потом они позвали официанта. Он принес счет.
Они полезли в кошельки, достали по сто крон каждая. И еще по какой-то монетке. И расплатились точно пополам.
Почему?
А нипочему. Потому что только так.
Вот так, и точка.
Спасительница
слава честным почтальонам
Вот какую историю мне рассказал один человек в Праге.
Будто бы где-то в сельской местности нашли старый колодец, заваленный листвой и мелким хворостом. Хворост и листву раскопали и увидели, что на дне этого сухого колодца лежит куча каких-то бумажек. Достали.
Оказалось, что это письма. Рядом лежали разорванные конверты. То есть письма были вытащены из конвертов, прочитаны и выкинуты.
Писем было очень много. Несколько сотен.