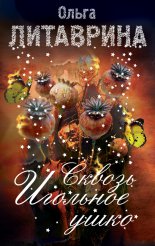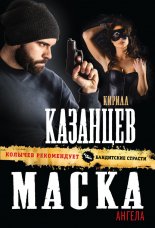Испытание любви Рихтер Андрей
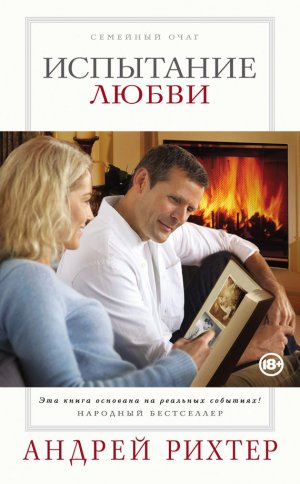
1
Бывает так, что радость оборачивается горем. Неожиданно в Киев из Москвы к Галине приехал в гости сын Виктор с семьей – радость, да еще какая! Правда, потом все пошло наперекосяк: Галина попала в больницу (сердце неожиданно начало шалить), а пока она там лежала, невестка Ольга успела изменить сыну со своим троюродным дядей. Можно подумать, что ради этого в Киев приехала!
Галина узнала об измене невестки от «пострадавшей стороны», жены троюродного дяди, Петра Доли, Оксаны. Та пришла к ней в больницу, представилась, поделилась своим горем. Щедро так поделилась, от всей израненной души. Дома был разговор, точнее даже два разговора, один тяжелее другого. Вроде бы решили попробовать все наладить. Сыну особенно гневаться не стоило, сам тоже хорош, изменял Ольге едва ли не с самого начала семейной жизни. Та терпела-терпела, а потом и сама решила отведать запретного плода. То ли отомстить мужу хотела, то ли просто голову потеряла, кто ее разберет.
Неудачное вышло гостювання[1], лучше бы и вовсе не приезжали. Даже радость от общения с любимой и единственной внучкой Аней не смогла подсластить горечи. Стоило только глянуть на Аню, как царапало наждаком по душе – бедное дитя, каково ей наблюдать за тем, как родители с ума сходят? Большая ведь уже, восемь лет. И умная. Боже упаси от таких гостюваний. Недаром знак дурной был: едва успел Виктор машину во дворе припарковать, как ему на ней написали: «Москалі геть з України!!!»[2]. Какому-то кретину не понравилось, что во дворе стоит машина с московскими номерами, и он не поленился взять гвоздь или нож, чтобы выразить таким вот варварским образом свое мнение. И где? Где? В очаге культуры, возле профессорского дома, который находится в самом центре Киева, в двух шагах от университета. Но Галина старалась не очень-то верить во всякие предзнаменования.
К семейным проблемам добавились рабочие. Профессора Галину Любченко, пока она болела, «освободили» от заведования кафедрой новейшей истории Украины. Проявили чуткость и заботу – не стали приглашать на кафедральное собрание, не вызвали «на ковер» к ректору. Понимали, что ничего, кроме вреда здоровью, от этого не будет. Когда-то давно, еще при социализме, в вестибюле главного корпуса университета висел транспарант «Наш девиз: честь, совесть, гуманизм». Времена сменились, а девиз остался прежним. Все здесь делается честь по чести, по совести и очень гуманно.
–Здравствуйте, Галина Дмитриевна! Как ваше здоровье?.. То добре… Ждем вас, ждем! Когда появитесь в университете, зайдите, пожалуйста, к нам. Надо расписаться, что вы ознакомлены с приказом Евгения Брониславовича… О вашем освобождении от должности заведующей кафедрой… Вы не волнуйтесь, пожалуйста, это просто формальность, получите копию, распишетесь, и все… С какой формулировкой? Долго зачитывать, Галина Дмитриевна, да и не стоит, наверное. Вам же пока нельзя волноваться. Придете, получите копию и прочитаете… Выздоравливайте поскорее, Галина Дмитриевна! Мы вас ждем!
Театр абсурда, а не университет! Галина настойчиво попросила прислать ей копию приказа прямо сейчас, хоть по факсу, хоть по электронной почте. Получила. Прочитала. Сначала злость взяла, потом смех разобрал, после слезы на глаза навернулись: обидно стало. Обидно вдвойне от того, что так вот, подло, заочно, исподтишка. Да еще и погода была наигнуснейшая – как зарядил с ночи монотонный дождь, так все и шел. Унылая пора, никакого очарования. Зачем-то вспомнилось, что китайцы превыше всего ценят гармонию. Им, наверное, приятно грустить в плохую погоду.
Грехов на Галину навесили много, не пожадничали. Главным грехом был низкий уровень организации учебной, научно-методической и научной работы кафедры. Уровень этот, при всей кажущейся четкости критериев, понятие довольно условное и при желании его всегда можно выставить низким.
Нарушение прав и академических свобод работников кафедры и студентов? Под эту «статью» при желании можно подогнать любое решение, любое распоряжение. Особенно в отношении академических свобод, они же – свободы исследования. Укажи сотруднику на какую-то ошибку, например на неполное или неверное толкование фактов, и все – посягательство на академическую свободу налицо. История не математика, здесь субъективного гораздо больше, чем объективного.
А вот использование материально-технической базы кафедры не по его функциональному назначению надо доказать на конкретных, должным образом документированных примерах. Впрочем, в позапрошлом году у администрации хватило ума (а точнее – наглости) подогнать под эту формулировку отправление личных писем с рабочего компьютера. И доказательства налицо, и формальности соблюдены, но как же все это мелко, низко, подло! Несправедливость, совершённая в отношении кого-то другого, кажется еще одним штришком, подчеркивающим несовершенство бытия. Несправедливость в отношении себя человек воспринимает как событие вселенского масштаба. А всем окружающим оно кажется тем же штришком.
Ненадлежащее обеспечение пожарной безопасности и безопасных условий труда сотрудников кафедры? Ну, с пожарной безопасностью все ясно. Нет такого помещения, в котором по части пожарной безопасности все будет в порядке. Коробка проход преграждает – нарушение. Корзина для мусора, полная бумаг, – нарушение. Кто-то из студентов в туалете втихаря покурил – преступление века. Но вот безопасные условия труда сотрудников? Хапай, бабо, решетом сонце![3] То не какая-нибудь кафедра химического факультета, где работают с щелочами и кислотами. То кафедра истории… Галина припомнила, как три года назад под доцентом Полянским развалился стул. Разве что только это… Полянский нисколько не пострадал, ни шишки, ни царапины не получил. Пострадал только стул. Но кто мешает назвать белую овцу черной, если надо?
–Никогда не думала, что Григорьартемыч такая сволочь! Мать его за ногу семь раз налево! – Доцент Петикян и в университете не особенно стеснялась в выражениях, а уж дома у Галины, в разговоре с глазу на глаз, тем более. – Знала, что сволочь, конечно, но чтоб такая… Собрал нас и устроил шоу. Сначала выступила Полина. В стиле «не могу больше молчать, люди добрые»…
Доцент Тертычная вообще не могла молчать. Никогда, даже в тех случаях, когда молчать было надо. Вечно лезла со своим мнением, с суждениями-замечаниями и непременно норовила оставить за собой последнее слово. Жертва «неаборта». Сама сдуру всем рассказывает, как ее маменька, будучи ею беременной, собиралась сделать аборт, но в последний момент передумала. Могла бы и не передумать: лишившись Полины Тертычной, человечество вряд ли бы многое потеряло. Ну а воздух на кафедре без нее однозначно был бы чище. Подумать только, когда-то Галина жалела Тертычную. Неумна, но старательна, и не всем же, в конце концов, быть семи пядей во лбу. Жалела, пока не узнала, какая та есть змея.
– Затем Петрушка встал, – продолжала свой рассказ Петикян. – Трезвый, хмурый. Тоже, говорит, молчать не могу. А рядом с ним Алиска ерзает на стуле от нетерпения. Тоже хочет выслужиться перед Григорьартемычем, а ей слова не дают…
Заочная расправа прошла по старому, как мир, сценарию. Бессовестные подлецы обличали, совестливые отмалчивались. У каждого «молчуна» свой резон. Кто-то оправдывается тем, что плетью обуха не перешибить. Все уже решено, взвешено, отмерено… Кто-то опасается испортить отношения с администрацией… Кто-то считает, что спасение утопающих дело рук самих утопающих… А кто-то может искренне (или почти искренне) верить в то, что «так оно лучше», что в этом лучшем из миров все делается к лучшему. Зачем человеку с больным сердцем «нервная» работа? Лучше пусть остается в профессорах. Профессорская должность не в пример спокойнее.
Но ладно, резоны резонами, а вот позвонила Галине и навестил ее одна доцент Петикян. Все остальные «сочувствующие» хранили молчание. Если начать рыпаться, добиваться справедливости, то никто не поддержит. Петикян тоже не поддержит. Раньше говорила: «Уйдешь ты, и я уйду», а тепрь вдруг вспомнила про племянницу, которой на следующий год поступать, своя рука понадобится в университете… Спасибо хоть за то, что звонила, навестила, рассказала последние новости. А то сидишь и не понимаешь, что на твоей кафедре происходит. Вернее, уже не на твоей. Теперь кафедрой заведует заклятый враг профессор Григорий Артемович Хащенко, человек, которого «ученым» даже спьяну назвать нельзя. Да что там ученым! Его и человеком-то назвать язык не повернется. Хам, прохвост и интриган. Редкий, надо отметить, случай умного хама. Хамят как правило дураки, но Хащенко умен, этого у него не отнять. То, что в науке профан, так это другое. Ум есть, а знаний нет, всю жизнь политикой занимался, а не историей. Но при всем своем уме – хам, каких поискать. Сам себя, однако, считает интеллигентом невесть в каком поколении.
С подобным отношением невозможно было мириться. Хотелось справедливости, хотелось вернуться на свое место, хотелось победить… Но добиваться победы Галине предстояло в полном одиночестве. Ни в университете никто не поддержит, ни за его пределами. Сыну все эти дрязги глубоко безразличны, ему своих проблем хватает. Валентин, которого Галина считала другом, настоящим другом, человеком, на которого можно положиться в трудную минуту, не оправдал ее надежд. Обещал помочь, обнадежил, приободрил, а потом вдруг пошел на попятный. Зря мы все это затеяли… В твоей кафедре нет ничего такого, чтобы ради нее так переживать… Друг, называется – предал, обиделся на то, что услышал по поводу своего предательства, и исчез, выпал из жизни. Или просто захотел «выпасть», узнав о Галининых проблемах со здоровьем? Бабка Елизавета Филипповна говорила: «Плоха корова безрогая да баба хворая». Вроде бы шутила, да в каждой шутке, как известно, и есть доля правды.
Бывший муж Константин? Ну уж он-то ничем не поможет, только расстроит еще больше. Аргументированно объяснит, что она сама виновата в том, что случилось. Надо, мол, уметь выстраивать отношения с начальством и подчиненными, надо правильно себя вести и так далее. Непременно надует щеки и скажет с гордостью, что его самого из директоров никогда не погонят, потому что им все довольны, и школа его на хорошем счету.
Двоюродный брат Степан может посочувствовать, но чем он может помочь? Он далек и от академических, и от юридических, и от журналистских кругов, да вдобавок еще и живет далеко – в Белостоке. Разве что очередного «справного жениха» подыщет? Какого-нибудь вдовца, владеющего магазинчиком или постоялым двором… Нужны они больно, эти «справные женихи», да еще в Польше! Олене, родной сестре Степана, жаловаться на жизнь просто страшно. Если проникнется и будет располагать свободным временем, то может заявиться в университет и устроить там истерику. Но разве таких типов, как Хащенко или ректор Евгений Брониславович, можно пронять криками и слезами?
Вот и получается, кроме как на себя и положиться не на кого. Галина привыкла полагаться на себя. Характер от рождения был самостоятельным, да и жизнь закалила. Недаром же студенты ее «железной леди» прозвали (не без иронии, конечно, но и с уважением тоже). Впрочем, какой ты железной ни будь, а совсем одной, без помощников, единомышленников и союзников, трудно. Тяжело, неуютно, обидно, досадно…
Обида побуждала к действию. Нельзя прощать такого обращения.
Если отрешиться от обид и прочих эмоций и взглянуть на ситуацию «нейтральным», сугубо рациональным, взглядом, то получалось, что особенно рыпаться не стоит. Смысла нет. Даже если удастся восстановиться в заведовании, то ректор спокойно работать не даст. Он злопамятный. Сам ректор, пока его двоюродный брат ходит в заместителях министра образования и науки, непотопляем. Не стоит обольщаться сверх меры. В какой бы скандал ни вылилась бы эта история, ректору она его должности стоить не будет. Это первое.
Второе. Восстановившись, половину кафедры к чертям не разгонишь. Никто не даст разбазаривать «ценные» научные кадры, да и заменить их так вот сразу некем. Следовательно, придется работать с доцентом Тертычной, доцентом Полянским, ассистентом Алисой Пивовар… Чего доброго, и Хащенко никуда не уйдет. Останется в профессорах и станет ждать реванша. С такой «оппозицией» нелегко будет работать. Только и жди подлянок каждый день… Вот и выходит, что, даже выиграв, она все равно проиграет, потому что все равно работать, как раньше, не сможет. Ради чего тогда бучу затевать? Только для того, чтобы с гордо поднятой головой вернуться в свой кабинет? Второй раз уходить будет больнее. Сейчас Галину «ушли» заочно, все уже свершилось, осталось только принять, смириться…
Принять?! Смириться?! А щоб их лиха біда стороною обходила![4] Как можно принять такое?! Пусть даже ей и придется уйти, но память она о себе оставит такую, что все эти подонки до конца дней своих будут вздрагивать, услышав фамилию Любченко!
А с другой стороны – ну какое профессору Любченко дело до этих подонков? Пусть они хоть вздрагивают, хоть икают, хоть кровавым поносом исходят. У нее своя жизнь, свое здоровье, свое сердце, свой сын, своя внучка… Тут со своим столько проблем, что о чужих и думать-то некогда!
Стоило вспомнить о сыне, как сразу же начинало тревожно щемить в груди. О работе и всем, что с ней связано, думалось с раздражением, с обидой, но Галина уже к этому привыкла. А вот к родной беде не привыкнуть…
Беда, настоящая беда. То, что происходило с Виктором, другим словом и не назовешь. Семейные неурядицы – это не пустяки, это очень страшно. Семья – это тыл. Если тыл у человека крепок, то ему нипочем любые беды и испытания. Если же тыл слаб или его вообще нет, то вся жизнь может пойти наперекосяк. Тем более что Виктор слабоват характером и для него очень важно, чтобы рядом была правильная, хорошая женщина.
Сына было жаль, а внучку в сто раз жальче. Бедный ребенок, ей-то за что такое горе. Все ведь видит, все понимает, смотрит доверчиво своими глазенками, радуется, когда мама с папой веселые… Эх, если бы было можно надавать обоим подзатыльников и сказать строго: «Образумьтесь, дурни, не о себе, так о дочери подумайте!» А помогут ли те подзатыльники? Саму Галину подзатыльниками от развода с бывшим мужем отговорить не получилось бы. Хотя она долго терпела. Ради Вити терпела, мальчику же нужен отец… А в один прекрасный день терпение кончилось. Мальчикам и девочкам нужны не просто отцы, а хорошие отцы. Витя – хороший отец, добрый, ласковый. Только вот семья у него не на первом месте. И невестка тоже отличилась. Выкинула фортель – изменила мужу со своим троюродным дядькой. Сын с невесткой решили, что попробуют все исправить. Ради внучки и вообще – десять лет вместе прожили, это не кот начхал. Но получится ли исправить?..
Голова шла кругом. Ночью мысли мешали спать. Что хуже всего, мысли эти были такими, которые – сколько ни думай, ни до чего не додумаешься, только душу растравишь. Хотелось забыться, отрешиться от всего, прожить хотя бы день спокойно, но как тут забудешься? Как будет с Витей? Что делать с работой? Впервые в жизни Галина начала понимать пьяниц. Не одобрять, потому что одобрять там нечего, а понимать, почему некоторые люди пьют горькую… Саму ее к этому занятию не тянуло.
Смешно сказать, Галина с удовольствием ходила в поликлинику. Казалось бы, чего там хорошего, а все же хоть какое-то развлечение, отвлечение. Сделаешь кардиограмму, сдашь анализы, поговоришь с врачами. Врачи бодро и заученно твердят о том, что все будет хорошо. Не верится, но послушать приятно.
Хотелось оставаться на больничном вечно, чтобы никогда не появляться в университете, никого там не видеть и ни с кем там не общаться.
И тут же хотелось поскорее выйти на работу, чтобы наконец-то заняться делом, начать действовать.
Хотелось бросить все и мчаться в Москву к сыну. Сказать ему и невестке все, что не успела сказать здесь, в Киеве, предостеречь, попросить быть благоразумными.
Хотелось уехать в какую-нибудь глушь. Куда-то на край света, в какой-нибудь хутор на отшибе… Ходить босиком по росе (в ноябре-то, ха!), пить парное молоко, есть сотовый мед… Типичная интеллигентская рефлексия, не более того, но помечтать было приятно.
Но больше всего на свете хотелось начать жизнь заново. С чистого листа. С самого рождения. И прожить ее так, чтобы не было мучительно больно. Не за бесцельно прожитые годы, а за глупо прожитые. Бесцельно прожить жизнь невозможно, потому что какие-то цели всегда есть, большие или малые, а вот глупо прожить получается у многих.
Заново. С чистого листа. Без единой ошибки.
«А ось тобі, Галю, дуля!»[5] – говорила бабка в ответ на просьбу дать в обед варенье вместо борща и картофельного пюре.
2
–Петр Николаевич, вам Гапорцын звонит. Хочет срочно переговорить с вами. По приватному делу.
Голос секретарши звучал немного обиженно и выражение лица было соответствующим. Что за секреты могут быть от такого доверенного сотрудника, как она?
Петр прервал чтение приказов (он никогда не подписывал ничего, не ознакомившись) и ответил на звонок.
Если управляющему магазином (название «директор» для этой должности не подходит, потому что директор в компании может быть один) нужно срочно переговорить с владельцем, то это неспроста. Петр никогда не устранялся от контактов с сотрудниками, не имел такой привычки, мало ли какое дело у человека. В то же время умел доходчиво объяснить, так, чтобы раз и навсегда, что по пустякам его беспокоить не стоит. Объяснять приходилось нечасто, люди понимали, что их много, а Петр один.
–Добрый вечер, Петр Николаевич! – зарокотал в трубке хриплый баритон. – Не помешал? Тут у нас, видите ли, чепэ…
Гапорцын был опытным сотрудником и громкими словами не бросался. Если звонит напрямую боссу и говорит про чепэ, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. По старой привычке Петр попробовал догадаться, прежде чем ему скажут. Голос у Гапорцына спокойный, значит – не пожар. Для проверок поздновато, проверяющие на ночь глядя редко когда приходят, на то какие-то особые причины нужны. Скорее всего – скандальный покупатель высокого ранга. Или, как вариант, скандальный покупатель, козыряющий знакомствами высокого ранга. Настолько высокого, что Гапорцыну срочно понадобилось посоветоваться.
–С кем там у вас проблемы? – спросил Петр.
–С родственницей вашей, Петр Николаевич…
Петр чуть было не спросил, с какой такой родственницей, но вспомнил, что именно в магазине у Гапорцына работает помощником администратора Оксанина племянница Кристина. Рановато, честно говоря, для проблем, – только-только начала ведь. Да и вообще с сотрудниками не должно быть проблем. В идеале.
–…ее дивчины остановили на выходе с полным пакетом продуктов. М-м… неоплаченных…
Петр оценил гапорцынскую деликатность. Не стал говорить «украденных», нашел слово помягче. Как-никак, хозяйская родственница.
–…Колбаса, балык, икра, коньяк, кофе молотый, инжир сушеный, сигареты… – бегло, не вдаваясь в подробности, перечислил Гапорцын. – На общую сумму в одну тысячу шестьсот восемьдесят девять гривен…
–Ничего себе! – вырвалось у Петра.
Конкретно затарилась родственница, это вам не булочку стянуть.
–Брать так брать! – хмыкнул Гапорцын. – Я, собственно, почему вас так экстренно беспокою, Петр Николаевич…
–Акта не составляй, милицию не вызывай, пусть пишет «по собственному» с сегодняшнего числа и валит на все четыре стороны! – распорядился Петр.
Вообще-то в компании существовало жесткое правило, касающееся всех воров. Если сумма ущерба была достаточна для возбуждения уголовного дела, то дело непременно возбуждалось. Стоит только начать прощать, и воровству конца-краю не будет. Украл – отвечай. Но известно, что нет правил без исключений. «Сдавать» милиции родственницу владельца сети не стоит.
–Я, собственно, так и хотел. – Гапорцын на секунду-другую замялся. – Даже звонить сейчас не стал бы… Письмо написал бы в обычном порядке. Но она говорит, что это вы ей разрешили…
–Что-о-о? – От удивления Петр чуть не выронил трубку.
–Ну, то есть говорит, что вы не имеете ничего против, – поправился Гапорцын. – То есть я должен отпустить ее со всем… м-м… взятым. Без последствий. Якобы вы ничего не имеете против. Вот я и решил уточнить, так это или не так?
–Почему это должно быть так? – поинтересовался Петр, удерживаясь от грубостей. Гапорцын ни в чем не виноват, но эта-то засранка какова, а? – Как я могу не иметь ничего против воровства? Яков Григорьевич, ты что, первый день работаешь? Может, ей еще пакет до автобуса донести? Пусть сама разложит все, что взяла, по местам, а потом катится на все четыре стороны. Сделай ей полный расчет, чтобы ноги ее в магазине больше не было…
–Так она скандалит, – вздохнул Гапорцын. – Ругается всяко, намекает, что это мне полный расчет грозит. И так это, знаете ли, убедительно, что я засомневался…
–Поставь ее перед выбором, – перебил Петр. – Или валит по-тихому на все четыре стороны, или протокол, дело, судимость. Не дойдет, вызывай милицию и оформляй все как положено. И проследи, если по-тихому, чтобы сама все разложила по местам. Это ей так, в порядке дембельского аккорда. И в любом случае отправь мне письмо с фамилиями свидетелей и полным перечнем украденного.
–А может, вы сами ей объясните, Петр Николаевич? – попросил Гапорцын. – Уж больно она свирепствует…
–Ты еще не знаешь, как я могу свирепствовать, – ответил Петр и положил трубку.
Общаться с Оксаниной родственницей ему совершенно не хотелось. Да и не по статусу. Что это она о себе возомнила? Гапорцын тоже хорош, вроде нормальный, крепкий руководитель, а строгость, видите ли, проявить не может. Однако ушлая девка. Приехала в столицу, устроилась по блату на хорошее место и сразу же начала воровать. Помощник администратора, конечно, не бог весть какая должность, но для человека без опыта и образования (школа не в счет) – это просто подарок. Дорожить надо предоставленной возможностью, а не обворовывать своего благодетеля.
Через полчаса от Гапорцына пришло письмо. Дотошный Яков Григорьевич не поленился даже сфотографировать краденый товар и приложить фотографию к письму. Для наглядности, так сказать. В последнем абзаце было сказано: «Уволена по собственному желанию». Справился, значит, Гапорцын.
Петр распечатал письмо и сунул в портфель, чувствуя, что оно ему сегодня пригодится во время разговора с Оксаной. В том, что разговор непременно состоится, не было никаких сомнений. Нахалка, способная заявить в магазине, что он не имеет ничего против ее воровства, непременно нажалуется тетке. Может, до скандала и не дойдет, но обсудить случившееся придется…
До скандала не дошло – с него началось. Стоило только Петру войти в квартиру, как на него яростным вихрем набросилась Оксана:
–Негодяй! Подлец! Как ты мог?! Только ты так мог! Как ты посмел отыграться на бедной девочке?!
Ну и так далее. В том же духе, в том же стиле. Среди эпитетов, которыми награждали Петра, прозвучали даже совершенно не свойственные жениному лексикону «гидота»[6] и «замазура[7] с…ая». На «замазуру» Петр обиделся больше всего. Когда-то давно, на заре их совместной жизни, в то время, когда все приходилось делать самому, ему случалось заявляться домой грязным. То грузишь пыльные ящики с мешками, то в осеннюю грязюку меняешь на трассе колесо, то освобождаешь от хлама арендованное под офис помещение… Тогда «замазура» у Оксаны звучала ласково. «Замазура ты моя, – говорила она, подталкивая Петра к ванной. – Мойся ж скорее…» А теперь вот называет «замазурой» зло, да еще и с эпитетами… Несправедливо, контраст с былым и оттого больнее всего ранит.
В качестве доказательства Петр предъявил распечатку письма управляющего магазином. Оксана, не читая, изорвала письмо в мельчайшие клочки, швырнула их в лицо мужу и высказалась в том смысле, что в его «г…нной компании рука руку моет» и что по указанию одного негодяя другие негодяи готовы на все, что угодно.
–Негодяи?! – взъярился Петр. – Скажи спасибо, что на твою племянницу дело не завели! Да если бы я только захотел, то… Там сумма порядочная – тысяча шестьсо восемьдесят девять гривен…
–Деньги! Только деньги! – простонала Оксана, картинно заламывая полные руки. – Деньги! Деньги! Деньги!
Халат ее при этом соблазнительно распахнулся на груди, прекрасно сохранившей форму, но Петру было не до соблазнов.
–Бедная девочка хотела броситься под поезд! Ее так унизили!
Унизили? Ну, да – сначала не дали уйти с краденым товаром, а потом заставили разложить все по стеллажам. Не исключено, что процесс раскладывания как-то комментировался. Что ж – поделом, заслужила.
–«Хотела» не считается! – жестко возразил Петр и, не сдержавшись, добавил: – Все вы, Задоянчуки, одним миром мазаны. Вам палец сунь, так всю руку норовите отхватить!
Обобщать, может, и не следовало, потому что встречались среди жениных родственников и нормальные, адекватные люди, но разговор уже достиг того градуса, когда хотелось обобщать.
–Вы тоже одним мазаны, – парировала Оксана. – Только не миром, а дерьмом! Уголовник на уголовнике! Не семья, а клан Сопрано![8]
Кто такие Сопрано Петр не знал, поскольку сериалами совершенно не увлекался. Тягомотина, да и времени жалко. Но вот «уголовник на уголовнике» задело за живое. Оксана била расчетливо и подло – в самое больное место. Да, отец Петра отсидел за контрабанду, за какую-то дрянь, мелочь. Попал под раздачу, называется. С дедом было и того хуже, то есть несправедливей. Отец хоть на самом деле две пары джинсов пытался вывезти из-за границы. Совершил некое деяние. Дед же сел ни за что. Все, кого только ни спроси, сидели «ни за что», но дед нисколько не преуменьшал свою вину. Его подставил знакомый, не то чтобы закадычный друг-приятель, но и не совсем посторонний человек. Оставил на хранение чемодан под каким-то невинным предлогом, а в том чемодане оказалась антисоветская литература. Два дня пролежал чемодан у деда под кроватью, на третий пришли с обыском. С учетом заслуг – фронтовик, два ордена, передовик, дали десять лет лагерей. Дед отбыл срок от звонка до звонка. Приятель сгинул с концами. Так и непонятным осталось, был ли он борцом с режимом, который использовал деда втемную, или же провокатором, который намеренно деда подставил. Впрочем, хрен редьки не слаще, итог все равно печален.
–Бачили очі, що купували – тепер їжте, хоч повилазьте![9] – рявкнул Петр на украинском.
–Лучше бы вылезли, чтобы рожи твоей не видеть! – столь же любезным тоном заявила Оксана.
Накричав друг дружке изрядное количество оскорблений, Петр и Оксана разошлись по разным комнатам, не забыв напоследок как следует хлопнуть дверьми.
Остап, общавшийся в чате с приятелями, вздрогнул и пробурчал себе под нос ругательство. В его понимании родители занимались чепухой. Какой смысл выяснять отношения в их возрасте? Все давным-давно прожито, пережито, переговорено… Какой смысл в ссорах, если эти ссоры ни к чему не приводят? Два-три дня предки станут дуться друг на дружку, потом оттают, примерно с неделю все будет спокойно, а там подвернется новый повод для скандала. И все закрутится по новой. Остап давно решил, что жениться он не будет. Разве что потом, ближе к старости, чтобы завести законного наследника… Или же по большой выгоде, чтобы слить папашин капитал с чьим-то еще и подняться на новые высоты. Надо иметь весьма и весьма веские поводы для того, чтобы впрячься в ярмо под названием «супружество».
3
– Дилатационная кардиомиопатия – это не инфаркт, а расширение полостей сердца. Сердечная мышца истончается, увеличивается в размерах, снижается сократительная способность. Возникает сердечная недостаточность…
–Ну, это все-таки не инфаркт!
–Не скажите. Те же самые вареники, только в другой макитре[10]. Сердечная недостаточность – это одышка и отеки, нарушения сердечного ритма, тромбы в расширенных камерах сердца, которые могут привести к закупорке какого-нибудь жизненно важного сосуда…
–Ясно. Не помрешь, так сдохнешь!
–А не хочется помирать. Обидно. Как так? Почему это со мной? У меня же было такое тренированное сердце! Я мог часами играть в футбол, плавал как рыба, я ж – потомственный днепровчанин, в бассейне спокойно проплывал двадцать-тридцать раз туда и обратно, то есть – два-три километра, бегал по утрам, и не по принуждению, а в охотку, один раз даже в марафонском забеге поучаствовал и добежал до финиша…
–А я одно время серьезно занимался айкидо, исколесил на велике чуть ли не всю Украину. И никогда мое сердце меня не подводило. Шестьдесят ударов в минуту в покое, максимум – девяносто шесть при самых больших нагрузках. Не сердце, а мотор. И так меня подвело. Хожу теперь сюда как на службу…
«Академическая» поликлиника – место культурное. Ученые как-никак лечатся, не работяги с «Арсенала». Разговоры тихие, вежливые. Но тема для разговоров одна и та же, что и во всех поликлиниках, – здоровье. Очереди здесь небольшие – по одному-два человека у кабинета, не больше, поэтому для полноценного общения собираются там, где коридор расширяется, образуя нечто вроде холла. Три видавших вида диванчика (Академия наук – это вам не президентская администрация, каждая гривна на счету, о новой мебели можно только мечтать), две кадки с чахлыми пальмами, столик с аккуратными стопочками разномастных, но в одинаковой степени затрепанных журналов. Вряд ли где-то еще в одной стопке могут лежать «Український історичний журнал»[11] и японские комиксы манга. Непонятно, почему журналы затрепаны, ведь их никто не читает. Здесь собираются для того, чтобы поговорить, обменяться новостями и симптомами. Время от времени то один, то другой из беседующих выглядывает в коридор, чтобы узнать, не подошла ли его очередь. Со стороны это выглядит так, словно люди обсуждают нечто секретное и хотят убедиться в том, что их никто не подслушивает.
–Что там кардиомиопатия! Вы представьте мое состояние, когда я узнал, что при цитологическом исследовании[12] моей мокроты выявлены раковые клетки и теперь меня надо обследовать с целью уточнения диагноза с ног до головы. Госпитализировался-то я с пневмонией! И вот – на тебе! Кроме раковых клеток, причем в довольно большом количестве, в моей мокроте нашли эластические волокна и какие-то кристаллы, что указывало на распад ткани легкого. Это мне медсестра объяснила. Я ей шоколадку, она мне правду. В общем, нашли слишком много для того, чтобы диагноз вызывал сомнение. И еще медсестра сказала, что «цитологию» проводил очень грамотный доктор, лучший патологоанатом Киева…
–Патологоанатом? Хе-хе…
–Патологоанатомы, пане, не только вскрытия проводят, но и гистологию смотрят. То их профиль.
–Знать бы еще мне, старому филологу, что такое гистология.
–Исследование срезов под микроскопом. Так вот, оказалось, что медсестра неправильно промаркировала мокроту при отправке в лабораторию. Перепутала, видите ли, меня с одним больным из седьмой палаты и обнаружилось это только спустя несколько дней, во время обхода заведующего отделением. Заведующий обратил внимание на то, что у больного из седьмой палаты анализ мокроты неожиданно хороший, несмотря на то, что распад в легком был ясно виден на рентгеновском снимке, и сразу же вспомнил про мой анализ, который был отправлен в тот же день…
–Перепутала! За такое расстреливать надо!
–Зачем сразу расстреливать?! Так никого не останется, кто не ошибается? Все ошибаются…
–Errare humanum est![13]
–Вот-вот. Я попросил не очень-то наказывать медсестру. Медсестры по утрам носятся как белки в колесе. Там то надо сделать, здесь – это, тому – укол, этого на рентген везти, другому клизму поставить. Лишь после обеда все немного устаканивается и наступает относительное спокойствие. При такой суете-чехарде совсем нетрудно перепутать анализы…
Галина не понимала, почему люди, пришедшие на прием к врачу, с таким упоением говорят о болезнях и только о болезнях. Совсем как театралы о спектаклях, как болельики о футболе… Но то ведь приятные темы – театр, спорт, а что приятного в болезнях? Не лучше ли поговорить на другие темы, отвлечься немного, чем пережевывать все это нудное медицинское – гистология, кардиопатия, недостаточность? Сама она в этих разговорах не участвовала, но была вынуждена их слушать, потому что кабинет кардиолога находился прямо напротив холла. «Козырное место», – как сказал бы Виктор. Вместо узкой неудобной банкетки можно сидеть на диване. И расплачиваться за удобство унынием, которое навевают разговоры о болезнях. Что поделать, за все приходится платить
–Я полностью исключил из рациона колбасы, сосиски и паштеты, поскольку не могу быть уверен в том, что производитель, желая повысить рентабельность, не намешал в них разного ненужного. Вместо колбасы я ем буженину домашнего приготовления – покупаю раз в неделю двухкилограммовый кусок свинины, мариную, шпигую чесноком и запекаю в духовке. На неделю нам с мамой хватает. А мама под настроение может сделать паштет, да такой, что никакой покупной с ним не сравнится…
Переваливаясь с ноги на ногу и шумно отдуваясь, как будто только что сделала какую-то тяжелую работу, из кабинета кардиолога вышла тучная женщина. Над дверью коротко мигнула лампочка. Не досказав про мамин паштет, любитель буженины домашнего приготовления, сидевший рядом с Галиной, сорвался с места – его очередь была следующей. На его место уселся только что подошедший мужчина в широком, крупной вязки, свитере и потертых джинсах. В поликлинике для ученых человек, одетый подобным образом, невольно обращал на себя внимание. Здесь был принят совершенно иной дресс-код – костюм, галстук. У кого-то даже запонки в рукавах сверкали. При виде запонок Галина всегда вспоминала выражение брата Степана: «Оно мне нужно, как те запонки». Степан «ополячился» в своем Белостоке да с польской женой и теперь часто говорит не «запонки», а «спинки». Смешно звучит для украинского уха с непривычки.
Соотнеся наряд с небольшой аккуратной рубенсовской бородкой и пятнышками красной краски на пальцах правой руки, Галина пришла к выводу, что ее сосед – художник. Приятный человек – взгляд приветливый, улыбается. В поликлинике все больше хмурятся, место такое, не располагающее к веселью.
Приятный человек усилил приятное впечатление тем, что, во-первых, поздоровался перед тем, как спросить, кто еще ждет приема у кардиолога (редкость и для академической поликлиники), а во-вторых, не начал рассказывать о своих болезнях. Вообще не стал заводить никаких разговоров. Достал из сумки, висевшей у него на плече, книгу и углубился в чтение. Скосив глаза, Галина незаметно полюбопытствовала, что читает сосед. Флорентийские художники эпохи Возрождения? Точно, художник. Тут бы и доктор Ватсон не ошибся. Странно только, что ему надо у кардиолога? Выглядит на все сто. Не в смысле лет, а в смысле процентов, лет ему где-то сорок пять – пятьдесят, не больше. Румяный такой, пышущий здоровьем бодрячок. Спортсмен, наверное. Впрочем, мало ли какие бывают у людей проблемы. Может, у него аритмия? Вне приступов совершенно здоровый человек, а как приступ начнется, так кандидат в покойники… Проведя в больнице три с лишним недели («почти месяц» пугает, «три с лишним недели» звучит лучше), Галина приобрела, как она сама выражалась, «начальное медицинское образование». Волей-неволей наберешься кое-каких знаний, пусть и отрывочных. Аритмии, блокады, рубцовые изменения, тромболизис… Век бы этой премудрости не ведать, будь она трижды проклята!
Интерес Галины, несмотря на скрытность его проявления, тем не менее был замечен. Сосед закрыл книгу и протянул ей:
–Интересуетесь? Хорошо написано. Бернсон[14] – непревзойденный знаток итальянского Ренессанса.
Пришлось взять книгу, раскрыть ее, пробежать глазами по содержанию (знать бы еще, кто такой Бернсон!) покивать и похвалить:
–Да, хорошая книга.
–Читать – это что, видеть надо! – оживился сосед. – Это же не просто искусство, это же настоящее волшебство! Джотто, Мазаччо, Уччелло… Какие имена!
Не желая попасть в неловкое положение, Галина честно призналась, что в живописи разбирается плохо, сугубо на любительском уровне. Сосед сказал, что он тоже не знаток, а любитель и представился.
–Мыкола Андриович, можно просто Мыкола…
Оказалось, что никакой он не художник, тут Галина ошиблась. И даже не ученый, хотя в некотором смысле – коллега, работник сферы образования, заместитель директора авиационного техникума по воспитательной работе.
Любитель буженины домашнего приготовления задержался у кардиолога ненадолго. Галина успела только сказать, где она работает, и услышать в ответ уважительное «О!». По правде говоря, ей даже стало немного обидно. Пока сидеть было скучно, очередь почти не двигалась, предыдущая пациентка просидела у доктора около часа, а как только появился собеседник, так на тебе… Видимо, кто-то там, наверху, услышал Галину. Когда она вышла, Мыкола с улыбкой кивнул ей и вошел в кабинет, забыв на диване свою сумку. Галина заметила сумку уже после того, как дверь закрылась. Ломиться в кабинет было неловко. К тому же кардиолог Алиса Васильевна – дама весьма суровая, на всех, входящих без приглашения смотрит горгоной Медузой, не любит, когда ей мешают вести прием.
Немного поколебавшись, Галина решила подождать Мыколу. Времени у нее было вдоволь – суббота, выходной день, а ведомственная принадлежность к Академии наук еще не является гарантией того, что здесь не сопрут оставленную без присмотра сумку. Родной университет тоже не базар-вокзал, а стоит кабинет незапертым оставить, так чего-нибудь непременно лишишься. Только в этом году у доцента Федоровича из кармана висевшего на стуле пиджака бумажник украли (отлучился на минуточку в туалет, называется), у доцента Петикян две бонбоньерки из шкафа умыкнули, а у доцента Полянского – едва начатую бутылку виски (на святое посягнули, негодяи).
Самой резонансной была кража у Полянского. Оставшись без «успокоительного», запас которого срочно восполнить оказалось невозможным (шла «страда» – прием зачетов), Полянский озверел и «завалил» две трети явившихся к нему студентов. Те рассчитывали на снисходительность экзаменатора, поскольку в обычном своем состоянии (то есть немного выпивши) Полянский был добряк из добряков и неисправимый либерал, оттого и готовились кое-как, спустя рукава. И нарвались. Стон в коридоре стоял, словно над полем только что отшумевшей брани, а из-за закрытых дверей кабинета то и дело раздавалось пронзительное: «Ганьба!» Студенты нынче пошли неумные. Нет бы сообразить, скинуться по двадцатке и срочно отправить гонца за бутылкой…
От мыслей о кафедре Галину отвлекло появление Мыколы. Тот провел у врача не более полутора минут. Вышел с какими-то бумагами в руках, деловито убрал их в сумку и объяснил:
–Тетина выписка и данные последних анализов. По электронной почте отправить нельзя, вот и приходится бегать.
–А почему нельзя? – поинтересовалась Галина.
–Потому что сканер не работает и вообще неохота, – усмехнулся Мыкола. – А вы что тут стоите? Забыли чего? Так идите, пока нет никого.
–Я вашу сумку стерегла, – объяснила Галина. – Вижу, оставили, думаю, дай подожду…
–Спасибо вам! – Мыкола расплылся в улыбке. – Но не стоило так беспокоиться. Там все равно нет ничего ценного, ну разве что книги. Ценное я таскаю на себе…
Он похлопал ладонью по правой половине живота, где под свитером угадывалось нечто выпуклое, не иначе как поясная сумка, и спохватился:
–Прошу прощения! Вместо того чтобы поблагодарить… Вы же не знали, есть там что-то ценное или нет. Позвольте мне смыть мою ошибку добрым козацким способом!
–Кровью? – пошутила Галина.
–Бог с вами! – притворно ужаснулся Мыкола. – Разве ж мы комары или вампиры? Горилкой или что еще там пьют такие гарные дивчины?
«Гарной дивчиной» Галину не называли лет этак надцать. А если и называли когда, то как-то без воодушевления и совершенно неискренне. Мыкола же говорил искренне (во всяком случае, так показалось Галине) и смотрел, что называется, «с интересом». «Дожила, – констатировала Галина, – знакомлсь в поликлиниках». Констатировала, однако, не с грустью, а с какой-то веселой бесшабашностью: такая я вот, даже здесь могу мужика подцепить.
–Дивчины пьют соки, – улыбнулась Галина. – Горилку им врачи категорически не советуют.
–Тогда приглашаю вас в честь знакомства выпить со мной по стаканчику виноградного сока, – церемонно, с небольшим поклоном, пригласил Мыкола.
А почему бы одинокой женщине, имеющей немного свободного времени, не выпить виноградного сока с приятным интеллигентным мужчиной? По тому как лукаво сверкнули глаза Мыколы, Галина догадалась, что «виноградный сок» будет не без градуса. Старая шутка. «Доча, что с тобой? Ты пьяная в зюзю! – Мамо, клянусь, только сок пила, чтоб меня разорвало на этом месте, если вру! Только сок! Виноградный, перебродивший…» А пусть…
Перед выпиской Галина получила от лечащего врача длиннющий список (два листа мелким шрифтом!) того, чего ей было нельзя есть, пить и делать. Алкогольные напитки шли первым номером, а всего номеров было сорок шесть. «Если вы не хотите вскоре вернуться к нам, то вам надлежит избегать…» – ужас! Чего избегать? Да всего на свете! Идеальный пациент во врачебном понимании – это тот, кто целыми днями лежит, ничего не делая, и, стало быть, не переутомляется, ни о чем не думает, не волнуется и ест какие-нибудь протертые овощи, приготовленные на пару. Сами так попробовали бы пожить хоть недельку, прежде чем советовать другим! Советовать легко…
Насчет «виноградного сока» Галина не ошиблась. Новый знакомый привел ее в ближайшее от поликлиники кафе, где, не заглядывая в меню, попросил официанта принести им «бутылочку красного и каких-нибудь фруктов».
–Дед мой говорил: «Согрешил в одном, так в другом исправь», – объяснил Мыкола свой выбор. – Если пить вино, полезность которого признают далеко не все, то надо закусывать чем-то, безусловно полезным.
–Это утверждение весьма спорно, – заметила Галина. – Как в отношении вина, так и в отношении фруктов…
–Честно говоря, в отношении фруктов я тоже сомневался, – поспешно согласился Мыкола. – Сыр с вином сочетается гораздо лучше…
Подозвав взмахом руки официанта (выглядело это не барственно, а совершенно естественно), он заказал сырное ассорти.
–Наслаждайтесь! – не столько пожелал, сколько приказал официант, принеся заказ.
Пожелание позабавило, но еще больше позабавило сырное ассорти: тончайшие лепестки сыра (назвать их кусочками было просто невозможно, поскольку кусочек претендует на какую-то толщину) были столь искусно разложены в тарелке, что покрывали ее полностью, ни разу не заходя друг на друга. Мастерство, достойное реставратора. Вино, впрочем, оказалось неплохим, терпким и совсем не кислым, несмотря на свою сухость, и фрукты принесли, любимые Галиной, – яблоки с апельсинами, без всяких там киви, ананасов и фейхоа.
Совместная трапеза сближает, а если еще и кое-какие интересы окажутся общими, то сближение получается таким, что кажется, будто ты знаешь нового знакомого добрую половину жизни. Галине и Мыколе удалось произвести впечатление друга на друга. Мыкола оказался таким знатоком украинской истории, что хоть присваивай ему доцента и бери на кафедру, а Галина, набравшись «винной» премудрости от бывшего мужа, дала вину исчерпывающую характеристику и даже рискнула предположить, что они пьют мерло. Невелика премудрость. «Что не каберне, то мерло, – говорил Константин. – Если чуточку вяжет во рту, значит – каберне. Не вяжет – мерло». Мыкола уважительно покачал головой и уточнил у официанта. Оказалось, что и в самом деле они пили мерло.
Из кафе вышли добрыми друзьями. Мыкола проводил Галину до дома. С Петровской до Льва Толстого идти каких-то полчаса, но они шли медленно, растягивая удовольствие, поэтому дорога заняла больше часа. Можно ли было не пригласить нового знакомого на чашечку кофе? Непременно нужно было пригласить, тем более что «первая чашечка кофе» служила у Галины своеобразным испытанием для мужчин. Если выпил, посидел еще немного и откланялся, то прошел испытание. Если же начинал намекать на нечто большее с явным намерением остаться на ночь или хотя бы с явным желанием «послекофейного» секса, то, увы, не прошел. Флаг в руки и всего хорошего. Проще говоря, проваливайте, сударь, знакомство закончилось. Торопливость и нахрапистость Галина в людях не уважала. Может, и зря (брат Степан считал, что определенно зря, в его представлении настоящий мужик именно таким и должен быть – нахрапистым, хватким), но сердцу ведь не прикажешь. И, вообще, отношения должны развиваться постепенно, всему свой черед.
Мыкола прошел испытание на шестерку по пятибалльной шкале. Выпив кофе, посидел с полчаса и собрался уходить, но задержался на четверть часа, увидев, как Галина пытается включить свет в коридоре. Сама она уже привыкла к тому, что на капризный выключатель надо нажать дважды или трижды. Иногда, в сердцах, и батьку его помянешь недобрым словом, хотя какой у выключателя может быть батька.
Поинтересовавшись, есть ли у Галины отвертка, и получив желаемое сразу в трех экземплярах – большая крестовая, малая крестовая и обычная – Мыкола, не отключая электричества (а то ведь ничего не видно будет), снял с выключателя клавишу, что-то там подкрутил, вернул клавишу на место и спросил, в порядке ли вся остальная электрика. Галина (нет бы промолчать – гость же, не электрик из ЖЭКа!) вспомнила про бра в спальне, который не включался «ни таком, ни каком». Давно надо было вызвать электрика, но Галина временно приспособила на тумбочке вместо бра настольную лампу и успокоилась. Как известно, нет ничего более постоянного, нежели временное. Ознакомившись с проблемой, Мыкола спросил про изоленту и пассатижи. Галина принесла ему коробку с инструментами, оставленными ей Константином после развода (еще и шутил, сволочь: «Инструмент есть, значит, и мужик появится») и отправилась на кухню жарить сырники. Любая услуга должна быть вознаграждена, а мастера, сделавшего что-то полезное, непременно нужно угостить. Или заплатить ему, иначе как-то не по-божески. Денег Мыкола, разумеется, не возьмет, а вот от угощения вряд ли откажется. Сырники были выбраны за быстроту приготовления и универсальность – хочешь с медом их ешь, хочешь с вареньем, хочешь так, чаем запивай. Да и не из чего было сооружать настоящее угощение. После отъезда Виктора в холодильнике кроме нежирного творога, огурцов, помидоров и кефира ничего не водилось. Галина пыталась соблюдать врачебные запреты, да и аппетит был не ахти какой. Если уж начистоту, то не было никакого аппетита, ела чисто по привычке. Утром салат из помидоров с огурцами, в обед – одно-два яблока или йогурт, вечером немного творога и стакан кефира. Не то настроение, чтобы гурманствовать. Не столько даже из-за болезни и кафедральных дел, сколько из-за сына, точнее – из-за его проблем.
Сырники готовились не более четверти часа, но за это время Мыкола не только починил бра, но и отрегулировал окно в спальне так, чтобы из него не дуло. «Пошлейшая в своей обыденности ситуация – Мастер На Все Руки и Одинокая Женщина, – подумала Галина и тут же одернула себя: – Ничего пошлого, мужчине положено быть мастером на все руки (брат Степан об этом всю жизнь талдычит), а одинокой женщине сам Бог велел иметь какие-то мелкие проблемы по хозяйству. Она же – Женщина! Все естественно. Вот если бы Галина пришла к Мыколе в гости и начала бы чинить выключатели, то это смотрелось бы немного странно… Впрочем, какая разница? Главное то, что Мыколе, кажется, нравится чинить и приводить в порядок, а Галине нравится жарить сырники. Все остальное несущественно. Каждый может и должен заниматься тем, чем ему хочется заниматься. И, вообще, в Божьем мире не существует случайностей. Все предопределено, только не всегда это сразу бывает понятно.
От угощения Мыкола попытался отказаться. Сослался на некие дела, но по глазам видно было, что он врет. Хозяйка проявила настойчивость и пришлось согласиться. Под сырники раскупорили бутылку вишневой наливки домашнего приготовления (презент доцента Петикян, великой мастерицы всевозможных заготовок). Посидели. Поговорили. Галину вдруг потянуло на откровенность. То ли вишневка, наложившись на вио, развязала язык, то ли просто захотелось излить душу человеку, который поймет и посочувствует. Насчет того, что Мыкола из тех, кто способен понимать и сочувствовать, сомнений не было.
–Бедная… – сочувственно сказал Мыкола, выслушав Галинину исповедь.
Галине тут же захотелось возмутиться. Слов вроде «бедная» или «несчастная» в свой адрес (пусть и сказанных с сочувствием), она не выносила. Но оказалось, что Мыкола говорит не о ней.
–Бедная наша Украина, – продолжил он. – Нигде у нас ни порядка нет, ни правды. Все как в кривом зеркале, смотреть тошно… Но ничего, скоро все изменится.
–Изменится, – печально кивнула Галина. – Выживут меня совсем. У вас в техникуме, случайно, нет свободной ставки преподавателя истории?
Удивительно, но ей вдруг захотелось побыть слабой, нуждающейся в утешениях, женщиной. Чтобы пожалели, успокоили, приласкали, объяснили, что все будет хорошо. Наваждение, сущее наваждение… На какое-то мгновение стало стыдно – позволила себе раскиснуть, да еще при едва знакомом человеке. Нехорошо. Затем мелькнула мысль – околдовал он меня, что ли? Галина решительно тряхнула головой и уже раскрыла рот для того, чтобы сказать: «Не звертайте уваги, пане, я фіглюю»,[15] именно так, по-захиденски[16], чтобы шутейнее вышло. Однако, прежде чем Галина успела произнести хоть слово, Мыкола встал, подошел к ней, обнял левой рукой за плечи, прижал к себе, а правой стал гладить по голове. Совсем как отец в детстве, только у отца не было такого колючего свитера. Но что за неприятность колючий свитер, если он надет на хорошего человека? И если обнять хорошего человека самой и вжаться посильнее, то свитер сразу же перестанет колоться…
Счастье длилось целую вечность, а потом Мыкола нежно поцеловал Галину в макушку и негромко сказал, перейдя на «ты»:
–Все будет хорошо, Галю. Ты не переживай.
–Я не переживаю. – Галина подняла голову и с благодарностью посмотрела на Мыколу, ощущая, как крепнет с каждым мгновением возникшая между ними связь. – Я удивляюсь…
–Я тоже удивляюсь, – ответил Мыкола, весело подмигивая. – Удивляюсь тому, как мы не познакомились раньше. В понедельник директору магарыч поставлю. Я у него вчера пытался отпроситься пораньше, чтобы в поликлинику заскочить, а он, добрая душа, не отпустил, потому что я ему план работы на декабрь не сдал. Потребовал срочно сдать, и я просидел над этим планом до половины десятого…
–У тебя замечательный директор! – Впервые в жизни Галина искренне хвалила совершенно не знакомого ей человека. – И ты…
К горлу почему-то подкатил комок и недосказанное пришлось выразить взглядом.
–И ты замечательная, – улыбнулся Мыкола.
Он наклонился, коснулся своими губами губ Галины (более целомудренный поцелуй невозможно было представить) и повторил: – Все будет хорошо…
Галина ожидала какого-то продолжения, но Мыкола снова удивил. Поблагодарил за угощение, попросил позволения позвонить завтра (именно так, не «дай мне твой номер», а «могу ли я позвонить тебе завтра?») и ушел. Галина встала у окна на кухне и загадала – помашет ей Мыкола рукой или нет? Захотелось загадать, совсем как в юности, ранней-ранней юности… Мыкола не подвел. Вышел из подъезда, остановился, задрал голову, увидел Галину, заулыбался и замахал обеими руками сразу. Галина распахнула окно и помахала в ответ.
Ромео и Джульетта а-ля Киев. Пародия на сцену на балконе.
4
– Не подумайте, что я какой-нибудь слабовольный тюфяк. С волей у меня все в порядке, и побеждать я люблю. Радуюсь, когда в чем-то обхожу конкурентов, даже горжусь собой. Просто для меня имеет значение моральная сторона вопроса. Это не пустые слова, я не рисуюсь нисколечко. Для меня это действительно имеет значение…
Слово «мораль» и его производные были любимыми у Виктора. Ольга прекрасно понимала почему. Быть слабовольным неудачником не так приятно, как высокоморальным человеком, не опускающимся до низменных средств борьбы. Раньше, стоило только мужу начать разглагольствовать на тему «моя мораль и мои достижения», Ольгу сразу же разбирал смех. В самом деле это выглядело смешно, особенно с учетом того, что ей-то уж хорошо было известно, чего стоят на самом деле «высокие моральные принципы» Виктора. Потом она какое-то время злилась – ну, сколько же можно, в самом деле? А с какого-то момента раздражение сменилось безразличием, привыкла.
С недавних пор, сразу же по возвращении из Киева, Виктор изменил свою «программу». Теперь, рассуждая о морали, он говорил не «для меня», а «для нас, украинцев». И вообще, старался приплести рассуждения о национальном к любой теме. Поначалу Ольгу это забавляло, но очень скоро начало удивлять. Явный перебор налицо. За Виктором вообще-то водилась склонность увлекаться как женщинами, так и всем остальным. Восторженное преклонение перед Вуди Алленом сменялось не менее восторженной любовью к фильмам Гринуэя, то Виктор читал запоем одного лишь Коэльо, то вдруг переключался на Пелевина. Недели три восклицал с недоумением: «Как же это я не открыл его раньше?!» Перечитывал особо полюбившиеся вещи по нескольку раз, сыпал цитатами налево и направо, но в один прекрасный день заявлял, что Запад себя исчерпал, литература может быть только на Востоке, и какое-то время никого кроме Мисимы с Мураками не признавал… Но вот национальная идея за все время их знакомства увлекла Виктора впервые. Раньше он свою принадлежность к украинской нации, казалось, не осознавал. А если и осознавал, то почти никогда о ней не упоминал. А если и упоминал, то в шутку. Придет вечером с работы, достанет из холодильника бутылку и закуску, подмигнет жене и скажет: «Не можна нам справжнім українцям без сала да без горілки»[17]. Или мог спеть на пару с дочерью «Ой, на горі та женці жнуть»[18]. Не всю песню, а только первый куплет, до «Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть». Дальше не выучил. Ну, еще как-то раз объяснил Анечке, что голубой цвет на украинском флаге символизирует небо, а желтый – землю, бескрайние пшеничные поля. А тут вдруг понесло… Да как понесло!
То, что муж стал называть дочку Ганнусей, Ольгу не удивило – привык, пока были в Киеве. То, что вареники вдруг стали любимым блюдом, тоже не удивило, – очередное увлечение, пришедшее на смену питанию соевым творогом и пророщенными ростками. Ольга удивлялась, как это вообще можно есть, а Виктор наворачивал так, что за ушами трещало. И по три раза на дню рассказывал о том, насколько лучше стал себя чувствовать. Сейчас – то же самое. Наестся вареников, погладит себя ладонью по животу и начнет рассуждать о том, что нет лучше национальной кухни, ибо в ней все «исторически целесообразно и генетически обусловлено». Дочь раз спросила у Ольги, что такое «генетически обусловлено». Простой вопрос, а поставил в тупик.
В одночасье Украина стала у Виктора лучшей в мире страной, потеснив Англию, в которой он никогда не был, но восхищался заочно, и Финляндию, в которую они ездили зимой всей семьей кататься на лыжах. Ольга восторгов по поводу Финляндии не разделяла. Ничего особенного, страна как страна. Скупые на эмоции северяне, дороговизна, посмотреть не на что и развлечься особенно негде. Снега, правда, вдоволь, что в эпоху глобального потепления особенно ценно и лыжные трассы в идеальном порядке. Порядок у финнов в крови, умеют. Но уныло там, то ли дело – Италия. Для Ольги лучшей страной была Россия, а лучшим городом Москва. И не потому, что она здесь жила, а потому, что ей нравилось здесь жить. По целому ряду причин. Свое место, родное, привычное. Ольга никогда не считала себя патриоткой, но слушать иронично-язвительные замечания Виктора в адрес России и русских ей было неприятно. Смолчала раз, смолчала два, а на третий не выдержала. Дождалась, пока дочь уйдет в свою комнату (дело было за ужином) и сказала:
–Вить, ты не употреблял бы при Анечке такие слова, как «москаль» или «кацап». Ребенок повторит где, так попадет в неловкое положение. И вообще нехорошо. Ты в последнее врмя слишком уж…
Хотелось выразиться помягче, а на ум приходили только слова «пороть» и «чушь». Верные, но не совсем уместные. Особенно сейчас, в период налаживания отношений. Наладить договорились еще в Киеве после откровенного разговора. Виктор повел себя на удивление по-мужски, Ольга даже не ожидала от него такого. Сказал, что не вправе упрекать ее в чем-то, потому что сам многократно виноват, да и не хочет упрекать, потому что любит и надеется. Ольга ответила, что она тоже надеется и хочет, чтобы у них все наладилось. Про любовь намеренно не упомянула, потому что во время откровенного разговора не то чтобы врать, даже лукавить нельзя. Да и не в любви дело, а в семье, в ребенке… Но чуть позже, когда Виктор вдруг подхватил ее на руки и понес по коридору, нежно целуя в губы, щеки и шею (свекровь была в больнице, а дочь уже спала), Ольга почувствовала, как в душе шевельнулось чувство, которое она считала угасшим совсем и навсегда. Нахлынувшее желание мешалось со стыдом и надеждой – ну раз так, то можно надеяться. Стоит надеяться.
С того дня они вели себя друг с другом крайне предупредительно, деликатно, заботливо… Как на людях, так и наедине, особенно в постели. Строили новое счастье на руинах, и было это счастье тонким, хрупким, стеклянным, прозрачным, почти невидимым. Пусть хрупкое, почти невидимое, но оно существовало уже хотя бы потому, что обоим хотелось верить в его существование.
–Ты в последнее время слишком уж перебарщиваешь с национальным, – сказала Ольга, не придумав ничего лучше. – Зачем?
Замечание, и без того весьма корректное, было смягчено улыбкой. Ольга не ожидала, никак не могла ожидать, что Виктор вспылит и начнет ее оскорблять.
–Почему я не могу говорить то, что думаю, в моем собственном доме?!
«В моем» задело Ольгу больше, чем вздорно-категоричный тон. Во-первых, не «в моем», а «в нашем». Она тоже тут живет и вправе высказать свое мнение. Во-вторых, если уж на то пошло, то это был скорее ее дом, принадлежащая ей квартира, в которой Виктор был только зарегистрирован. Но разве она, хоть единожды, позволила себе сказать «в моей» или «в моем»? Нет! В-третьих… Да ладно, что там считать. Хрупкое здание, возводимое на руинах в течение двух с лишним недель, разбилось от одного брошенного камня… И поделом! Недаром же говорится, что нет смысла склеивать разбитый горшок.
–И с каких это пор моя жена прониклась к москалям?! Что вдруг?!
Что вдруг? А ничего. И почему «вдруг»? Ольга родилась и выросла в Москве. И родители ее тоже родились и выросли здесь. С Украины был дед по отцу. Приехал после войны в столицу строить, да и сам «пристроился».
Еще была возможность свести все к шутке, погасить вспыхнувшее пламя.
–Это ты после того, как тебе на машине написали про москалей, стал патриотом? – Ольга заставила себя улыбнуться. – Или это влияние Степана?
Двоюродный дядюшка Виктора был всем патриотам патриот. Кий, Щек и Хорив вместе с их сестрой Лыбедью[19] в подметки ему не годились. Не может пройти мимо открытой форточки без того, чтобы не остановиться, не втянуть с видимым наслаждением воздух и не сказать: «Киевом пахнет». В разговорах только и слышно «наше – найкраще»[20] да «слава Украине». Остается лишь удивляться тому, что человек, столь горячо любящий свою родину и все родное, живет на чужбине, среди поляков. Впрочем, на чужбине-то как раз патриотизм нередко возрастает. Ностальгия способствует… Неужели на Виктора тоже нашло? Патриотизм дядьки Степана не мешал ему при любом удобном случае и даже без оного нахваливать хорошую польскую жизнь с непременной оговоркой «А в Німеччині як гарно!»[21]. В итоге становилось непонятно, где же все-таки стоит жить. В Киеве? В Белостоке? В Гамбурге?
–При чем тут Степан?! – взвился Виктор. – У меня что – своего ума нет?! Тебе что, непременно надо меня унизить?! Разве мало того, что рога наставила?!
На крик прибежала испуганная дочь, смотрела непонимающе, потом расплакалась. Ольга увела ее в ванну умываться. Там они долго плакали вдвоем, то и дело повторяя друг другу: «Не надо, Анечка…» и «Не надо, мамочка…». А когда успокоились и вышли, то увидели, что Виктора дома нет. Наорался и ушел, а они были так заняты, что не слышали, как хлопнула входная дверь. Ольга выглянула в окно и увидела, что их серый «Хендай-акцент» стоит возле подъезда. Значит, муж решил прогуляться до ближайшего кафе и «полечить» там свои расшалившиеся нервишки. О других методах лечения Ольге думать не хотелось. Ей хотелось верить, что Виктор сейчас где-то напивается… Однако спустя три с лишним часа муж вернулся домой абсолютно трезвым. Ольге не сказал ни слова и, вообще, делал вид, что не замечает ее.
Пока Виктор принимал душ, Ольга, презирая себя, заглянула в список исходящих вызовов на его телефоне, оставленном на тумбочке в спальне. Последний вызов в двадцать один восемнадцать, вскоре после того, как Виктор ушел. Какой-то или какая-то МВ, номер мобильный. И больше никаких исходящих звонков, зато два пропущенных – в двадцать два ноль пять и в двадцать два двадцать. Оба от Игоря Рехтина, коллеги-программиста, работавшего вместе с Виктором. Игоря Ольга знала. А вот в отношении МВ можно было только строить предположения. Презирая себя еще больше, Ольга набрала номер МВ со своего телефона. После четвертого гудка в трубке послышалось томно-протяжное:
–Алло-о-оу?
Голос был женским, молодым, низковатым.
–Маргарита Васильевна? – негромко спросила Ольга, оглядываясь на дверь.
Спросила лишь для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к своему звонку. Одно дело – звонить и молчать, и совсем другое – просто ошибиться при наборе номера. Ну а «Маргарита Васильевна» пришла на ум из-за инициалов МВ.
–Вы ошиблись! – строго сказала МВ и отключилась.
Выводы напрашивались сами собой, но Ольга отогнала их. Вдруг на самом деле все было иначе (иначе? Да иначе и быть не могло!). Вдруг Виктор просто решил прогуляться, ходьба ведь тоже успокаивает, а по дороге позвонил знакомой. Или, может, даже коллеге по работе… Но почему тогда конспиративное «МВ» вместо имени? А может, просто для краткости. И не спросишь ведь про МВ. Муж сразу поймет, что она лазила к нему в телефон, и устроит скандал…
К внутренним, семейным проблемам добавились внешние, рабочие. Несмотря на то, что у Виктора был весьма уважительный повод для продления отпуска, и на то, что часть рабочих вопросов он решал удаленно, из Киева, а часть работы делали за него коллеги, начальство восприняло длительное отсутствие программиста Любченко крайне негативно. Руководитель службы внутреннего контроля выразился в том смысле, что ему все едино, бухал ли Любченко по-черному или сидел возле больной матери, главное то, что он всех подвел. Виктор огрызнулся, наговорил дерзостей, хлопнул дверью начальственного кабинета и теперь всерьез опасался, что его уволят. Первый звонок прозвенел буквально тотчас же – якобы в связи с производственной необходимостью Виктора перевели из центрального офиса в одно из отделений. Фактически из ведущего сотрудника отдела информационной безопасности он превратился в исполняющего обязанности системного администратора филиала. Меньше полномочий, меньше перспектив, существенная потеря в деньгах, потому что ежемесячные премии в отделе информационной безопасности равнялись полутора, а то и двум окладам, а системным администраторам кидали какие-то жалкие гроши, причем раз в квартал. Не столько премия, сколько ее видимость.
–Это увольнение, – сказал Виктор. – Постепенное. Из нашего отдела сразу увольнять не принято. Переводят на полгода куда-нибудь подальше от секретов, а потом дают пинка под зад. Такая вот тактика. Чтобы не утекали к конкурентам самые последние новости…
–Полгода – это шанс все исправить, – заметила Ольга. – Пусть небольшой, но шанс. Можно постараться как-то сгладить…
–Что там сглаживать?! – сразу же распсиховался Виктор. – Ты не знаешь нашего председателя! Сталин и Мао перед ним ничто! Он никогда ничего никому не прощает! Если даже я сотру язык в ковь, вылизывая его задницу, меня все равно уволят! Да и не стану я ему задницу лизать! Не к лицу мне унижаться перед всяким дерьмом! Программисты везде нужны!
С одной стороны, муж был прав – его незаслуженно обидели. Явно угодил между какими-то невидимыми жерновами, стал жертвой чьих-то интриг. С другой стороны, лезть на рожон не стоило однозначно. Никому ничего не доказал, только себе хуже сделал. Программисты везде нужны, это так, только работа работе рознь. В банке были перспективы, хорошая зарплата, возможность получения кредитов на весьма льготных условиях… Где еще найдешь такую работу, да еще с репутацией скандалиста? Ни в один банк, да и вообще ни в одно серьезное место не возьмут без наведения справок на прежней работе. И хуже всего было то, что Виктор придал своим рабочим проблемам национальную окраску. «Был бы я москаль, мне бы и слова не сказали…» Был бы я москаль! Как бы не так! Несколько лет не гнобили клятые москали бедного хохла, а теперь вдруг решили загнобить!
Как психолог, Ольга прекрасно понимала всю опасность перекладывания «с больной головы на здоровую». Стоит только начать винить в своих проблемах окружающих или роковые стечения обстоятельств, но только не себя самого, как проблемы начнут расти словно снежный ком. Попытавшись объяснить Виктору, что его проблемы начались не с несправедливого обвинения, а с неадекватной реакции на него, Ольга наткнулась на столь сильное непонимание, что пожалела о своей инициативе и зареклась встревать в дела мужа. Если в ответ на попытку помочь тебя называют предательницей и начинают рассуждать о том, что предавший раз, непременно предаст еще (хорош намек, нечего сказать!), то помогать больше не захочется. Возможно, что никогда. Тому, что Виктор, изъявив желание наладить отношения с женой, на деле делал все для того, чтобы их испортить, можно было найти объяснение, опираясь на психологическую науку. Но разве в объяснениях суть? Суть в том, чтобы все было хорошо. Чтобы все стало хорошо. Не как прежде, потому что как прежде ничего не бывает, нельзя войти дважды в одну и ту же воду, а просто хорошо.
Петр слал письма. Ольга удаляла их не читая. Хотелось прочесть, но она брала себя в руки и удаляла. И сразу же очищала корзину. Чтобы не передумать и не прочесть. В памяти каждый раз всплывали тютчевские строки:
- Она сидела на полу
- И груду писем разбирала —
- И, как остывшую золу,
- Брала их в руки и бросала…
В Тютчеве Ольгу (небольшую, надо сказать, любительницу поэзии) поражало несоответствие внешнего облика поэта его стихам. С виду совершеннейший сухарь, Тютчев никакого сравнения не выдерживал с романтичными Александром Сергеевичем или Михаилом Юрьевичем, а в стихах оказывался тонким лириком. Как умел чувствовать, какие слова находил… «И чудно так на них глядела – как души смотрят с высоты на ими брошенное тело…» «Любви и радости убитой…» – Ольге казалось, что это стихотворение написано про нее, настолько оно было ей созвучно. Каждое слово отзывалось в сердце горьким уколом. Убитая радость мстила, и месть ее была не то чтобы страшной, а горькой-прегорькой. Настолько горькой, что эта горечь грозила отравить всю жизнь.
5
Все люди – гады и сволочи. И чем человек богаче, тем он сволочнее. Верить нельзя никому, разве что только своим, самым близким.
Эту нехитрую истину Кристина усвоила с детства. Спасибо матери, та очень старалась. Развод с отцом стал для матери потрясением, расколовшим мир на две неравные части – она с маленькой дочерью, и все остальные, – те самые, которые гады и сволочи. Сама Кристина делила немного иначе. Несмотря на все убеждения матери, она продолжала считать отца «своим», а не «чужим». Мало ли что там у родителей произошло, а все-таки родной папаша.
Родной папаша появлялся на горизонте нечасто – обычно летом, когда приезжал в Крым на отдых.
–Какой наглец! – возмущалась мать. – Можно я у вас поживу «по-родственному»? Хрен тебе, а не «поживу»! Живи, как все, снимай койку за деньги! Нажились вместе, хватит!
Кристина и понимала маму и не понимала одновременно. Двухкомнатная дедовская квартирка в пятиэтажке – не царские хоромы, самим не развернуться, но ради налаживания отношений с отцом можно и потесниться. Вдруг у родителей сладится заново, и они будут жить в Киеве, как раньше. Матери же самой этого хочется. Постоянно вздыхает: «Эх, какая жизнь у “брошенки” с дитем на руках». Однажды не выдержала и высказалась.