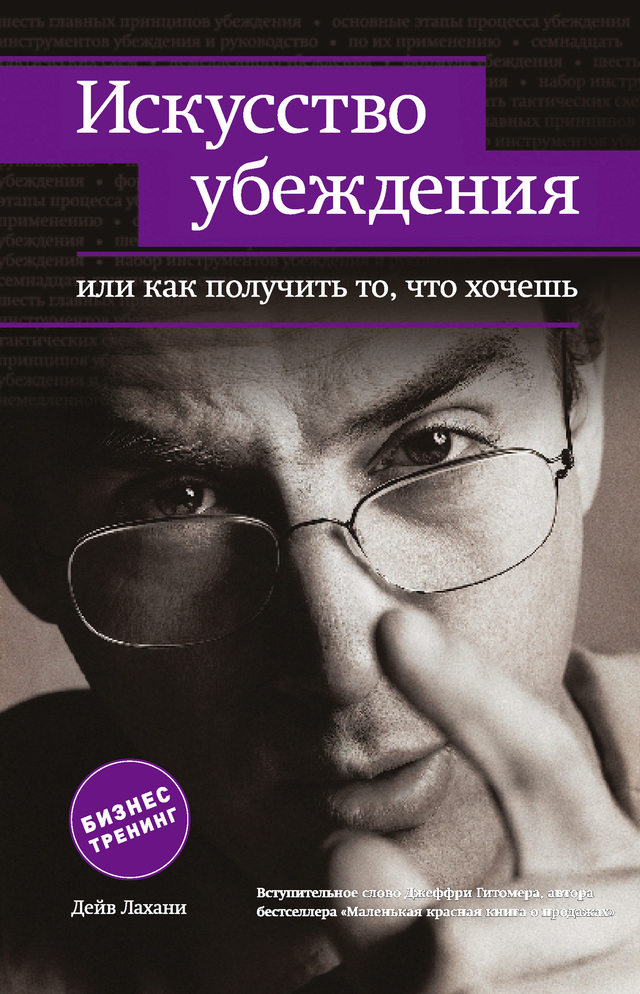Герой иного времени Брусникин Анатолий
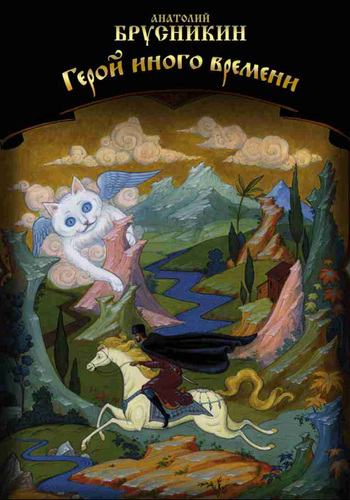
Разговор с незнакомкой
«Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть».
А. Бестужев-Марлинский, «Аммалат-бек»
Девушка была милой и доброй, хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в двадцать лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы», это казалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и нешуточное: из Петербурга на Кавказ, к серным источникам, но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии.
Петербуржанка ехала на своих, целым поездом: впереди дорожная карета, запряженная парой каурых англичанок, затем повозка с багажом, еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя (он был гурман), да запасные тягловые лошади, да чистокровная кобыла для верховой езды – на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок.
Первую часть пути, от Петербурга до Москвы, девушка робела и вела себя послушно, но характер у нее был отцовский, смелый, к новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы всё будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице как к взрослой, но уж, вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь.
Так она и сделала.
Распрощавшись с провожающими на Серпуховской заставе, отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции, в Бирюлеве, велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади осталось всего 17 верст, лошади нисколько не устали. Но девушка объявила, что желает чаю.
Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное: «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала» – и, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок, но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз.
Неожиданная остановка огорчила возниц, горничную и лакея. Погода стояла солнечная, опьяняюще свежая, как бывает в середине апреля, и все настроились ехать вперед – под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе, под звон бубенцов. И вдруг на тебе!
Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду – им не пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии.
Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала.
От самой заставы за экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпке с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояния не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты; она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы – словом, пребывала в волнении или, может быть, колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с уст сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наездница тронула лошадь хлыстиком – та легко запустила иноходью.
Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции, а те, кто, наоборот, едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия.
Пока барышне сервировали стол, брюнетка делала вид, что изучает таблицу с прейскурантом, но, едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица вуаль и прерывающимся голосом сказала:
– Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени. Я после объясню… А кто вы, мне известно.
Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета как принято в самом взыскательном обществе.
Петербуржанка сказала:
– Прошу вас садиться. Что вам угодно и откуда вы меня знаете?
– Я следовала за вами от самого дома вашей тетушки на Пречистенской. Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности… Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами.
Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул.
– Благодарю… – Москвичка сняла шляпу.
Ее лицо было не первой молодости и не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта – и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за тридцать, притом нисколько не молодясь.
– Да, я все про вас знаю, – продолжала дама. – Москва – маленький город. Я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых… Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны…
При этих словах губы блондинки немного скривились – она бы предпочла, чтобы о ней говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства.
– …Я решила вам довериться. Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека. – Она запнулась. – Я пока не назову вам и его имени. На случай, если вы откажете… Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы всё поймете.
– Слушаю вас, – сказала девушка, очень довольная, что женщина много старше ее годами волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойна и сдержанна. – И не волнуйтесь. Хотите чаю?
– Нет, спасибо… Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?
Хоть и раздосадованная «ангелом», барышня кивнула. Ей становилось всё любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама – верно о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу же начиналось с романтического приключения.
– Кто вы все-таки? – спросила она. – Не хотите называться – не нужно, но все же – кто?
Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя коротко:
– Никто. Старая дева. Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на двенадцать лет моложе, мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он, но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея: государь с государыней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шатобриан, дюжина родственников, и среди них он – очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто о нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой и его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история (тогда они случались гораздо чаще, чем теперь), и он уехал в далекие страны. Их названия были для меня, как музыка: Америка, Испания, Греция. Во времена моего детства в гостиных часто звучали имена «Боливар», «Квирога», «Ипсиланти». Он, должно быть, видел этих великих людей, думала я с восторгом. Сегодня в это трудно поверить, но тогда все любили порассуждать о революциях, юноши мечтали где-нибудь сражаться за чью-то свободу. Но они мечтали, а он – сражался.
Я была подростком, почти девушкой, когда вокруг стали говорить, что надобно сначала избавить от рабства собственных соотечественников, а потом уж заботиться о счастьи испанцев или греков. Вы недоверчиво улыбаетесь? Мне и самой странно. Прошло меньше двадцати лет, а кажется, будто это было во времена античности…
Человек, о котором я рассказываю, вернулся из долгих странствий в канун Несчастья. Вы понимаете, о чем я… Это было в исходе 1825 года, – прибавила дама, видя на лице слушательницы недоумение. Та неуверенно кивнула. – Он прибыл в Петербург, кажется, в самый день возмущения. Не знаю, в чем именно заключалось его преступление против власти, но приговор он получил ужасный, по первому разряду, то есть повешение, по конфирмации замененное пятнадцатью годами каторги с последующим сибирским поселением навечно. Навечно, – повторила она медленно, с дрожью. – Мне после шепнули, что в отличие от многих, виновных куда более, он дерзил на следствии и восстановил против себя самого… Нет, не буду об этом. – Дама сбилась, видимо, забеспокоившись, не сказала ли она нечто, могущее испугать собеседницу. – Я не хочу, не должна касаться материй, которые… не имеют значения. Лучше я расскажу о своих отношениях с… этим человеком.
Она опустила глаза и, не переставая говорить, теперь всё смотрела на скатерть, будто видела там картины из прошлого.
– Вы уже, конечно, догадались, что я полюбила его. Я не могла в него не влюбиться еще заглазно – со всеми этими рассказами, с миниатюрным портретом, с девичьим томлением и скукою деревенской жизни. Вероятно, эти мечтания закончились бы тем, что я встретила бы какого-нибудь более или менее обыкновенного человека, обнаружила бы в нем всевозможные достоинства или напридумывала их, вышла бы замуж, и потом была бы счастлива или несчастна, Бог весть. Но вышло так, что по дороге из-за границы в Петербург мой троюродный брат заглянул в наше имение… И я увидела человека исключительного, по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастья, которым она меня одарила. В самые тяжкие минуты я спрашиваю себя: готова ли я была бы променять свой жребий на какой-то иной? И в ужасе содрогаюсь. Нет, никогда!
Москвичка смахнула слезинку. Глаза завороженно слушавшей петербуржанки тоже вмиг увлажнились.
– Итак, мне шел осьмнадцатый год. И вела я себя, как всякая влюбленная девочка. Не сводила с него глаз, повсюду за ним ходила и прочее подобное. Я знала, что очень недурна – мне все это говорили. А он слыл ценителем женской красоты. Я слышала про его любовные приключения, но эти слухи меня не отталкивали, совсем наоборот… И, конечно же, он обратил на меня внимание. Несмотря на неопытность, я понимала, что это обычный интерес мужчины к хорошенькой девице, но надеялась, что он сумеет рассмотреть во мне не только свежее личико и стройную фигурку. Однако я ужасно боялась, что он уедет в столицу, так меня и не узнав. Страх заставил меня совершить самый смелый поступок в моей жизни…
– Вы написали ему признание?! Как Татьяна Онегину? – вскричала барышня, прижав руку к сердцу.
– Нет. Я ночью пришла к нему в комнату, пала ему на грудь и осталась до утра.
Блондинка растерянно моргнула. Она была фраппирована.
– Но… – пролепетала она – и не закончила.
– Я сказала, что я старая дева, но не говорила, что я девица.
Рассказчица наконец подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне.
– И вы не сожалеете о своей… слабости?
– Слабости? Сожалею? – Дама тихонько рассмеялась. – Эта ночь – самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой.
– Единственное сокровище? – переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность.
– Нет, конечно, нет, – поправилась брюнетка. – Еще у меня есть письма.
– Он вам писал… оттуда? – Барышня неопределенно махнула рукой в сторону, где по ее представлению находилась Сибирь.
– Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро, в течение долгих лет, у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мною за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток. Нет, не так. – Она поправилась. – Только в эти минуты я живу. Потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Изза ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой. Потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень-очень важно – оглядываться на каждый прожитый день. За это я тоже должна быть благодарна ему…
– Каждое утро? – Девушка покачала золотой головкой. – Сколько же это получается?
– Несколько тысяч. Но отправляла я меньше, гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось одно письмо в месяц. Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь, туда доходит только казенная почта. Правда, никто кроме меня ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чему я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне. Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло: каждое письмо дышало любовью. Она была со мною всякий день.
Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой, а светловолосая начала всхлипывать, ей пришлось достать платок.
– Вы отправляли всего двенадцать писем в год? А остальные?
– Сжигала. На что их хранить? Я и сегодня утром ему написала, да не пошлю. Хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если пожелаете…
Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу.
Блондинка запротестовала:
– Нет, зачем же я буду вторгаться… – Но вдруг сверкнула глазами. – … Да, хочу! Очень хочу!
Она взяла листок, исписанный ровным и мелким, очень красивым почерком.
– Вы перебеливаете? Хоть потом и не отправляете?
– Конечно. Перебеливать и убирать из письма лишнее – это самое приятное.
Вот что говорилось в письме:
Милый друг, я долго размышляла, пытаясь понять Ваше решение, показавшееся мне невыносимо жестоким, и наконец мне сделалось ясно, что Вы, как это всегда бывает, правы. Я больше не досадую на Вас, я досадую на себя за недостаточное умение понимать Вас и недостаточное доверие к Вашим поступкам.
День мой был светел, как всякий день после истечения срока Вашей каторги. Хоть, желая утешить меня, Вы и писали, что бремя Ваше не такое уж суровое, положение Ваше сносно, а работы не тяжелы, при одной мысли о цепях, оскорбляющих Ваше – нет, не достоинство, его цепями оскорбить нельзя, – Ваше вольнолюбие, сердце мое разрывалось от негодования. Слава Богу, с этим покончено, ликовала я, и принуждение находиться в далеком, диком краю без возможности когда-либо его покинуть казалось мне почти безделицей по сравнению с перенесенными Вами муками. К тому же, Вы знаете, я столько лет ждала окончания каторжного срока как великой недостижимой мечты еще и потому, что надеялась вновь увидеть Вас, соединиться с Вами. Я, как Вы несомненно помните, имела дерзость проситься Вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете: мне все равно, венчанной или нет, лишь бы быть с Вами рядом, но, согласно существующим установлениям, с тем, кто пребывает в вечной ссылке, дозволено находиться лишь законной супруге.
Целую неделю, после получения Вашего письма с новым адресом, я писала о всяких пустяках, чтобы не касаться главного – своего горестного недоумения. Ведь Ваш ответ на мое бесстыдное предложение взять меня в жены пришел через тринадцать бесконечно длинных месяцев! Я не знала, что и думать, и лишь твердая моя вера, что, пока я жива, с Вами ничего случиться не может, уберегала меня от отчаяния. Но вот, наконец, почта доставила письмо. И что же? Я узнаю, что, едва выйдя с каторги, Вы подали прошение о замене вечной ссылки отданием в солдаты и не хотели писать мне, пока не окажетесь на Кавказе!
Глупое мое сердце сжалось от мысли, что Вы поступили подобным образом, не желая венчаться со мной. «Он сделал это, потому что горд и не хочет жалости, – твердила себе я. – Нужно написать, нужно объяснить ему, что это не жалость и не милосердие, а нечто совсем другое!» Потом, вовсе утратив разум от горя, я говорила себе: «Не обманывайся. Он тебя не любит, любовь у мужчин не длится столько времени. Пока всё исчерпывалось редкой перепиской, он готов был тебя терпеть, но ныне, когда встреча сделалась вероятной, обманываться и обманывать больше не хочет. Ему милей мысль о пуле, нежели о жизни с тобой».
Простите меня, милый. Я кажусь себе умной, но часто бываю слепа и глуха. Вернусь к вчерашнему дню, когда у меня вдруг открылись глаза. Я где-то была, с кем-то разговаривала (не помню, неважно), и вдруг внутри у меня словно зазвучала дивная музыка. Пелена упала, я прозрела.
Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране, среди дикой природы. В детстве я слишком увлекалась Бернарденом де Сен-Пьером, и с тех пор голова моя наполнена ерундой о Поле с Виргинией средь девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь, должно быть, груба и безобразна, а положение бесправного ссыльного, без того тяжелое, стало бы вдвойне унизительным для Вас, если б я оказалась рядом. Мне следовало думать не о своих чувствах, а о Ваших. Мой приезд усугубил бы Ваши страдания.
Я перечитала Ваше письмо и увидела, что, оглушенная обидой, проглядела в нем главное: Ваше обещание. А ведь, казалось бы, я достаточно Вас знаю. Вас никогда не устроит половина, Вам нужно всё – или ничего.
Друг мой, Вы не отвергаете меня. Но Вы соглашаетесь со мной соединиться либо вольным человеком – либо никак.
Принимаю Ваше решение с полным пониманием и любовью.
Если Бог есть, Он сохранит Вас для меня, а меня для Вас.
Что бы ни случилось, Ваша А.
Читая, петербуржанка несколько раз неблаговоспитанно шмыгнула носом, но не заметила этого. Дважды на бумагу упали слезинки.
– И вы сжигаете такие письма? Каждый месяц? – спросила она глуховатым, будто простуженным голосом.
Дама грустно улыбнулась.
– Нет, только раз в год, осенью, когда в саду жгут листья. Проглядываю, вспоминаю, что было, – и бросаю в костер. Они ведь никому не нужны, эти неотправленные письма, даже мне самой – как никому не нужна опавшая листва. Исполнила свое назначение, осыпалась, и Бог с нею.
– Но теперь вы можете посылать всё, что пишете! У солдата, пусть даже из ссыльных, ограничений на почту нет!
– Могу. Но не делаю этого. Боюсь, его заметет таким обильным листопадом. – Она рассмеялась. – Я теперь посылаю ему письма дважды в месяц, ни в коем случае не чаще. И слежу, чтоб письмо было не длинным. Раньше-то иной раз выходило страниц по десяти.
– Но почему?
Очевидно, по поведению собеседницы москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно, и потому позволила себе перейти от искательности к некоторой назидательности, естественной при разговоре с юной девушкой.
– Мужчины не любят, когда на них обрушивают чересчур много любви. Во всяком случае такие мужчины. Запомните это. Не делайте обычной женской ошибки, не пытайтесь сажать птичку в клетку вашей любви. Вы когда-нибудь тоже полюбите – и, если я вас правильно разгадала, полюбите человека недюжинного. Это великое счастье, но оно потребует всей вашей души и всего вашего ума.
Барышня почувствовала себя польщенной, но в то же время и задетой. Она уже два с половиной месяца воображала, будто влюблена в одного конногвардейца.
– А отчего вы думаете, что я еще не полюбила?
– Вижу. – Дама улыбнулась на нотку обиды в ее голосе. – У вас спящее лицо. Женщина просыпается, когда в первый раз по-настоящему полюбит. Я с таким же, как вы, лицом ходила и будто во сне жила, пока однажды в декабре под нашими окнами не зазвонил колокольчик. Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил… А впрочем, давайте проверим, любите вы или нет. Тот, о ком вы подумали, когда сдвинули брови… Скажите, бывает, чтобы прошло пять минут, а вы ни разу о нем не вспомнили?
– Разумеется, бывает!
– А бывает, чтобы вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе: «Какой красивый мужчина!»?
– Да. Я ведь не ханжа! Но мой… избранник, – не без колебания употребила барышня слишком ответственное слово, – очень хорош собой, я смело могу сравнивать его с кем угодно.
– Вам за него страшно – ежечасно, ежеминутно? Вы боитесь, что он разобьется, выпав из седла? Заболеет неизлечимым недугом? Что безжалостный бретер вызовет его на смертельный поединок? Что безумец на улице бросится на него с ножом?
– Что за дикие фантазии! Мне и в голову подобное не приходит!
– Ну так вы скоро его забудете. Разлука и новые впечатления об этом позаботятся. Я вам скажу, что такое любовь. Это каждоминутный непрекращающийся страх. Такой сильный и постоянный, что других страхов уже не остается. Юной девушкой я много чего боялась, всяких пустяков: мышей, тараканов, грома, цыган – всего не упомню. А теперь боюсь только одного: что он умрет, и я останусь на свете одна… Но наши испытания близятся к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный. Он солдат, он на Кавказе! Скоро мы соединимся!
Залюбовавшись счастливой улыбкой, омолодившей и осветившей лицо дамы, и не желая, чтобы это сияние померкло, петербуржанка сказала очень осторожно:
– Но ведь он – нижний чин, подневольный человек. В известном смысле его положение тяжелее, чем у ссыльного…
Улыбка не померкла. Дама спокойно ответила:
– Он обещал, что быстро выслужит офицерский чин, а потом немедленно подаст в отставку.
– Вы не знаете, как трудно достаются эполеты людям такой судьбы. Отец, он генерал, рассказывал мне, что…
– А вы не знаете его! – Брюнетка, вспыхнув, перебила генеральскую дочь. – Он слов на ветер не бросает! Если пообещал, обязательно исполнит. – И смутилась. – Простите меня, простите! Вы не рассердились? Я так боюсь, что вы не согласитесь выполнить моей просьбы!
– Сделаю всё, что будет возможно. Говорите, – твердо ответила блондинка и крепко сжала обе руки собеседницы. – Вы желаете, чтобы я разыскала вашего возлюбленного и что-то ему передала?
Москвичка выразила свою благодарность ответным рукопожатием.
– Да… То есть нет… Искать его не нужно, я вам сейчас назову его имя и место службы. Ничего ему не передавайте. Просто… пишите мне: как он, здоров ли, не нуждается ли в чем-то. Вот всё, о чем я прошу. Только, ради Бога, будьте осторожны. За такими, как он, бдительно следят. Неизвестно, как может быть истолковано ваше к нему внимание. А пуще того я боюсь, не догадался бы он сам, что я через вас о нем пекусь. Это может ему не понравиться.
– Будьте совершенно покойны, я не подведу ни его, ни вас. – Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашиком. – Итак, его имя?
Из книги Г.Ф.Мангарова «Записки старого кавказца»
СПб, 1905 г.
Глава 1
«И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая».
Л.Толстой, «Хаджи-Мурат»
Сейчас и тогда. Юный честолюбец николаевской эпохи. Счастливый выстрел. Мечты начинают сбываться.
Человеку, в особенности человеку молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания, пупом вселенной. В юности не был исключением и я. Но мне – уж не знаю очень посчастливилось или очень не посчастливилось – на восходе жизни оказаться в орбите действительно крупного человека, после чего во весь остаток дней я более не испытывал иллюзий относительно масштаба своей персоны. Пожалуй, все-таки это была удача. И жалею я сегодня только об одном: как завершилась история этой необыкновенной личности, я так и не узнал и теперь, верно, никогда не узнаю. Разве что по ту сторону Занавеса, до которого мне осталось не более шага.
Всякое время порождает и размножает людей свойственного ему типа. Размах и мелочность, мужество и робость, благородство и низость подвержены моде, как всё на свете. Когда я был молод, особи, подобные тому, о ком я собираюсь написать, почти совсем повывелись. Еще и поэтому он так бросался в глаза – словно чудом уцелевший мамонт средь малорослых зверушек иного климата. Сейчас, в дни моего угасания, вновь настала пора Героев и Демонов, которых расплодилось невиданное множество, и подчас нелегко понять, кто сражается на стороне Добра, а кто на стороне Зла.
Я часто думаю: а каким бы был в двадцатом веке он? Нет, я выразился неверно. Он бы, конечно, был бы точно таким же, этакие люди в зависимости от веяний эпохи не изменяются. С кем он был бы – вот о чем следовало бы спросить. С душителямиили с разрушителями? Иных вокруг, увы, не вижу. В стороне от событий он точно бы не остался, это было не в его обычаях. Быть может, он сумел бы открыть какой-то иной путь, не знаю.
Я часто мысленно беседую с ним, признаю или оспариваю его правоту. Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь прошла в воображаемом диалоге с ним. Я часто сверял свои поступки по его стандарту. Если я не сумел прожить свои годы в покое и довольстве, виной этому он. Но если я получился не таким пустым и скверным, каким обещался, за это тоже следует благодарить его. В минуты трудного выбора я спрашивал себя: а как поступил бы он? Ответ всегда был ясен, ни разу не возникло ни малейшего сомнения. Его стандарт не оставляет почвы для колебаний. Бывало, я не находил в себе достаточно силы, чтобы ему соответствовать, но, даже совершая что-то, в его терминологии, hors de considration, я знал, что нехорош, а это знание, согласитесь, уже многого стоит.
С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше шестидесяти лет. Сменился век, сменилось всё. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет. Смотрясь в зеркало, я пытаюсь разглядеть под складками дряблой, усталой кожи прежнего себя (этому греху предаются все старики), но не обнаруживаю и тени своего тогдашнего облика. Я не помню своего юного лица. Это, пожалуй, неудивительно. Портретов с меня никто не писал, а фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминается что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, с золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями – мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а пресыщенным и недовольным.
Читая о моих кавказских приключениях, нельзя забывать, что я был очень молод и, как водится в этом возрасте, глуп. Незадолго перед тем мне сравнялось двадцать три года. Правда, в те времена этот возраст не казался таким детским, как ныне. У всех на памяти еще были министры и полководцы немногим за двадцать, вроде Питта Младшего или братьев Зубовых, а также юные фаворитки, под каблучком которых оказывались монархи и монархии. И, конечно, каждый небогатый и неродовитый офицерик вроде меня свято помнил, что Бонапарт стал генералом в двадцать четыре. Еще только отправляясь на Кавказ, я чуть ли не до дня подсчитал, сколько мне остается до тулонского возраста Наполеона. Вышло два года, срок по моим представлениям очень солидный, почти вечность.
Я, однако, был достаточно благоразумным юношей, чтоб понимать: времена бонапартов закончились и никакие подвиги не превратят меня за два года из подпоручиков в генералы. Что ж, я был согласен на что-нибудь менее недостижимое: флигель-адъютантские аксельбанты, женитьбу на дочери главнокомандующего или картежный выигрыш в сто тысяч. Не стоит презирать прагматичность моих мечтаний, такое уж это было время. Родись я четвертью века ранее, грезил бы о доле Цезаря или Брута.
Таких, как я, кто своей волей перевелся из столицы в Кавказский корпус, вокруг было немало. Кто-то сбежал от долгов, кому-то, как мне, служить в гвардии оказалось не по средствам, кто-то желал пощекотать себе нервы приключениями, и все без исключения рассчитывали на крестик и внеочередной чин. Горская война в протяжение чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, и лотереей счастья.
К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. Вначале Фортуна обласкала меня, оправдав самые смелые надежды. Коротко расскажу, как это случилось. Это воспоминание, не скрою, мне не то чтобы приятно или лестно, но оно меня забавляет.
По прибытии на Кавказ я попросился в боевой отряд, предназначенный для экспедиций вглубь немирной территории. У меня уж все было рассчитано. Я знал, что до весны похода не будет, и намеревался провести осень и зиму в подготовке к будущим подвигам. Упорства мне было не занимать. С детства оно, наряду с самолюбием, было сильнейшим из качеств моей натуры. Оба эти свои достоинства (если, конечно, считать их таковыми) я употребил в полной мере.
Мне во что бы то ни стало хотелось вызывать в своих новых сослуживцах, опытных кавказцах, любопытство и восхищение. Первое оказалось легко. Для этого достало моей неюношеской – а впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской – рассудочности, которая в возрасте более зрелом меня совершенно покинула.
Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. Вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно – товарищи отвернутся. Поэтому пить я постановил не более двух стаканов вина за раз, а в карты играть на особо выделенную четверть жалования, ни в коем случае ее не превышая. В результате, как это обычно бывает при расчетливой игре, я все время был в небольшом выигрыше, а пьяным меня никто не видывал, отчего в полку укрепилось мнение, будто я обрусевший немец (это неправда, моя фамилия «Мангаров» азиатского корня). Но любопытство старых служак я стяжал не умеренностью, а своими воинственными упражнениями.
На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. Если нет дежурства, спали допоздна, ходили затрапезно, а о занятиях фрунтом у нас никто и не думал. Я же, постановив как можно лучше подготовить себя к грядущему Тулону, усердно осваивал науку войны по заранее составленной программе. В нее входило укрепление мышц и выносливости, джигитовка, рубка лозы и в особенности практикование в стрельбе. Я был наслышан о невероятной меткости «хищников», как у нас называли враждебных горцев, и думал превзойти их в мастерстве.
Если мои купания в холодной речке, манипуляции с ядрами, заменявшими мне гири, держание в вытянутой руке ведра с водой, беготня вверх-вниз по крутому склону вызывали лишь сожалеющие взгляды и добродушные насмешки, то успехами в стрельбе я сумел-таки завоевать некоторый капитал почтительности. Я предусмотрительно начинал огнестрельные экзерсисы на отдалении от лагеря и устроил тир на ближайшем лугу, лишь когда добился недурных результатов. Вот тогда-то, месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «L'art du tir»,[1] я и показал товар лицом.
Томящиеся бездельем офицеры, а также не обремененные обязанностями старые солдаты собирались посмотреть на меня. Мой денщик с важностью раскладывал на изгороди крупную осеннюю ежевику. Я вставал в пятнадцати шагах и сшибал ягоды одну за другой, все реже промахиваясь, а позднее и вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило выпускать по сто пистолетных зарядов каждый день.
Смотрелся я жвописно. Пока мой Степка заряжал, я со скучающим видом позевывал, потом – бах! – и с жерди слетала очередная мишень. Помню прилив жаркого восторга, когда разжалованный за дуэль однополчанин (он слыл «отчаянной башкой») сказал: «Да, брат, не хотел бы я оказаться с тобой на барьере».
Однако карьерная польза мне вышла не от пистолета, а от ружья.
Я привез с собой отличный штуцер; из него я тоже выпускал ежедневно по сотне пуль, но только уже в послеобеденное время. Основательный французский учебник посвятил меня в тайну безупречной меткости, которая достигалась двумя условиями: твердой опорой и идеальной пристрелянностью. Первое я обеспечил, снабдив винтовку сошками, какими пользуются горцы. Порукой второму условию была точнейшая идентичность зарядов – вес и форма пуль, количество и качество пороха измерялись мною при помощи специального аптекарского инструмента. Еще одну дополнительную гарантию меткости я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Чтобы усилить этот доставшийся мне от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку, а на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. Мое изобретение ужасно мне нравилось. С его помощью – если не было ветра – я научился без промаха дырявить небольшую тыкву на почтенной дистанции в пятьсот шагов. На более коротком или более длинном расстоянии моя трубка пользы не приносила – очевидно, нужно было как-то сдвигать угол прицела, а этого я не умел. Но мне вполне хватило меткости на пятиста шагах, чтобы потрясти воображение видавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение.
Как я уже сказал, это редкостное, хоть малоприменимое на практике умение мне очень пригодилось.
Едва в предгорья северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов и казачьих сотен выступил в поход. Не буду рассказывать, в чем состоял смысл этой неисторической операции, – сегодня это вряд ли кому-то интересно. Довольно сообщить, что на третий день мы встретились с неприятелем, причем вышло так, что противоборствующие стороны оказались на двух длинных, плавных склонах, опускавшихся к долине неширокой речки. День был солнечный, воздух прозрачен, и мы видели врага, как на ладони, что в кавказских делах случалось редко. Пользуясь тем, что наши пушки еще не одолели перевал, «хищники» роились перед нами несколькими скопищами, в каждом по сотне-полторы всадников. Некоторые лихачи выносились вперед, к речке. Им навстречу выбегали наши охотники. Между этими немногочисленными стрелками и происходил настоящий бой. Я впервые увидел, как воюют конные джигиты. По одиночке, с одной плетью, совсем слегка трогая ею коня, они неслись вперед, выхватывали ружье, стреляли и тут же поворачивали обратно, с поразительной ловкостью перезаряжая на скаку свое длинноствольное оружие.
Однако и смельчаки сходились не ближе сотни шагов, так что особенных потерь ни у нас, ни у них пока не было. Наугад пущенные пули, правда, летали где им заблагорассудится, в том числе и над моею головой, так что я чувствовал себя участником настоящего сражения и был несказанно рад, что нисколько не трушу.
Рота, в которой я состоял субалтерном, расположилась цепью чуть ниже нашего штаба – то есть, на максимальном отдалении от речки и противника. Я всё поглядывал на нашего главного начальника генерала Фигнера, в ту пору командовавшего Средне-Кавказской линией, и, успокоившись по поводу своей храбрости, ломал голову, как бы мне отличиться, коли уж судьба поставила меня прямо под носом у его превосходительства.
Тут на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с бело-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длиннобородый, в большой папахе, обмотанной чалмой. Солдаты вокруг меня загудели: «Шмель, Шмель, сам пожаловал!». Я потихоньку поднялся к генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль это или нет. Пожилой полковник, видно, из знатоков, всех разочаровал – он узнал стяг одного из шамилевских наибов, Саид-бека.
При взгляде на подзорные трубы, которые начальники и адъютанты уставили на предводителя мюридов, я встрепенулся. Вот он, мой шанс!
Денщик был послан за штуцером. Поскольку наша рота лениво и вразнобой, больше для развлечения, постреливала в сторону «хищников», не было ничего странного, что и офицер сделает то же самое.
Вроде бы по случайности встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться.
– Глядите на подпоручика, глядите! Что это он? – слышалось сзади, но я не обращал внимания.
Саид-бек (в стеклышко мне было теперь хорошо видно, что у него действительно длинная густая борода), следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижный, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз пятьсот шагов – эту дистанцию я научился определять без ошибки. Боялся я только одного: что в миг выстрела караковая лошадь наиба мотнет головой или переступит копытами.
Задержав дыхание, я как мог плавно нажал крючок. Дым помешал мне разглядеть, удачен ли выстрел. Бросив штуцер, я нетерпеливо выпрямился – и увидел безо всякого увеличительного стекла, как всадник покачнулся и всплеснул руками.
– Убит! Вот это выстрел! – шумели за моей спиной. – Ваше превосходительство, глядите!
Я закашлялся от волнения.
К длиннобородому с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла, но он оттолкнул их, выпрямился, развернул лошадь. Покачиваясь, но не падая, быстрой рысью поскакал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свита последовала за ним, а минуту спустя стали уходить и остальные «хищники».
Хоть наиб был всего лишь ранен, но выходило, что бой выигран благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег.
Опускаю лестный разговор с генералом, как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мысли мои были об одном: какое меня ждет отличие – чин и крест или только что-то одно?
Награда превзошла мои самые отчаянные грезы. По возвращении в Серноводск, где находилась главная квартира Средне-Кавказской линии, генерал Фигнер, во-первых, произвел меня в поручики (ему на поход было дано право на три обер-офицерских производства); во-вторых, я получил золотую саблю, что ценилось много выше обычного ордена; в-третьих, его превосходительство предложил щедрый выбор: остаться при нем ординарцем либо получить самостоятельное командование – накануне пришло известие, что от лихорадки умер комендант одного из кабардинских фортов.
Ординарцев или адъютантов среди моих ровесников было пруд пруди, но начальник целой крепости – дело иное, поэтому я, не задумываясь, попросился в коменданты и тем самым продемонстрировал, что моя юношеская расчетливость была не слишком основательного свойства. Не последнюю роль в моем решении сыграло ужасно понравившееся мне название форта – Заноза.
Фигнер похвалил мой «неискательный выбор», пообещал «поглядывать» за мною, и, окрыленный, я поспешил к месту своей новой службы.
Глава 2
Форт Заноза. Мои помощники. «Львович». Тогдашнее отношение к «несчастным». Кунаки. Бдительный фельдфебель
На этом моя блистательно начатая карьера, как скоро стало ясно, и закончилась. Укрепление с задиристым названием когда-то было основано с намерением воткнуть занозу в середину владений непокорных кабардинских князей, но те давным-давно умирились, боевое приграничье сдвинулось к западу и востоку, а маленькая крепость, как это повсеместно у нас случается, исчерпав свою полезность, осталась на иждивении квартирмейстерства, ибо упразднить нечто раз созданное в бумажном смысле очень и очень непросто. Мне мнились стычки с «хищниками», лихие вылазки в горы и новый взлет, однако служа комендантом Занозы отличиться было совершенно невозможно. Чуть не в первый день я с тоскою понял, что мой предшественник поступил куда как неглупо, померев от лихорадки. Иначе ему пришлось бы киснуть и медленно издыхать тут Бог ведает сколько лет.
Начать с того, что гор, рисовавшихся моему воображению, в окрестностях форта не обнаружилось. Лишь какие-то невеличественные и по большей части лысые куэсты (длинные холмы), дремучие кустарники да неширокие долины, изрезанные балками, в которых таились комариные болота. Всё это по весеннему времени было покрыто свежей травой, но легко угадывалось, что в июне, когда не в шутку начнет жарить солнце, зелень выгорит и преобладающей краской пейзажа станет скучный меланж желтого с бурым.
Сам форт представлял собою тесный прямоугольник, внутри которого вокруг маленького плаца стояло четыре турлучные казармы да несколько домиков под соломенной крышей; границу укрепления обозначали земляной вал без единой пушки и ров, бесстыдно заросший колючками.
Еще не осознав, какую штуку выкинула со мной Фортуна, весь полный кипучей энергией, я решил, что именно со рва свою деятельность и начну. Первым же приказом велел вырубить там неуместные заросли – и, что называется, сел в лужу, обнаружив свою кавказскую неопытность. Оказалось, что еще с ермоловских времен рвы нарочно засаживают колючими кустами, ибо продраться через них невозможно, и от внезапного штурма они защищают лучше воды или кольев.
Этот азбучный урок со всей возможной деликатностью мне преподал хорунжий, командовавший командой казаков. Это был единственный кроме меня офицер, человек немолодой, флегматичный, всё на свете повидавший. Если б не этот мой помощник, я наломал бы черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. Донат Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальники, и повел себя со мною очень политично, ни разу не дав оплошки. К сожалению, за пределами службы у нас не было совсем ничего общего. Он выслужился из рядовых казаков и предпочитал общество своих станичников, ко мне же приходил исключительно за «распоряжениями». Выглядело это так. Донат Тимофеевич спрашивал: «А не сделать ли нам то-то и то-то?». «Пожалуй. Вы уж распорядитесь», – благоразумно отвечал я во всех случаях и ни разу не пожалел о своей покладистости.
По пути из Серноводска в форт я предвкушал, как устрою образцовый, на всю линию славный гарнизон. Солдаты не нахвалятся моей заботливостью, начальство наконец увидит, как должно выглядеть идеальное армейское подразделение, после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще. Но, прибыв в Занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я совершил, отказавшись от места ординарца.
В первый день, знакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундире и кивере, в сверкающих сапогах, обозрел свое нестройное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином, по ошибке залетевшим в царство ворон и воробьев. Потом я ходил попросту, в фуражке и сюртуке, к которому пристегивал эполеты только на подъем флага и утреннюю молитву – ее, за неимением постоянного попа, в Занозе читал ротный писарь. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволил, – это носить бешмет и черкеску, хоть хорунжий и говорил, что одеваться «по-туземному» сподручней. Но еще в отряде, где все без исключения офицеры и даже юнкера изображали из себя заправских горцев, щеголяя папахами, бурками и газырями, я сообразил, насколько оригинальней будет держаться уставного обмундирования. Теперь зеленый сюртук и белая фуражка были моим последним островком самоуважения. Отказаться от них представлялось мне окончательной капитуляцией перед обстоятельствами.
Волею генерал-лейтенанта Фигнера и собственной дурости я оказался начальником пехотной роты неполного состава и кубанской полусотни. Казаками я не занимался вовсе, то была епархия Доната Тимофеевича. В роте же состояло сто тринадцать нижних чинов, фельдфебель, три унтера и семь ефрейторов, а всего 124 души – слишком много, чтобы я мог приглядеться к каждому или хотя бы запомнить все фамилии. Пребывая в тоске и смятении, я не очень-то и пытался. Нижние чины казались мне на одно лицо – плоское, белесое от вездесущей пыли и по тогдашнему военному обыкновению сплошь с усами. Как, верно, помнит читатель (а может быть, уже и не помнит), государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быта и даже облика своих подданных, регламентировал растительность на лице мужчин, строго определяя, кому усов носить не дозволяется, а кому они вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским как лица статские не имели права на это воинственное украшение, а Лермонтов, Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами-усачами. По захолустности и отдаленности от начальства, в форте не только казаки, но некоторые солдаты к усам плюсовали бороды.
На первом же построении ротный фельдфебель Зарубайло обратил мое внимание на разномастную группу одетых по-туземному людей, стоявших в самом хвосте ротной шеренги, перед казаками.
– Полюбуйтесь на наших «раскольников», ваше благородие, – язвительно сказал фельдфебель вполголоса, пригнувшись к моему уху. – Стыд и срам. Нету в уставе такого порядка, чтоб нижнему чину в чувяках да папахах расхаживать. А за бороду сквозь строй гоняют.
– Так это не казаки? Велите им переодеться и обриться, да дело с концом, – строго велел я, злясь, что глупо выгляжу в своем новеньком, с иголочки мундире.
Зарубайло просветлел и кинулся было выполнять команду, но вмешался хорунжий. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающая ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по-охотничьи им дозволил прежний комендант, упокой Господь его душу. «А коли они вам ненадобны, пожалуй, передайте их мне», – присовокупил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном, что я догадался: делать этого ни в коем случае не следует. Казаки столовались отдельно от солдат, своим кошем.
Приказ об обритии и переобмундировании я пока отменил.
Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невыразительные физиономии нижних чинов (я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов), я наконец добрался до конца шеренги. Тогда-то я впервые обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача. Волосы при близком рассмотрении оказались не сплошь седые, а очень светлые с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черную папаху, черную же линялую черкеску с тяжелыми газырями, на поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как впрочем и у других охотников, было не уставное пехотное образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел – разве что взгляд, какой-то очень спокойный и внимательный. Задержавшись на мне не долее секунды-другой, он словно бы отметил всё, что его интересовало, и равнодушно устремился в пространство. Помню, мне это не понравилось. Я мысленно взял охотников на заметку, чтобы впоследствии «приструнить» и «обломать» всю эту вольницу. Нарочно спросил у фельдфебеля, как их звать. Он перечислил. У светлобородого фамилия была самая что ни есть обыкновенная, не запоминающаяся. Она тут же выскочила у меня из головы.
Несравненно больше меня занимали так называемые «старые солдаты», ротная аристократия, на которой держится весь порядок. Хорунжий посоветовал мне отличить их особо и сразу наладить добрые отношения. От мнения, какое сложится у них о командире, зависит очень многое.
Со «стариками» я познакомился, собрав их перед комендантским домом. Их было человек пятнадцать: все унтера, три ефрейтора и георгиевские кавалеры, причем почтеннейшим считался ружейный мастер, уже закончивший двадцатипятилетнюю службу, но оставшийся сверхурочно, потому что привык к армии и не имел куда уйти. Никого из охотников там я не увидел. Не было – удивительная вещь – и фельдфебеля.
Я как мог постарался впечатлить высокое собрание, но так и не понял, удалось ли мне это.
Вскоре я выяснил, что у ротных «аристократов» имеется род клуба: после ужина они обыкновенно садились со своими трубочками на ступенях крыльца гарнизонной часовни, окруженные почтительной пустотой, в которую не осмеливались вторгаться молодые солдаты. Заднее окошко моего домика выходило как раз на ту сторону, и я обнаружил, что, если потихоньку приоткрою раму, то могу слышать, о чем толкуют под крылечком.
Поскольку вопрос о впечатлении не на шутку меня занимал, а делать в вечернее время мне было решительно нечего, я частенько, разувшись, подкрадывался к своему наблюдательному пункту и подслушивал, а то и подглядывал через шторку.
К моему тяжкому разочарованию обо мне «старики» не заговаривали никогда. Их неторопливые беседы были о чем угодно – о «Шмеле», о замирении с горцами, о каше или супе, о табаке, – но только не о коменданте, от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ареопага имелась своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиною лычек. Как я уже сказал, фельдфебеля здесь не привечали, а если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием. Когда Зарубайло, не выдержав тишины, удалялся, ружейный мастер всегда выразительно сплевывал. Он служил еще в наполеоновскую войну и по манере разговаривать был очень похож на пресловутого «дядю» из лермонтовской поэмы «Бородино». Кстати сказать, остальные его так и звали – Дядя.
Как-то раз, недели через две или три после прибытия, я предавался своему непочтенному времяпрепровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо – хоть вой. Намерения на вечер у меня были такие: послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройтись по валам да завалиться на складную койку, где недавно испустил дух мой предшественник.
Вдруг вижу, к заветному крыльцу подходит светловолосый охотник в своей косматой папахе, дерзновенно протягивает Дяде руку, остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего! С ним приветливо здороваются, сыплют из кисета, подносят серник.
Перед тем у «стариков» шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он «Бонапартия». Тот ответил, что врать не станет, не доводилось.
– А вот Львовича спросите, – кивнул он на подошедшего. – Он доле моего с французом воевал… Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартия видать?
– Видал, – лениво отвечал тот, раздувая трубку. – После как-нибудь расскажу.
Его, как ни поразительно, оставили в покое. А у меня, конечно, скуку словно ветром выдуло. Ну и ну, думаю. Еще больше я удивился, когда вновь выглянул из-под шторки – прямо не поверил глазам. «Львович» сел в сторонке от прочих, достал из-за пазухи маленький томик в тертом телячьем переплете и углубился в чтение. Никого это экзотическое для солдатской среды занятие, кажется, не удивило. Беседа шла себе дальше.
Любопытство побудило меня надеть сапоги, фуражку и выйти наружу. С рассеянным видом, словно бы прогуливаясь, я приблизился к крыльцу. Все неторопливо, с достоинством встали, оправляясь. Поднялся, отложив книжку, и удивительный солдат.
– Читаешь? – спросил я, будто только что заметив томик. – Стало быть, грамотен? Ну-ка что там у тебя, покажи.
Я ожидал увидеть какого-нибудь «Милорда» или, на лучший случай, «Ивана Выжигина», однако, раскрыв обложку, прочел надпись на языке мне незнакомом. Лишь имя автора – Adam Smith – позволило догадаться, что книга на английском. Нечего и говорить, что изумлению моему не было предела.
– Ты… вы кто? – еле вымолвил я. Тогда (да и сейчас) увидеть нижнего чина с экономическим трактатом на английском языке, было все равно что повстречать в лесу медведя с тросточкой и в цилиндре.
– Охотничьей команды рядовой Никитин, – спокойно отвечал солдат.
– Разжалованный?
Это могло быть единственным объяснением Адаму Смиту.
– Никак нет, ваше благородие. – Глаза смотрели равнодушно. – Наоборот. Повышенный.
– То есть? – Я был сбит с толку.
– Никитин из каторги прислан, с самой дальней Сибири, ваше благородие, – послышалось из-за моего плеча. Это неслышно подобрался вездесущий фельдфебель.
Он мне после и рассказал, что рядовой Никитин из «тех самых» – государственный преступник, приговоренный к смерти, вместо которой пятнадцать лет провел в каторге и теперь прислан смывать вину перед отечеством кровью.
Читатель ошибется, если подумает, что это известие вызвало во мне пиетет по отношению к бывшему каторжнику. Героический ореол вокруг декабристов возник много позднее, когда вошло в моду чтение подпольно ввозимого герценовского журнала, а в эпоху, о которой я рассказываю, сам этот термин еще не был в употреблении. С точки зрения общества, то были глупцы, без толку и смысла, из одной честолюбивой горячности кинувшие в грязь свое счастье, то есть имя, звание, состояние. Их называли «несчастными каторза»[2] или просто «несчастными», что в те времена было синонимом слова «неудачник». Если эти люди и вызывали интерес, то пугливый и словно бы не вполне приличный. В кругах чинных почиталось хорошим тоном говорить о великодушии государя, предавшего смерти всего пятерых безумцев, кого уж никак нельзя было не казнить. В моем же кругу (мнение которого имело для меня большое значение) горе-бунтовщиков иронически именовали «наши бруты».
«Несчастных каторза» или – каламбур того времени – «каторзников» как раз начали миловать, то есть отправлять солдатами на Кавказ, а особенные счастливцы уже даже и выслужились, тем самым положив конец своим мытарствам. Я видал некоторых на водах. Потрепанные, мятые, слишком шумные и какие-то старомодные (ужасное слово для меня тогдашнего), они жадно наверстывали упущенное: безрассудно, по-старинному, играли в карты, много – опять-таки не по-современному – пили, не брезговали любовницами простого звания, а о политике не говорили вовсе, и, по-моему, не из опасения, а просто от полного отсутствия интереса к чему-либо кроме простых удовольствий жизни. Одним словом, ничего романтического я в них не усматривал.
Не слишком интересен показался мне и Никитин с его бело-седой бородой и умной книжкой, один вид которой наводил зевоту. Однако я все же попробовал с ним сблизиться, верней приблизить его к себе, ибо искренне считал, что делаю одолжение «несчастному». Причиной было не столько сострадание к его положению, сколько одиночество и отсутствие собеседников. С Донатом Тимофеевичем, как я уже писал, за пределами службы говорить можно было только о лошадях да генерале Ермолове, при котором он когда-то служил казачком.
Мои попытки вызвать Никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие. Приглашение заходить ко мне запросто, на чашку чая, было выслушано, но не использовано. На вопрос, не требуется ли какое-нибудь воспомоществование, я получил сухой ответ: «Благодарю. Ничего не нужно».
«Ну и черт с тобой, коли так», наконец оскорбился я и постановил не обращать на невежу внимания. Сделать это было легко – Никитин редко попадался мне на глаза. Он почти все время проводил с ружьем за пределами форта, но, в отличие от остальных охотников, предпочитал бродить по куэстам и кустарникам один либо в обществе своего туземного кунака.
Этот его приятель заслуживает описания, ему суждено сыграть роль в моей повести.
Родом он был аварец, звали его Галбаций. Как мне объяснили, это имя или, быть может, прозвище, означало «Волк». Он и выглядел злобным матерым волчищей: рожа разбойничья, короткая, щетиной рыже-серая борода, в вечно расстегнутом вороте бешмета на кожаном шнурке амулет – желтый волчий зуб. Приходил и уходил он когда вздумается, на всех русских кроме своего кунака глядел с ненавистью. Ни разу не видал я, чтобы они с Никитиным о чем-то разговаривали. Если «несчастный» сидел где-то с книгой, горец пристраивался рядом на корточках. В руках у него все время был кинжал, которым он строгал щепку или подравнивал свою бороду: просто проводил по ней клинком, и волоски осыпались сами собой. Кинжал был знаменитой базалаевской стали. Шашку Галбаций тоже носил настоящую айдемировскую гурду. Я раз хотел купить у него оружие, предлагал хорошие деньги, но он молча встал и отошел в сторону. Вспылив, я приказал гнать наглеца за ворота и больше в крепость не пускать. Солдаты были рады, они давно щерились на аварца, как собаки на волка, и терпели его только из-за «Львовича», который почему-то пользовался у них особенным уважением. Я очень удивился, когда узнал, что в форте и вообще на Кавказе этот неприятный Никитин появился недавно, всего с полгода, и никак не мог считаться ветераном. Впрочем, на свете есть люди, один вид которых пробуждает в окружающих безотчетную почтительность.
За моими поползновениями наладить дружбу с охотником ревниво наблюдал фельдфебель. Он за что-то очень не любил Никитина. Когда же увидел, что дружбы не вышло, обрадовался. И стал заводить со мною осторожные разговоры. Сначала жаловался, что «каторжный» дурно влияет на солдат, пробуждая в них строптивость и непочтение к начальству. Потом стал обращать мое внимание на подозрительные исчезновения никитинского приятеля. Зарубайло нашептывал мне: «Попомните мое слово, ваше благородие. Галбаций этот неспроста к нам повадился. Зверюга он, живорез. Такой за оградой встретит – кишки выпустит. Правильно, что вы его прогнали, а только лучше было б в холодную посадить. Наведет он на нас абреков, как Бог свят наведет. Слыхали, как в Вельяминовском форте они этак вот ночью в отворенные изнутри ворота насыпались да весь гарнизон в кинжалы взяли?» Я сначала слушал, но потом, когда фельдфебель начал намекать, что ворота «хищникам» отопрет не кто иной как Никитин, отмахнулся.
– Коли не верите, поручите – я сведаю, – сказал тогда Зарубайло. – Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не на встречу ли с Галбацием? Прикажите, я прослежу.
– Изволь, я не против, – зевая ответил я. Прозябание в форте Заноза тянулось уже третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности.
Фельдфебель обрадовался, оделся по-охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом.
Я же выпил бутылку чихирю, местного вина, к которому понемногу начинал привыкать, да лег спать, попросив хорунжего, если утром не встану, провести построение без меня.
Донат Тимофеевич добудился меня только назавтра к полудню.
– Беда, Григорий Федорович, – сказал он, подавая мне чашку кумыса, отменного средства от похмелья. – Просыпайтесь. Мои казаки в лес за лозой ездили, Зарубайлу привезли. Мертвого.
Я вскочил. Побежал смотреть.
У фельдфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, рассказали казаки, валялся острый камень, но сам ли Зарубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупе. Абреки оружие непременно бы забрали, они вообще раздевали мертвых врагов догола, не брезгуя даже исподним. В горах, скудных материей, всякая тряпка имела цену.
– Где Никитин? – спросил я.
Мне отвечали, что со вчерашнего дня не возвращался – видно, охота не задалась.
Тогда я отвел хорунжего в сторону и рассказал, куда и зачем ходил Зарубайло. Мой Донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью.
– Вон оно что. Дело-то, похоже, темное. Коли Никитин к завтрему не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли! Не хватало нам своего Якубовича!