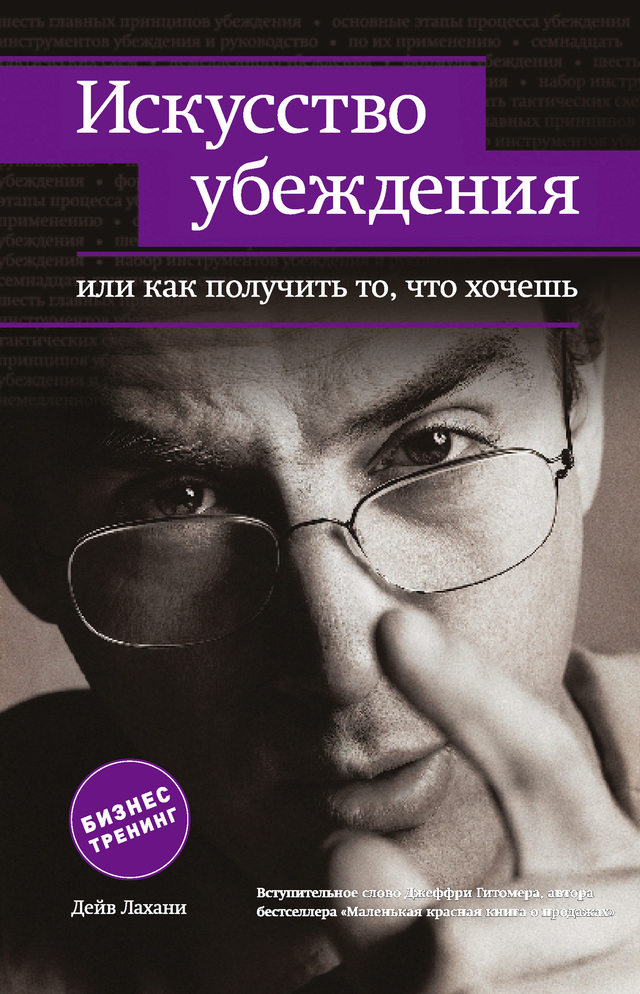Герой иного времени Брусникин Анатолий
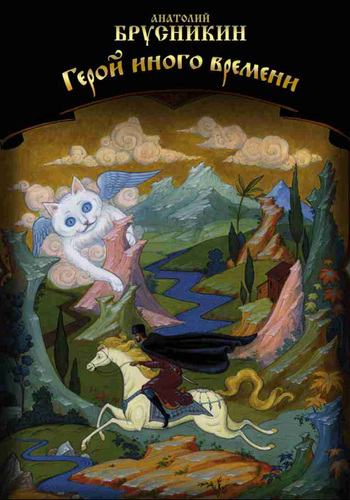
По возвращении в свой постылый форт я убедился, что новый хорунжий, сменивший Доната Тимофеевича (тот со своей командой вернулся в родную станицу), служил здесь прежде и знает дело не хуже предшественника. Это дало мне все основания отрешиться от служебных забот, и я погрузился в самоистязательную хандру. Думы о несостоявшемся взлете карьеры и о разлуке с Дарьей Александровной томили меня. Поговорить было не с кем – Никитин со своим кунаком пропадали на охоте.
Вдруг – на третий день моего упадничества – на серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой с перепугу ударил в сторожевой колокол. Пристегивая портупею, я взбежал на вал.
Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади рысил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля. Сердце мое вострепетало. Жадно покрутив колесико, я навел окуляр на экипаж – он был хорошо мне знаком, в нем обычно ездила Даша. Однако кроме кучера в коляске никого не увидал. Что за странность?
Недоумение мое еще более усугубилось, когда адъютант, не слезая с седла и не поприветствовав меня, сурово спросил:
– Где мадемуазель Фигнер? Мне велено тотчас везти ее обратно. А вам, Мангаров, я не завидую.
Выяснилось вот что.
Назавтра после того, как я покинул Серноводск, Дарья Александровна объявила, что едет на несколько дней в Кислозерск принимать ванны. Никаких подозрений это не вызвало. С Дашей в недальний путь поехали ее вечный спутник Трофим и горничная.
Вечером генералу, чувствовавшему усталость после похода, вздумалось последовать за дочерью и тоже пройти курс целебных купаний. Однако в кислозерской гостинице он застал одну служанку. Та от ужаса сначала потеряла дар речи, потом разрыдалась и во всем призналась.
Барышня поехала в форт Заноза – верхом, в сопровождении своего старого унтера, а горничную оставила прикрывать отлучку: девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездорова и не принимает, либо же поехала кататься.
Зная нрав Александра Фаддеевича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта с конвоем. Подлого предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы.
Я сказал, что заковывать некого и что госпожи Фигнер тоже нет. В правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог – у меня было две сотни свидетелей. Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и меж нами повисло молчание.
– Боже, Боже… – пролепетал я, чувствуя дурноту.
Адъютант, наоборот, помянул черта и сделался смертельно бледен.
Потом началась беготня.
Я кричал, чтоб казаки седлали коней, чтоб солдатам трубили сбор. Ополоумев от тревоги, я собирался вывести весь гарнизон, растянуть его длинной цепью и так прочесать всю дорогу до Серноводска.
От безумного плана меня отговорил Олег Львович. Оказалось, что они с аварцем, будучи в нескольких верстах, услышали звук колокола и поспешили вернуться в крепость. Никитин сказал, что цепь не понадобится. Они с Галбацием произведут поиск много быстрей и действенней.
В путь отправились сразу же. Впереди ехали Олег Львович и его кунак, глядя в разные стороны от дороги. Мы с Мишелем и казаки конвоя следовали, немного поотстав. В детстве я был религиозен, затем совершенно отошел от веры – в кругу, где я стремился стать своим, она была не в моде. Но в этот день я непрестанно и горячо молился: только бы с Дашей всё было хорошо, только бы не случилось то, чего все мы так боялись!
Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Галбацием лишь спешились, зажгли факела. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес.
Адъютант с казаками, не имевшие отдыха после восьмидесятиверстной скачки в форт, вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал и потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу трех лошадей.
Рано утром, когда большая часть пути была преодолена, Галбаций вдруг встрепенулся и гортанно воскликнул что-то, показывая на прикрытый кустами ручей – он нес свои звонкие воды шагах в двадцати от обочины.
– Что такое? – спросил я Олега Львовича. – Что он говорит?
Никитин, не ответив, пошел туда, куда бросился горец. Я не заметил ничего особенного. Разве что примятый след на траве, будто какое-то время назад по ней проволокли тяжелое. Пожалуй, на земле было многовато отпечатков копыт, но ведь для дороги это естественно?
Мои спутники стояли в ивняке, склонившись над чем-то. Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удесятеренной страстью.
– Это произошло здесь! – крикнул Олег Львович, показывая на утоптанный кусок земли. – Они прятались в кустах.
– Кто?
Но ответ мне был уже ясен. Отпечатки в большинстве своем были от неподкованных копыт. Я знал, что абреки лошадей не подковывают…
Задыхаясь, я направился к ручью.
Под ногами у моих спутников лежал обнаженный труп. Мужской. По седым усам и грозно сдвинутым бровям я узнал Трофима.
– А где… Где…
Я не мог выговорить имя.
– Мадемуазель Фигнер? Несомненно похищена.
– По… хищена? – всхлипнул я. – А вдруг убита? Вдруг она лежит где-нибудь здесь?
Никитин удивился.
– Зачем абреки станут убивать женщину? Если б она была из простых, они перепродали бы ее работорговцам. А по Дарье Александровне видно, что она барышня. За нее потребуют выкуп. Они и слугу бы не убили, да он, видно, сопротивлялся.
Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом.
– Вы наверное знаете, что это именно похищение?
Он повернулся к приятелю, который преспокойно поил из ладони своего котенка, и спросил что-то на клекочущем наречии. Галбаций коротко ответил.
– Да. Это абреки. Подстерегли, выскочили, увезли. И мертвого до нитки раздели – тоже ихняя повадка.
– Надо в погоню! – вскричал я.
Они еще потолковали между собой.
– Пустое. Прошло почти двое суток. Отсюда они отправились по ручью, чтоб не оставлять следов. Вверх по течению или вниз, неизвестно.
– Что же делать?!
– Ждать, пока запросят выкуп. Если узнают, что им досталась дочь самого Фигнера, генералу придется изрядно раскошелиться.
Хладнокровие Никитина было мне невыносимо. Но даже в панической сумятице чувств я понимал: он прав.
Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александровны и не было уверенности в том, что она жива, я провел, как в полусне: не спал, не ел. Я дневал и ночевал в доме Фигнеров. Прежде труднодоступный, представлявшийся чуть не крепостью, от стен которой я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил предо мной двери. Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фаддеевичем. Грозный и даже жестокий на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. Почувствовав во мне такое же неподдельное отчаяние, генерал не хотел со мною расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было. А однажды надтреснутым от слез голосом он сказал: «Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно? Прежде я был недоволен, считал, что вы ей совсем не пара. А теперь – только б она вернулась! Только б вернулась!» Он не договорил. Мы обнялись и завыли дуэтом – известно, как немузыкально и неумело плачут мужчины. Вот сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену – и ком в горле. Сильные чувства живучи в памяти…
Никитин тоже остался в Серноводске дожидаться, когда вернется его кунак. Галбаций отправился в горы, у него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи. Я уверял Александра Фаддеевича, что аварец обязательно выйдет на след.
Другим утешителем командующего был майор Честноков. Он, надо дать ему справедливость, в ужасной ситуации оказался очень на месте: распорядителен, деловит, тактичен. «Узнавать, что творится во враждебных пределах – это по моей линии, – сразу сказал жандарм. – За то и получаю жалованье, для того и держу лазутчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство. Честноков вас не подведет».
Относясь к этому человеку неприязненно и помня, как нехорош он был в походе, я, признаться, не верил ни единому слову Ивана Ивановича. И ошибся.
Первое известие о Дашиной участи мы получили именно через него.
Это было на пятый день.
Я спал в кресле генеральской гостиной, повалившись туда от изнеможения, когда меня разбудил сам Александр Фаддеевич. Он был багров от волнения, глаза сверкали.
– Жива! – бодро воскликнул генерал. – Вам говорю первому! Жива – и это главное.
Он немедленно созвал совещание.
Докладывал Иван Иванович. Также присутствовал раз уже виденный мной князь Эмархан. Этот честноковский агент и вышел на след похитителей.
Сначала майор изложил основное, потом кавказец ответил на многочисленные вопросы. Первый держался величественно, как подобало герою и спасителю; второй говорил коротко и почтительно, поминутно кланяясь и прижимая руки к груди. Вместе они являли собой живописную пару: одутловатый белесый коротышка с размытыми, будто придавленными чертами и чернявый жердяй, весь из резких углов: борода клином, нос клювом, сросшиеся брови двумя углами. Филин с коршуном, думал я, терзаясь завистью, что Александр Фаддеевич узнаёт о Даше не через меня. Но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном. Куда сильнее было облегчение.
Эмархан через каких-то своих знакомцев на той стороне выяснил, что дочь «сардара» (так горцы называли командующего) угодила в засаду канлийцев или, по-другому, канлыройцев. Это маленькое и дикое сообщество, обитающее в глухих горах. Слава у канлийцев самая дурная. Они не выращивают зерна, ничего не производят на продажу; единственный их промысел – набеги и торговля людьми. Само их наименование происходит от слова «канлы», то есть «кровник». Когда-то это разбойничье гнездо было основано разноплеменными беглецами, скрывавшимися от кровной мести. Они выбрали для проживания самое труднодоступное место, откуда их невозможно выкурить. Это грозные воины, не признающие никаких законов кроме своих обычаев. Говорят они на собственном языке, представляющем смесь всех горских наречий. Их аул называется Канлырой, «Дом кровников», потому что всякий изгой, преследуемый врагами, находит там пристанище – лишь бы был храбр, силен и послушен главарю. Нынешнего предводителя канлыройцев звать Рауф-беком, он самолично командовал партией, устроившей засаду на дороге из Серноводска в Занозу.
Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым влез я. По моему мнению, тут нечего было и думать: немедля идти всею доступной силой и потребовать от разбойников выдать Дарью Александровну под угрозой поголовного их истребления.
На это чернобородый Эмархан, поклонившись и испросив позволения у «сардара», ответил, что, во-первых, аул совершенно неприступен и отсиживаться в нем канлийцы могут хоть до скончания века, а, во-вторых, угрожать им нельзя – они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову «сардар-бике». Последнего слова я не знал, но поняв, о ком речь, побледнел и умолк.
В итоге было решено отправить в Канлырой гонца – спросить о выкупе. Эмархан предложил своего нукера Резу, в котором был уверен как в самом себе. Ручался за него и Честноков.
Вызвали нукера. Я узнал в нем женоподобного толстяка, что шикал на меня в гостиничном коридоре. По-русски Реза понимал, но, кажется, не говорил. Он не произнес ни единого слова, только всё поглядывал желтыми глазками на своего господина и кланялся. Генерал посулил посланцу награду и приказал не жалеть коня.
Всё это было крайне тревожно, но по крайней мере появилась надежда.
Вернулся Реза скоро, спустя всего четыре дня, но они мне воистину показались вечностью. Тем более что АлександрФаддеевич больше не рыдал у меня на груди и вообще словно бы утратил ко мне интерес. Его как отца можно было понять – надежды на спасение дочери теперь связывались у него с Иваном Ивановичем. Однако я свое отстранение от забот по спасенью Дарьи Александровны переносил болезненно.
Не тотчас же, а лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Они были ужасны. Рауфбек Канлыройский, видно, откуда-то прознал, что за добыча попала ему в руки, и требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой; во-вторых, отпустить всех аманатов (то есть сыновей горских князей, взятых нашими властями в залог верности); в-третьих, срыть укрепления, построенные нами в последние десять лет.
Требования эти были фантастичны и совершенно невыполнимы.
По поводу первого условия дома у Фигнера состоялся совет, в иных обстоятельствах, вероятно, показавшийся бы комичным. Предстояло вычислить, сколько весит Дарья Александровна. В качестве экспертов были призваны все, кто, так сказать, имел хоть какой-то доступ к ее телу: выпущенная из-под ареста горничная; кучер, переносивший барышню на руках из коляски через лужи; пользовавший ее доктор; две банщицы из ванн – и, наконец, я, что выглядело довольно двусмысленно, но всем было не до того. Впрочем, я принес свою пользу, потому что неоднократно (замечу, с сердцебиением и пересыханием во рту) помогал Даше спускаться с седла. Руководил всеми нами сам генерал.
Сначала мы установили рост бедняжки (это было просто – мне до середины уха, то есть два аршина и четыре вершка); потом, после долгих споров, – примерный ее вес (три пуда или сто двадцать фунтов). Перевели в число монет из расчета 64 полуимпериала на фунт – вышло 7680 монет или 38400 рублей золотом. Генерал схватился за голову – таких денег у него не было, разве что если просить в долг у евреев или армян под большие проценты.
Это бы еще ладно. Чтоб выпустить заложников, требовалось соизволение государя, а на получение ответа из столицы уйдет по меньшей мере месяц, в продолжение которого Даше придется томиться в плену у дикарей.
И если на милостивое решение этого вопроса еще можно было надеяться, то уж о снесении укреплений Фигнер, конечно, не посмел бы и просить. Это означало перечеркнуть усилия последнего десятилетия – отдать все завоевания, доставшиеся огромной кровью и миллионными затратами.
Мы впали в отчаяние, но Эмархан внес некоторое успокоение, сказав, что с людьми вроде Рауф-бека, в отличие от фанатиков-мюридов, договориться всегда можно: для разбойника главное – деньги. Значит, он променяет третье условие (а может, и второе) на увеличение суммы выкупа. Эмархан утешил отца еще и тем, что с «сардар-бике» в плену будут обращаться хорошо, – ради этого князь уже дал Рауф-беку из своих средств задаток в пять тысяч рублей. Вернуть эти деньги он попросит лишь в случае, если его посредничество завершится успехом – то есть, после того, как он доставит в Серноводск освобожденную пленницу.
Благородный поступок горского князя вызвал в обществе восхищение, и он вдруг сделался заметной фигурой. Скептики говорили, что Эмархан в любом случае не прогадает – и деньги свои вернет, и Фигнера, будущего главнокомандующего, сделает своим нравственным должником.
Я почти ненавидел дашиного радетеля – более всего за то, что спасет ее он, а не я.
Бездействие и в особенности перспектива месячного ожидания сводили меня с ума. Я воображал ужасные картины лишений и глумлений, которым, возможно, подвергается моя возлюбленная в эту самую минуту, – и чувствовал, что не усижу в городе.
В конце концов мне пришло на ум обратиться к Никитину. Ломая руки, с дрожанием в голосе, пересказал я ему свои мучительные думы.
– Что делать? Скажите, что делать? – воскликнул я в финале своей слезницы. – Вы человек бывалый, что вы об этом думаете?
Ответ был прост:
– Тут и думать нечего. Нужно нам отправиться в Канлырой и освободить Дарью Александровну. Без войск, без пушек – самим. Девушка она впечатлительная, тонкого воспитания. Каждый лишний день неволи среди разбойников, верно, стоит ей года жизни.
– Да как же мы это сделаем?
– Я давно жду, что вы заведете об этом разговор. Кое-какие соображения имеются.
Олег Львович рассказал, что его кунак подтверждает сведения Эмархана: мадемуазель Фигнер действительно захвачена Рауф-беком. Галбаций хорошо знает те места – лет пятнадцать назад он сам несколько времени скрывался у канлыройцев и даже может объясняться на их языке. Правда то, что аул неприступен. Он со всех сторон окружен отвесными скалами, единственный проход крепко охраняется. В прошлые годы в Канлырой, преследуя кровников, пытались прорваться и адыги, и чеченцы, и даже лихие аварцы, притом значительными силами, но мало кто вернулся живым.
– Какие ж тут могут быть «соображения»? – уныло спросил я. – Что мы вдвоем сможем сделать, если и значительные силы настоящих джигитов ничего не достигли?
– Во-первых, у нас иная цель. Нам не нужно захватывать укрепленный аул – лишь освободить пленницу. Во-вторых, нас будет не двое, а трое. Представьте себе, мой Галбаций за что-то привязался к Дарье Александровне. Он сам вызвался помогать, коли мы возьмемся за это дело.
Разговор происходил на квартире у Иноземцова в присутствии капитана и доктора.
– Не трое вас будет, а пятеро! – вскричал Прохор Антонович и воинственно потряс кулаком. – Не правда ль, Платон Платонович?
Иноземцов молча кивнул и выпустил струйку синеватого дыма.
У меня от растроганности защипало глаза. Вот что такое настоящая дружба! Притом ведь им обоим друг не я, они делают это ради Олега Львовича!
Никитин, однако, совсем не расчувствовался. Брать с собой ни доктора, ни капитана он не хотел. Кюхенхельферу было сказано, что он плохо сидит в седле, через два часа езды натрет себе седалище и окажется всем в обузу. А моряку Олег Львович заявил:
– В горах от вас проку будет не больше, чем от меня в парусном бою. Признайтесь, я ведь вам на мостике только мешал бы?
– Вероятно.
– Ну так и вы лишь будете путаться под ногами. Вместо дела нам придется смотреть, чтоб вы не свалились в пропасть и не оставили лишних следов. Учтите к тому же, что на обратном пути возможна погоня. Лучше поступим вот как. Вы с доктором проводите нас в коляске до последнего мирного селения, куда доведена дорога, и останетесь там ждать. Неизвестно, в каком виде доставим мы девушку и каковы будем сами. Может понадобиться помощь, в том числе и врачебная.
На этом спор окончился. Сразу же – с момента моего прихода миновало не больше четверти часа – начались приготовления.
Первое и самое главное было выбрать подходящих лошадей. Галбаций с Олегом Львовичем обсудили этот насущный вопрос. Черкесские кони неутомимы, могут в сутки проделать путь в двести верст. Кабардинские идеальны для гор – никогда не оступятся. Трамовские непревзойденны по скаковым качествам – на случай, если за нами будут гнаться. Но самая лучшая порода – шалохская, совмещающая в себе все эти достоинства и к тому же очень быстро привыкающая к новому хозяину. Эти лошади дороги, но деньги у меня были – я предложил их все без остатка и пообещал занять еще, сколько понадобится. Однако Галбаций у меня ничего не взял, а Никитин запретил настаивать.
– Он говорит, что утром лошади будут, а прочее нас не касается. Вероятно, он возьмет их взаимообразно у кого-нибудь из своих приятелей-разбойников. Не суйтесь вы с вашими ассигнациями, только обидите.
Полночи мы заготовляли всё необходимое для похода, укладывая припасы в переметные сумки из ковровой ткани. С мундиром пришлось расстаться – меня переодели по-горски, что оказалось и много удобней, и красивей. Замечу, что впредь, до самого своего отъезда с Кавказа, я уже не оригинальничал и ходил, как все, то есть в черкеске. Оказалось, что люди не дураки – при тамошних природных условиях оно удобней. Правда, в горах, перед самым прибытием в Канлырой, Никитин велел мне снова переодеться, но о том речь впереди.
Мне хочется задержаться в этой точке своей жизни – или, если употребить никитинское выражение, «зигзага». Канун достопамятной поездки в Канлырой представляется мне рубежом, за которым осталась моя юность с ее петушьей заносчивостью, наивным прагматизмом и неясностью нравственных очертаний. Конечно, я и позднее совершал глупые, смешные и недостойные поступки, но они были уже эпизодами, а не общим фоном моей жизни. Она вышла не триумфом и не праздником, как мечталось мне в 23 года; злоключений в ней было больше, чем приключений, а неудач больше, чем побед. Не верю людям, которые, оглядываясь на прожитые годы, гордо восклицают: «Ни о чем не жалею и ничего не стал бы исправлять!» Я и жалею, и исправил бы – да где уж?
Вот закрываю глаза, вижу: молодой ферт, картинно подбоченясь, любуется на себя в зеркало. И так повернется, и этак. Ему нравится, как ловко сидит на нем горский наряд, как сверкают серебряные газыри, как блестит кинжал и изгибается шашка. Он воображает, что мчится на коне, прижимая к себе спасенную пленницу. Сзади черная ночь, впереди пылающий восход, откуда навстречу всаднику сочатся золотые лучи.
Увы. Если что-то из этого и свершится, то совсем иначе, чем представляется дурачку.
Сделаю еще одно отступление, прежде чем перейти к следующей главе.
Так вышло, что мой отъезд в горы, помимо прочего, стал еще и прощаньем с кругом «блестящих», так много значившим для меня в пору первой молодости. «Брийянты» готовились возвращаться в столицу, и больше я ни с кем из них на Кавказе не видался, за исключением журналиста Лебеды, но и с тем мы не более чем раскланивались издали.
Базиль Стольников и его свита навсегда ушли из моей жизни – и, как говорят британцы, good riddance.[15] Не вернутся они и в мое повествование, однако, раз уж я отвел им некоторое место, расскажу, какая судьба ожидала каждого.
Тина Самборская вскоре после кавказской прогулки вышла замуж – да не за Стольникова, а за Кискиса Бельского. Когда эта новость до меня дошла, я удивился: как можно было ввериться шуту после того, как была фавориткой короля? Но потом я понял, что Тина поступила и логично, и дальновидно. Любовник – одно, супруг – другое; от двух этих мужских разновидностей требуются совершенно различные достоинства. Княгиня Бельская весело прожила молодость, сумев благодаря ухищрениям французской косметики растянуть ее чуть не до пятидесяти лет. Она не обременяла себя верностью, которой не требовала и от мужа, однако никогда не покидала рамок внешней благопристойности, а, выйдя из возраста женской привлекательности и овдовев, заделалась матроной строгих правил и хозяйкой нравственно-религиозного салона (в 80-е годы он был заметен и политически влиятелен).
О Кискисе рассказывать почти нечего. Он всю жизнь так и прожил балованным, капризным ребенком. Скончался шестидесяти лет, от сердечного приступа, в парижском непотребном доме, где отплясывал с девицами канкан. Вот уж воистину «жил смешно и умер грешно».
Мсье Лебеда до конца своих дней сохранил талант отлично приспосабливаться к переменчивой эпохе. Николаевскую он закончил в должности цензора, во времена реформ сделался издателем чрезвычайно либерального журнала, который при Александре Третьем как-то внезапно поменял направление. Графу Нулину удалось всё: он стал богат, весом и на склоне лет даже утратил свою вечную искательность – верней, оставил ее лишь для тех немногих, кто был выше его положением. А впрочем, я не общался с сим столпом официальной журналистики в период его могущества, поэтому сужу по отзывам.
Напоследок – о Стольникове, который несомненно был самой яркой звездой эпохи, на которую пришлась моя юность; его воистину следовало бы назвать героем того безвоздушного времени. Человек незаурядный, от которого по его способностям следовало ожидать многого, он ничего не сделал, ничего не достиг, не оставил никакого следа. Его постигла участь всякого остромодного феномена – в конце концов он вышел из моды.
Через много лет я случайно встретился с Базилем, и мы заговорили, будто расстались вчера. Это было после эмансипации шестьдесят первого года, окончательно расстроившей его состояние, которое и так было подорвано долгой беспечной жизнью. Стольников, однако, нисколько не переменился. Манеры, речь, обаяние остались точь-в-точь такими же, из чего можно сделать вывод, что в тридцатые и сороковые не он подстраивался под моду, а она следовала складу его личности. Из нашей беседы мне в память врезался один поворот.
В своем прежнем тоне, предписывавшем изъясняться небрежно и позевывая обо всем кроме сущих пустяков, Базиль – уж не помню, в какой связи – повел речь о смерти.
– Видишь ли, Грегуар, – назвал он меня прежним прозваньем, которое я успел позабыть, – я пришел к выводу, что наша жизнь и наша смерть – это не особенно важно.
– Как это? Ты и свою смерть тоже будешь считать не особенной важностью? – спросил я, подумав, как мало соответствуют его ленивый французский и блазированная мина бодрому настроению новой эпохи. Когда-то Стольников назвал Олега Львовича морской рыбиной, по ошибке заплывшей в пресную воду. Теперь акватория сызнова посолонела, настал черед Базилю выглядеть пескарем, которого вынесло в океан.
Он ответил, подавив зевок:
– До определенной степени она, конечно, важна как частный факт моей биографии, но – не очень. Посмотри, сколько вокруг происходит самых разнообразных смертей. – Неожиданно ловким движением он прихлопнул комара и продемонстрировал мне его расплющенный трупик. – Точно так же в эту самую минуту кто-то попадает под колеса, издыхает в канаве или на больничной койке, кто-то кряхтит, плачет, лепечет последнее «прости» – и превращается, как говорится, в chladnyi troup. Чаще всего эта метаморфоза происходит вследствие нелепых, абсолютно случайных обстоятельств. Разве не очевидно, что для Господа Бога все эти казусы – совершенно незначительная ерунда? Из сего я делаю вывод, что Господа Бога в христианском либо мусульманском толковании не существует вовсе. Раз человек глупо живет и бессмысленно погибает, возможно одно из двух. Либо правы индусы, и моя жизнь не более чем маленькая ступенька на длинной лестнице перерождений – а что за цена у маленькой ступеньки и стоит ли горевать, ежели она подошла к краю? Либо же моя жизнь – одномоментная искорка, зачем-то вспыхнувшая в бездушной и безмозглой тьме Небытия. Тогда цена моему существованию и его прекращению подавно – mednaya polouchka.
Его вялые философствования вызывали во мне все большее раздражение. «Как мог я когда-то желать быть похожим на этого человека?» – спрашивал себя я.
– Отчего ж ты тогда живешь? Почему сам не загасишь эту глупую искру?
– От равнодушия, друг мой. Делать усилие, чтобы гасить искру, означало бы признать за ней хоть какую-то важность.
Вот как разговаривали во времена моей юности люди, слывшие интересными. Самое удивительное, что – я уверен – Стольников нисколько не рисовался, он был в ту минуту искренен и, возможно, даже излагал свое credo. Эта внутренняя убежденность в неважности всего и вся, как я теперь полагаю, и придавала личности Базиля тот магнетизм, ту притягательность, которую мы все когда-то чувствовали. Не напускной, а подлинный индифферентизм – качество редкое и неизменно интригующее.
Вскоре после нашей последней встречи я услышал, что Стольников умер. Его вид во время беседы, болезненный блеск в глазах показались мне странны. Я не удивился, когда мне сказали, что он отравился чрезмерной дозой опиума – уж не знаю, намеренно или по случайности. Согласно Базилю, невелика важность.
Ах, мои кичливые, оригинальничающие, никчемные сверстники, пустоцветные дети пустоцветного времени! Вы все уже ушли. Скоро уйду и я, о чем думаю не только без страха, но даже с приятностью, как думает о вечерней прохладе истомленный долгим и знойным путем странник. Если я и извлек из своего длинного существования какой-то урок, то сводится он к одному. Насчет того, что жизнь – штука не слшком важная, Стольников ошибался. Прав Никитин, считавший жизнь зигзагообразной тропой к вершине.
Ну, а важная ли штука смерть, скоро посмотрим.
Зара
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
А.С. Пушкин, «Кавказский пленник»
В то утро Зара, как обычно, сидела на самом краешке. Порисует белым по черному, помечтает, просто поглядит вдаль, болтая ногами. Мир был устроен так: со всех сторон горы, посередине – Кольцо, на его кромке Зара. Она знала, что мала, Кольцо велико, а окружающий простор огромен, но когда смотрела вот так сверху, выходило наоборот. Надо всем и всеми она, будто владычица неба и земли, под ней – Кольцо, большое, но не очень, а внизу и по сторонам совсем крошечные горки-горочки, щелья-ущелья, дольки-долинки. Наверху было хорошо. Нана как-то рассказывала, что есть люди, которые коченеют от ужаса, если видят под собою обрыв или пропасть. Живут эти чудаки на краю света, где горы разглаживаются, чтобы скатиться в Бездну. Должно быть, от этого тамошние обитатели и боятся высоты. Как это можно ее бояться? Зара смотрела вниз и пробовала себе представить, что боится упасть. Не получалось. Все равно что идти по улице и все время думать: «Вэй, сейчас споткнусь, упаду и разобью голову о камень». Бывает, конечно, и такое – особенно если кто много бузы выпьет, но чего бояться-то?
Зара нарисовала на скале аталыка: как он вернулся после удачной охоты, выпил много-много бузы и, шатаясь, идет через двор. Получилось ничего так, особенно выпученные глаза. Назифе бы понравилось.
С тех пор, как Зара стала сидеть на вершине Кольца одна и нашла залежь белых крошащихся камешков, она ими все вокруг разрисовала. Как солнце заходит над горами. Как султан сидит в гареме среди красавиц. Как Назифа танцует с ангелами. Как аталык охотится на чужих.
Она хотела украсить и стену дома, однако нана не позволила. Сморщилась, заткнула уши руками, стала повторять: «Не скрежещи, во имя Аллаха не скрежещи! Какой звук противный!» Не хотите – не надо. Живите в доме со скучными серыми стенами.
Мелок сломался в Зариных пальцах. Она рассердилась, швырнула его о скалу, и он бесшумно разлетелся на осколки. На черном осталась точка, похожая на фасолину. Заинтересовавшись, Зара пальцем превратила фасолину в жука. Подобрала белый кусочек, пририсовала внизу цветок, под цветком землю, под землей лежащую девочку. Скрежещет, скрежещет – как это «скрежещет»? Она уже не помнила.
Рисунок переполз со скалы на каменную плиту – сверху оказалось маловато места, чтобы нарисовать весь подземный мир: там ведь тоже есть реки, перевернутые вверх тормашками горы, всякие злые и добрые звери. Теперь Зара стояла на четвереньках. Из-под чухты свешивались тонко заплетенные косички, а серебряная бахрома шапочки щекотала щеки. Это бы ладно, но очень уж давил пша, кожаный корсет на талии – джангызским девочкам его надевают, когда сравняется двенадцать лет. Зара к нему еще не притерпелась.
Джангыз, «Кольцо» – так племя аталыка называло свой аул, потому что он находился в круглой впадине, со всех сторон окруженной отвесными скалами (они-то и были Кольцом). Чужие нарекли селение Канлырой, «Дом кровников», но прозвание это обидное, свои его никогда не употребляли. Это когда Зара была совсем маленькая, атаи диде говорили «Канлырой», «канлыройцы», а когда она сама стала тут жить, то сделалась не канлыройка, а джангызка. На время – пока не вырастет большая и не вернется к родителям. Но это еще надо подумать, возвращаться ли?
При мысли о возвращении и шестипалом Аль-Латыфе она нахмурилась, бросила мелок, стала смотреть вниз, на дорогу, по которой однажды приедут ее отсюда забирать.
Но сразу забыла об этом. На дороге было интересно. По ней в сторону Ворот ехали всадники. Глаза у Зары были, как у орлицы. Конные были еще очень далеко, только выезжали из дальнего ущелья, а она уже видела, что их трое и одна лошадь в поводу. Дозорные пока ничего не заметили – сверху было видно, как они сидят на вышке и кидают на доске свои костяшки (скучная, тупая игра).
Вытерев нос рукавом бешмета, Зара стала быстро и ловко спускаться по внешнему обрыву. Никто другой не смог бы, а она знала каждый выступ, каждую выемку. Иногда из-под ее ноги в узком сафьяновом сапожке сыпались камни. Но часовые не поднимали голов, хотя наверняка слышали звук. В скалах всегда что-то сыплется. И потом, где им заметить Зару? Прильнет к камням – и нет ее.
Заметили они ее, только когда она уже спустилась и села на корточки у частокола. Стала ждать, когда подъедут всадники.
– Э, гляди, – сказал криворотый щекастый Масхуд (Зара смотрела, как шевелятся его красные губы). – Как она прошла через ворота? Я не видал. Чудная она. Тихая, как ящерица.
Вторым дозорным был Олагай, сын кузнеца. Он, наверное, что-то ответил, потому что Масхуд сказал:
– Сейчас.
И замахал Заре рукой: уходи, иди назад в ворота, здесь нельзя! Одну руку к груди прижимает, а другой машет. И улыбается. Потому что она не просто девочка, а приемная дочь самого Рауф-бека.
Ни один человек не знал, что она может выбираться из аула через Кольцо. Никто в Джангызе не умел этого, только Зара.
Все остальные проходили и проезжали через узкий проход, стиснутый двумя крутыми откосами. Он назывался Дорога Костей. Потому что когда-то враги пытались пробиться снаружи, чтобы уничтожить всех-превсех, но не тут-то было. На этот случай наверху, в нескольких местах, приготовлены груды камней. Снизу нажать рычаг – будет обвал. Врагов и завалило, а кто жив остался – бежал без оглядки. Мертвецов потом доставать не стали. Насыпали поверх щебня. Так скелеты внизу и лежат. Поэтому – Дорога Костей.
– Едут! – сказала Зара Масхуду, чтоб он про нее забыл и перестал прогонять.
Криворотый стал смотреть вдаль. Сначала ничего не видел, потом разглядел-таки. Ударил билом о кусок железа, три раза. Это чтоб в ауле услыхали: кто-то едет.
– Никак Рауф-бек вернулся? Не рано ли? – сказал он.
Зара, подняв голову, смотрела, что они говорят. Теперь им с вышки было видней, чем ей снизу.
Олагай ответил:
– Нет, этих только трое. И кони у них – шалохи.
Потом еще что-то, но прикрыл лицо рукавом, и она не разобрала.
Масхуд не забыл про Зару. Прижал ладонь к груди: поблагодарил, что предупредила. И больше не прогонял.
Ну то-то же. Он никто, простой нукер, а она – дочь князя и воспитанница Рауф-бека.
Рауф-бек был ее аталык. Как принято у больших и важных людей, Зару с малолетства отдали на воспитание в другой род. Этот обычай, существующий со времен пророка Мухаммеда, который тоже рос у чужих людей, очень мудрый, потому что помогает народам дружить между собой. У князя, отца Зары, жил младший сын Рауф-бека, а ее отдали в Джангыз-Канлырой. Давно это было. Свою родину Зара почти не помнила. Родного отца тоже. Ата был большой, краснобородый, пах кислым и пряным. Диде, родная мать, навещала ее раз в год, поэтому ее-то Зара помнила, но не сказать, чтоб любила. Как можно любить того, кого видишь раз в год?
Любила она нану, свою приемную мать. И немножко Рауф-бека, потому что он всегда с охоты привозил интересные подарки.
А диде подарков не привозила, не ласкала. Погладит один раз жесткой ладонью по щеке и начинает оглядывать, ощупывать, да проверяет, многому ли Зара за год научилась: какому рукоделью, какой хозяйственной пользе. И разговоры всегда про одно. Как важно, чтоб Зару в Канлырое любили, потому что хоть все они тут и разбойники, но ата очень нуждается в поддержке Рауф-бека.
Последний раз диде приезжала прошлой осенью, когда Заре исполнилось двенадцать и ее затянули в пша.
– Ходить в корсете тяжело, снимет его с тебя только муж, после свадьбы, – говорила диде. – Но терпеть тебе недолго. Как только твоя нана сообщит нам, что у тебя началсь женские обычности, мы заберем тебя домой и выдадим замуж. Отцу нужно замириться с зеранчхоевским князем. Твой жених – его старший сын Аль-Латыф Шестипалый. Мальчик рябоват и у него вправду шесть пальцев, но зато в союзе с канлыройцами и зеранчхоевцами нашему дому будет ничто не страшно.
Она долго про это объясняла, и Зара послушно кивала, но за рябого-шестипалого выходить ей не хотелось. Она хотела вместе с Назифой попасть в гарем, где они стали бы самыми любимыми женами у паши, везиря или самого султана.
Говорить об этом с матерью, конечно, было нельзя. Тем более, диде тогда же строго-настрого запретила ей водиться с Назифой. Кто-то, видно, наябедничал.
Назифа была единственная подружка, рабыня с золотыми волосами, на год старше. Ее Рауф-бек привез с охоты совсем маленькой, еще раньше, чем сюда попала Зара.
У джангызцев такой промысел. Они уезжают далеко-далеко, подальше от здешних гор, чтоб не ссориться с соседями, и охотятся на чужих людей. Потом Рауф-бек или возвращает их за выкуп, или отвозит к морю и продает турецким купцам. Если охотники добывают детей, их сначала выращивают, а продают уже потом. Вырастить ребенка дешево, а дают за юношу или девушку в пять раз больше, чем за мальчика или девочку.
Назифу привезли из гяурского аула. Про прежнюю жизнь она ничего не помнила, только свое старое имя – Надия. Сначала ее, как других маленьких рабов, использовали на всякой домашней работе, но однажды Рауф-бек присмотрелся к девочке и сказал, что она обещает вырасти красавицей, а золотые волосы у турок в цене. Пусть больше не доит коз и не сучит шерсть, чтобы не испортить рук. Когда ей сравняется четырнадцать, он выручит за нее две или даже три тысячи серебряных монет. С того дня Назифа жила вольно.
Она была веселая, смелая и все время что-то выдумывала, с нею Зара никогда не скучала.
Сколько всего интересного они делали вдвоем! Не было случая, чтоб в Джангызе случилось что-нибудь особенное, а Назифа об этом не знала.
Они подслушивали под окном у Дадуха Хромого в ту самую ночь, когда он женился на Гашнаг, а она оказалась нечистой. Собственными глазами они видели, как Дадух высунулся из окна, весь в слезах, и выпалил в небо из ружья. Пусть все знают, что Гашнаг – беспутница! А как Гашнаг плакала! Ее потом посадили на осла и отправили из Джангыза куда глаза глядят.
Еще они подглядывали, как Нахо, жена седельщика, стоя на четвереньках, выдавливает из себя красного, сморщенного младенца. Похоже на то, как рожают кобылицы или коровы, но не совсем.
И как возле кладбища наказывали прелюбодеев, они тоже видели лучше всех, потому что Назифа придумала заранее спрятаться на дереве. Прелюбодея Джумала посадили связанного в одну яму, прелюбодейку Нурет – в другую. И стали кидать камнями: в мужчину – мужчины, в женщину – женщины. Джумалу-то хорошо, с первого же броска голову проломили, а женские руки слабые. Нурет долго кричала.
Еще Назифа научила Зару карабкаться на верхушку Кольца, чтобы оттуда смотреть на мир.
Они по целым дням там просиживали. Назифа рассказывала смешные или страшные сказки, Зара слушала и старалась всё это нарисовать.
Самая любимая ее сказка была про заколдованного султана. Что жил в главном городе земли Истамбуле султан. Все его боялись, потому что он был страшнее чудовища и свиреп душой. А всё потому, что злая колдунья заворожила его сердце и оно усохло, как мертвый цветок. Но однажды в гарем к султану привезли красавицу, которая умела вызывать ангела. Попросила она ангела расколдовать султана. Ангел проник султану за пазуху, дунул на сердце своим небесным дыханием – и мертвый цветок распустился. После этого султан стал самым великодушным из владык, а наложницу сделал своей любимой супругой.
Не передать, до чего Зара завидовала своей подружке. Воистину несправедлива судьба! Кого-то продадут в гарем к султану, а кто-то, значит, станет женой шестипалого? Иногда они думали, как бы им убежать через горы к морю, куда приплывают турецкие корабли за юными рабынями. Но убежать было нельзя, Кольцо бы их не выпустило. Зара тогда еще не знала, что на внешней стене есть спуск.
Как же Зара могла перестать водиться с Назифой? Ну, матери она, конечно, это пообещала, не будешь ведь препираться с диде – строптивых детей в аду ядовитые змеи за язык кусают. Но про себя решила, что просто впредь будет осторожной.
Только видеться они все равно почти перестали. Всё из-за того, что Рауф-бек передумал продавать Назифу. Он смотрел на нее, смотрел и вдруг объявил, что она будет ему младшей женой – потому что Дарихан умерла и ее дом стоит пустой.
Когда Назифу еще не заперли на женской половине, чтобы готовить в невесты, она сказала: «Не бывать этому! Не хочу всю жизнь лепить навоз на стены и на четвереньках рожать Рауф-беку детей. Убегу! Я буду султаншей!»
«Да как ты убежишь? Кто тебя выпустит через Ворота?»
«Через Кольцо уйду. Найду спуск».
И однажды ночью она исчезла. Зара проснулась, увидела у своего изголовья красную ленту с пришитыми серебряными монетками, единственное сокровище Назифы, и заплакала. Поняла, что это подруга ей на память оставила, а сама ушла в большой мир.
Но она ушла недалеко. Ее нашли на камнях, по ту сторону Кольца. Рядом валялся узелок, там лепешки, сыр, запасные чувяки. Видно, хотела спуститься и сорвалась.
И стали Назифу хоронить, как полагается по обычаю. Запихнули в рот, глаза и уши вату, чтобы не вырвались злые духи, замутившие покойнице душу. Вечером понесли хоронить. Зара шла с женщинами, отдельной дорогой. Пока не достигли кладбища, где мужчины уже вырыли могилу, женщины говорили обо всяком разном, некоторые даже хихикали – ведь умершая никому из них не была родственницей. Но когда показалась разрытая в земле дыра, все разом зарыдали, стали причитать, бить себя кулаками в грудь. Нана, у которой Назифа должна была стать младшей товаркой, завела похоронную песнь и немножко поцарапала себе лицо.
Зара одна не плакала, не причитала. Она уже знала, что будет делать. Ей приходилось бывать на похоронах раньше. Там ведь как? Сначала мертвое тело опускают в могилу и накрывают дубовой доской, с наклоном от головы к ногам. Потом засыпают землей. Все немножко помолятся – и скорей отходят подальше, остается один мулла. Его дело – прочесть особую погребальную молитву и трижды полить из кувшина на могилу водой. После этого мулла тоже отбегает. Всем известно: как только вода просочится сквозь землю и достигнет покойника, он немедленно оживет и станет звать: «Почему я один? Зачем вы все меня бросили?» И всякий, кто услышит этот голос, навсегда оглохнет.
И вот мулла, подобрав полы своего белого траурного одеяния, засеменил от свежего холмика прочь. Тогда Зара кинулась вперед, упала на могилу и прижалась к ней щекой.
Ей стали кричать: «Назад! Назад! С ума сошла! Оглохнешь!». Аталык бежал к Заре, выдергивая из бурки клочки шерсти и запихивая их себе в уши. Еще чуть-чуть – и утащил бы. Но все же Зара не пропустила миг, когда из-под земли донесся жалобный зов Назифы. И успела крикнуть: «Я здесь! Я с тобой! Не бойся! Я тебя не бросила!». Услышала и ответ: «Я за тобой вернусь. Только ты меня узнай!»
Потом Рауф-бек схватил Зару своими сильными руками, перекинул через плечо, что-то звонко лопнуло – и звуки навсегда исчезли.
Уже больше полугода Зара жила в тихом, безмолвном мире. Сначала это было странно, потом она привыкла. Ни разу не пожалела она о том, что прижалась ухом к могиле. Зато Назифе было нестрашно переходить в царство смерти. Пускай она забрала звуки с собой. Быть может, это единственное, что у нее под землей есть.
А у Зары остались глаза. Они больше не отвлекались на шум, поэтому научились видеть далеко и зорко.
Сначала, правда, было трудно, потому что она перестала понимать людей. Но со временем глаза обучились слышать сказанное по губам. Зара никому об этом говорить не стала. Когда люди считают, что ты глухая, они рассказывают при тебе множество интересных вещей.
Недавно, ласково улыбаясь своей воспитаннице, Рауф-бек сказал:
– Что будем делать, жена? Через три месяца приедет ее мать. Узнает, что девочка оглохла. Узнает, как это произошло. Я буду виноват, что не уследил. Кому нужна глухая дочь? Такую зеранчхоевский князь в невестки не возьмет. Придется мне платить за недосмотр большую пеню. Десять тысяч рублей или больше. Возьмут ли еще? Не знаю. Простят ли? Не знаю. Как быть?
Аталык всегда советовался о важном с женой, потому что она мудрая.
Нана тоже улыбнулась Заре.
– К чему ты ведешь? Говори.
– Если она заболеет и умрет, мы будем не виноваты – на то воля Аллаха.
– Девочка, слава Всевышнему, здорова, – ответила нана и стала смотреть на мужа.
– Можно насыпать ей в молоко тертой травы хаффар. От нее лихорадка, как от сильной простуды. Девочка два или три дня поболеет, потом умрет. Никто не догадается. Так будет дешевле и безопаснее. Мы потратимся только на пышные похороны. Ты разорвешь на себе платье и раздерешь себе лицо. Я посыплю голову пылью.
Все так же спокойно улыбаясь приемной дочери, нана сказала:
– Если девочка вдруг заболеет и умрет, я ночью вырежу твое черное сердце и брошу его нечистым собакам. Запомни это, Рауф-бек.
Аталык обнажил свои белые, острые зубы, расхохотался:
– Я пошутил, женщина. А ты поверила.
Потом поманил Зару и дал ей турецкий лукум, каким ее лакомили только по праздникам.
Совсем не испугалась она того разговора. Наоборот, обрадовалась. Если аталык ее отравит, не придется ждать неизвестно сколько, пока Назифа исполнит свое обещание. Известно, как тяжко усопшим душам дается обратная дорога в этот мир. А так Зара сама заявится к своей подруге.
Сиживая над обрывом в одиночестве, она уж подумывала, не спрыгнуть ли ей вниз. Но не стала, потому что это харам. Лишать себя жизни правоверным можно только в одном случае: чтоб не попасть к врагам в плен. А кто своевольно себя убил, тому гореть в аду. Там с Назифой не встретишься. Была другая мысль: не нарочно сорваться, а по-честному – как Назифа. Аллаха ведь не обманешь. Полезла она вниз по обрыву. Думала – убьется, а вместо этого обнаружила, что со скалы, оказывается, можно спуститься. Не вышло у нее умереть, как Назифа.
Тогда Зара стала как можно чаще попадаться на глаза аталыку, чтоб своим видом все время напоминать ему: осенью приедет диде. Когда Рауф-бек уезжал на охоту или по делам, она нетерпеливо его ждала. Поэтому и заторопилась вниз, завидев всадников. Вдруг это он?
Но Олагай оказался прав. Всадники были чужие.
Впереди ехал хмурый джигит, по лицу судить – аварец. Некрасивый, прямо урод. К его седлу был привязан повод лошади, на которой сидел военный урус со связанными руками. Сзади ехал старик с небольшой белой бородой, непонятно, какого племени. Он вел в поводу четвертую лошадь, с поклажей.
Ясно: абреки привезли продавать пленного. Так делали многие. Не все умеют торговать с турками, да и не потащишься из-за одного или двух пленных на ту сторону гор. А этот урус был начальник, афыцыр. За такого надо выкуп брать. Это Зара разобрала из слов аварца. Он говорил по-джангызски. Не очень хорошо, но понять можно.