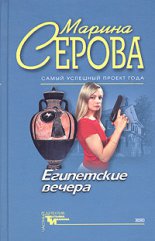Пусть льет Боулз Пол

— А, ну. Джек…
— Сомневаюсь, — сказала она. — Думаю, вы будете сидеть в одиночестве с утра до вечера, каждый день.
Голоса больше не доносились.
— В кухню ушли, — сказала она; Даер вытащил пачку сигарет, предложил ей. — Нет, спасибо. У меня остались. Но серьезно, даже представить себе не могу, чем вы станете заниматься целыми днями, понимаете. — Она порылась в сумочке и достала маленький золотой портсигар.
— Вероятно, меня будет занимать работа, — ответил он, поднося спичку к кончику ее сигареты, пока она не успела взять зажигалку.
Она коротко хохотнула, задула пламя и схватила его за руку — спичка так и осталась у него между пальцев.
— Дайте-ка посмотреть на руку, — сказала она, затягиваясь; Даер улыбнулся и чопорно протянул ей ладонь для осмотра. — Расслабьте, — сказала она, поднося его руку поближе к лицу. — Работа! — фыркнула она. — Я тут не вижу ни намека на нее, дорогой мой мистер Даер.
Он разозлился:
— Ну, значит, она лжет. Я всегда только и работал.
— А, стояли в банке, быть может, но это так легко, что даже не показывается. — Она присмотрелась, разглаживая пальцами мякоть ладони. — Нет. Никаких признаков работы не вижу. Вообще никаких признаков чего-то, если совсем честно. Никогда не видела такой пустой руки. Ужас просто. — Она подняла на него взгляд.
Он рассмеялся:
— Озадачены, а?
— Отнюдь. Я довольно долго прожила в Америке, видела достаточно американских рук. Могу сказать только, что у вас хуже прочих.
Он напустил на себя сильное негодование, резко забрал у нее руку.
— Что значит — хуже прочих? — воскликнул он.
Она посмотрела на него с бесконечным участием.
— Я имела в виду, — сказала она, — что у вас пустая жизнь. Никакого узора. И в вас нет ничего такого, что давало бы какую-то цель. Большинство людей не могут не следовать какому-то замыслу. Они это делают машинально, потому что их натура такова. Это их и спасает, одергивает. Они с этим ничего не могут поделать. А вам спастись не грозит.
— Уникальный образчик. Так?
— В некотором роде. — Миг она вопросительно вглядывалась ему в лицо. — Как странно, — пробормотала наконец она.
Эта пустота в нем была ей по душе. Совсем как будто он голый — не вполне беззащитный, просто неодетый, готовый реагировать, и вот это она сочла привлекательным; такими и должны быть мужчины. Но ее поразило: странно, что она так думает.
— Как странно что? — поинтересовался он. — Что я должен быть уникален?
Он видел — она верит во все, что говорит, а поскольку уделяемое ему внимание льстило, он готов был с ней спорить, если нужно, только чтобы его продлить.
— Да.
— Мне никогда не удавалось поверить во всю эту астрологию и хиромантию, — сказал он. — Не выдерживает критики.
Она не ответила, поэтому он продолжал:
— Давайте ненадолго отвлечемся от рук и приступим к личностям. — Бренди его согревал; он уже отнюдь не чувствовал себя больным. — Вы то есть считаете, что жизнь каждого отдельного человека отличается от прочих и следует своему узору, как вы его называете?
— Да, конечно.
— Но это же невозможно! — воскликнул он. — Очевидно же. Только посмотрите вокруг. Никогда не существовало такого массового производства, которое бы сравнилось с тем, что производит людей, — все одной модели, год за годом, век за веком, все похожи, вечно один и тот же человек. — Он несколько воодушевился, слыша собственный голос. — Можно сказать, что на свете вообще живет только один человек и мы все — он.
Мгновенье она помолчала, затем сказала:
— Чепуха. — От того, что он говорил, она неясно разозлилась. Подумала, не оттого ли, что она вообще противится тому, что он выражает свои мысли, но ей все же казалось, что нет. — Послушайте, лапушка моя, — примирительно сказала она. — А чего вы хотите в жизни?
— Трудный вопрос, — медленно ответил он. Из-за нее все паруса у него обвисли. — Наверное, чувствовать, что я от жизни что-то получаю.
Она произнесла нетерпеливо:
— Это ничего не значит.
— Хочу себя чувствовать живым, видимо. Вот и все, наверное.
— Боже всемогущий. Налейте-ка мне еще бренди.
Они оставили эту тему, заговорили о буре и климате вообще. Даер думал, что нужно было ответить тем, что пришло в голову: денег, счастья, здоровья, — и не пытаться говорить то, что он на самом деле имел в виду. Аккомпанементом этим мыслям постоянно возникала картинка — его номер в «Отеле де ла Плая» с заляпанным покрывалом, с клокочущим умывальником.
«У него ничего нет, он ничего не хочет, он сам ничто», — подумала Дейзи. Надо бы его пожалеть, чувствовала она, но он почему-то не будил в ней жалости — скорее легкую злобу, которая отменяла ее прочие эмоции. Наконец она встала.
— Надо посмотреть, что случилось с Луисом и Джеком.
Их они нашли в гостиной за беседой.
— Какой эвкалипт? — спросила Дейзи. — Я знаю, это один из них.
Маркиз нахмурился:
— Большой у ворот. Не все дерево. Только одна ветка, но крупная, что нависала над дорогой. Подъезд перекрыла.
— Почему они вечно умудряются падать на дорогу? — капризно спросила она.
— Не знаю, — ответил Уилкокс. — Но мне подгадило что надо. Как мне теперь отсюда выезжать?
Она весело рассмеялась.
— Вы с мистером Даером, — сказала она ясно и отчетливо, — останетесь ночевать, а утром вызовете такси. Все вот так просто.
— Не может быть и речи, — раздраженно ответил Уилкокс.
— Уверяю вас, сейчас ни одно такси не приедет, в такую-то погоду. Тут и говорить не о чем. А пешком идти — восемь километров.
На это у него ответа не нашлось.
— Как раз на такой крайний случай здесь вдоволь комнат. Ну, хватит уже волноваться, и сделайте мне виски с содовой. — Она повернулась к Даеру и широко улыбнулась.
Обслуживая ее, Уилкокс отрывисто произнес:
— А вам, Даер? Того же? — Даер быстро глянул на него, увидел, что он, похоже, недоволен.
— Пожалуйста. — Уилкокс протянул ему выпивку, не повернувшись.
«Все просто, — подумал Даер. — Он боится, что мы с нею уж очень хорошо ладим».
Поговорили о доме.
— Вам как-нибудь надо заехать днем и посмотреть розарий, — сказала Дейзи. — У нас розарий просто божественный.
— Но на самом деле нужно посмотреть ту стеклянную спальню, — произнес Уилкокс, откинувшись на спинку и зевнув в потолок. — Видели уже ее?
Маркиз стесненно хохотнул.
— Нет, не видел, — сказала Дейзи. Она встала, взялась за плечо Даера. — Пойдемте покажу. Идеальная возможность. Джек с Луисом пока обсудят банкротства этой недели.
Спальня Даеру напомнила большую круглую теплицу. Он пошаркал ногами по шкурам зебр, разбросанным по сияющему полу из черного мрамора. Кровать была очень широкой и низкой, тяжелое атласное покрывало частью стянуто, а простыни отвернуты. Все это было жестом вызова стихиям, буйствовавшим за стеклянными стенами; Даеру стало отчетливо не по себе.
— Заглянуть кто угодно может, я бы решил, — осмелился произнести он.
— Если только из Испании разглядят. — Она стояла и пристально смотрела вниз на невидимые волны, что разбивались о скалы. — Это моя самая любимая комната на свете, — провозгласила она. — Никогда не выносила быть вдалеке от моря. Я на самом деле — как моряк. Принимаю как данность, что соленая вода — естественный покров Земли. Значит, я должна ее видеть. Всегда. — Он глубоко вздохнула.
«А это еще что за спектакль?» — подумал он.
— Чудесная комната, — сказал он.
— Там в саду растут апельсины. Я все это место назвала «Гесперидами», потому что к этой вот горе Геракл должен был прийти украсть золотые яблоки.
— Неужели? — Он попытался задать вопрос с интересом и почтением.
Поскольку он уже принялся за виски, теперь ему было сонно. У него сложилось впечатление, что Уилкокс с маркизом поднимутся сюда в любую минуту; когда зайдут, чувствовал он, лучше им с Дейзи не стоять здесь в таких нерешительных, нелепых позах. Он заметил, как она подавила зевок; у нее вообще и не было желания показывать ему спальню. Это лишь досадить Уилкоксу, это их с ним общая игра. Ему пришло в голову, что немного позабавиться с нею, возможно, было бы весело — поглядеть, куда ветер дует. Он только не знал, с чего начать; она немного внушала робость. С чего-нибудь вроде: Большая кровать для одного маленького человека. Она, вероятно, ответит: Но здесь спим мы с Луисом, дорогой мой. Что бы он ни сказал и ни сделал, она, скорее всего, рассмеется.
— Я знаю, о чем вы думаете, — сказала она. Он чуть вздрогнул. — Вам спать уже хочется, бедняжка. Вам бы хотелось в постель.
— А, — ответил он. — Ну…
В комнату торопливо вошла моложавая женщина, крикнув:
— On peut entrer?[6]
Одежда у нее была вся мокрая, лицо блестело от дождя. Они с Дейзи принялись живо болтать по-французски, время от времени бросая Даеру обрывки фраз. Женщина была секретаршей Дейзи, только что вернулась с танцев, такси пришлось остановиться под упавшим деревом, но водитель был любезен проводить ее до дома и теперь пил внизу коньяк, она вымокла насквозь, а такси тут никому не нужно?
— Еще как нужно! — воскликнул Даер с большей живостью, чем было бы учтиво. И тут же смутился и принялся, заикаясь, бормотать благодарности и извинения.
— Тогда скорее вниз, дорогуша. Не заходите прощаться. Быстрей! Я позвоню вам завтра в контору. Мне с вами нужно кое о чем поговорить.
Он пожелал спокойной ночи, сбежал по лестнице, по пути встретив маркиза.
— Джек вас ждет снаружи. Спокойной ночи, старина, — сказал маркиз, поднимаясь.
Когда он дошел до верхней площадки, Дейзи задувала свечи вдоль стены.
— Estamos salvados, — произнесла она, не поднимая головы.
— Quegentuza mas aburrida,[7] — вздохнул маркиз.
Она методично продолжала свое дело, тщательно заводя руку за пламя каждой свечи и дуя на него. У нее было ощущение, что вечер прошел как-то совсем не так, но в какой именно момент он начал это делать, определить она не могла.
Злобный ветер хлестал их, пока они пробирались к такси. Они проползли под одним концом огромной ветви, наискось лежавшей на дороге. Таксист с некоторым трудом разворачивал машину; в какой-то миг задним ходом въехал в стену и выругался. Когда все тронулись, медленно по темной горной дороге, Уилкокс сказал:
— Ну, посмотрели спальню?
— Да.
— Видели все. Можно возвращаться в Нью-Йорк. В Танжере для вас больше секретов нет.
Даер натянуто рассмеялся. Помолчав, он сказл:
— А что завтра? Мне прийти в агентство?
Уилкокс закуривал.
— Можете заглянуть где-нибудь под вечер, да.
Сердце у Даера упало. Затем он рассердился. «Он чертовски хорошо знает, что я хочу начать работу. В кошки-мышки играет». Он ничего не сказал.
Когда въехали в город, Уилкокс объявил:
— «Атлантида». — (Такси свернуло вправо, взобралось по извилистой улочке и остановилось у крупного парадного.) — Вот пятьдесят песет, — сказал Уилкокс, сунув ему в руку несколько купюр. — Моя доля.
— Отлично, — сказал Даер. — Спасибо.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи.
Таксист выжидательно обернулся.
— Одну минуточку, — сказал Даер, поведя рукой. Он еще видел Уилкокса в вестибюле.
Когда тот скрылся из виду, Даер уплатил таксисту, вышел и двинулся вниз по склону, спиной к дождю. Улица была пустынна. Он чувствовал себя приятно пьяным, а спать не хотелось вовсе. Бредя вперед, он бормотал:
— Под вечер. Заглядывайте, не стесняйтесь. Приятно познакомиться. Славная погодка.
Он вышел на площадь, где ждала шеренга такси. Даже в бурю, в такой час, его заметили.
— Эй, пойдем! Такси, Джонни?
Он отмахнулся от них и свернул в узкий проход. Идти было как по руслу быстрого ручья; вода почти заливала верх его ботинок, иногда перехлестывала. Он нагнулся и закатал брюки, пошел дальше. Мысли его свернули на другой курс. Вскоре он уже хмыкал про себя, а однажды сказал вслух:
— Золотые яблоки, хрен там!
3
Тами очень злился на жену: у нее носом шла кровь и она закапала ею все патио. Он говорил ей взять мокрую тряпку и приложить, чтоб не текло, но она боялась и его, казалось, не слышала; просто расхаживала взад-вперед по патио, закинув голову. В дверном проеме мигала масляная лампа, оттуда, где он лежал на матрасе, видны были ее ноги, в хне, с тяжелыми браслетами, — шаркали перед ним то и дело. Дождь лил без перерыва, но она, похоже, его не замечала.
Вот что хуже всего в семейной жизни, если только у тебя нет денег, — мужчине нипочем не остаться одному в собственном доме; перед ним всегда женское тело, а когда оно надоедало, ему не хотелось, чтобы о нем постоянно напоминали.
— Yah latif![8] — заорал он. — Закрой хотя бы дверь!
В соседней комнате заплакал ребенок. Тами немного подождал: что станет делать Кинза? Она ни дверь не закрыла, ни сына не пошла утешать.
— Сходи посмотри, чего он хочет! — заревел Тами. И простонал: — Ал-лах! — и накрыл живот подушкой, сцепил на ней руки, надеясь все-таки вздремнуть после ужина.
Если б не сын, размышлял он, отправил бы ее восвояси, к родне в Риф. Это хотя бы вымостило ему путь обратно — братья снова приняли бы его к себе и разрешили с ними жить.
Он никогда не считал, что Абдельмалек и Хассан поступили по справедливости, сами решив выставить его из дома. Он моложе, а потому пришлось, конечно, повиноваться их постановлению. Но он, разумеется, не принял его покорно. Как за ним это водилось, он считал, что они поступили так из чистой злобы, и вел себя соответственно. Он нанес непростительное оскорбление — говорил против них с другими, подробно описывал их скаредность и похотливость; черта эта постепенно отвадила от него практически всех друзей детства. Все знали, что он пьет и пил с пятнадцати лет, и хотя одно это в высших слоях танжерского мусульманского общества не считалось достаточной причиной, чтобы его попросили вон из жилища Бейдауи, не оно настроило его друзей против него. Беда была вот в чем: Тами слыл гением в том, чтобы делать что-то не то; он словно бы получал извращенное и злобное удовольствие, отрезая себя от всего, что прежде знал, делая себя до крайности жалким. Его бессмысленная женитьба на неграмотной девушке с гор — наверняка же он так поступил лишь в отместку братьям. Разумеется, он насмехался над ними, сняв убогую лачугу в Эмсалле, где жили только чернорабочие и слуги. Он не просто пил спиртное — недавно он начал это делать на людях, на террасах кафе в Соко-Чико. Братья его слыхали даже, хоть и непонятно, сколько в этих слухах правды, что его неоднократно видели в поезде на Касабланку, а это, как правило, означало одно: ту или иную контрабанду.
Друзья Тами нынче из новокультурных, и у них с Тами отношения не очень глубоки. Двое преподавали в Lycee Franais[9] — ярые националисты, они не упускали в разговоре возможности покритиковать Францию и бросались такими понятиями, как «империалистическое владычество», «панисламская культура» и «автономия». Их злость и неприятие злоупотреблений несправедливой власти отзывались в нем сочувствием; он себя ощущал одним из них, не очень, вообще-то, понимая, о чем они говорят. Это они внушили ему мысль часто ездить во Французскую зону и (— а это была совершенная правда: он и впрямь занимался мелкой контрабандой —) и возить с собой авторучки и наручные часы, продавать их там с хорошим наваром. Каждый франк, на который можно надуть французскую таможню, убеждали они, — еще один гвоздь в гроб французской экономики; в конце концов клевретам Лиотэя[10] придется покинуть Марокко. К тому же приятно иметь в бумажнике лишние тысячи франков под конец такой поездки.
Другой его друг был чиновником Municipalite.[11] Он тоже одобрял контрабанду, но из соображений нравственности — важно было утверждать единство Марокко, отказываться принимать три зоны, на которые страну произвольно разделили европейцы. Применительно к европейцам важно, утверждал он, сеять хаос в их учреждениях и морочить им головы иррациональным с виду поведением. Что касается мусульман, они должны сознавать свои позор и страдание. Он часто навещал родных в Рабате и всегда привозил с собой крупную гроздь бананов — в Танжере они были гораздо дешевле. Когда поезд останавливался в Сук-эль-Арбе, таможенники накидывались на фрукты, а он принимался орать как можно громче, что везет бананы своему больному ребенку. Офицеры, отметив растущий интерес к этой сцене со стороны других туземных пассажиров, понижали голоса и старались, чтобы свара осталась как можно более приватной и дружелюбной. Он же отлично говорил по-французски и вежливость блюл, но протест заявлял шумно, и, если в любой момент становилось понятно, что инспекторы могут его умилостивить и пропустить бананы, он вправлял в свою речь какое-нибудь крохотное дерзкое оскорбление, для других пассажиров неуловимое, но французы от него наверняка рассвирепеют. Они требовали сдать бананы, не сходя с места. В такой миг он делал вид, что принял внезапное решение; брал гроздь за черенок и начинал отламывать бананы один за другим, созывая пассажиров четвертого класса, по большинству простых берберов, подходить и есть фрукты, печально говоря, что раз уж его больному сыну не доведется поесть бананов, так пусть хоть землякам достанется. Так сорок или пятьдесят мужчин в белых одеждах рассаживались на корточках вдоль перрона и уминали бананы, качая головами от жалости к отцу больного мальчика и осуждающе поглядывая на французов. Загвоздка была лишь в том, что число таможенных инспекторов было довольно ограниченно. Все они попадались в ловушку снова и снова, но потом запомнили чиновника слишком уж хорошо и в последний раз, когда он ехал, стойко отказались замечать его бананы вообще. Когда про это услышал Тами, он сказал:
— Так ты проехал в Рабат с ними?
— Да, — несколько уныло ответил друг.
— Чудесно, — с воодушевлением сказал Тами. Чиновник поглядел на него. — Ну а как же! — воскликнул Тами. — Ты нарушил закон. Они это знали. И не осмелились ничего сделать. Ты победил.
— Наверное, так и есть, — ответил друг немного погодя, но без уверенности, что Таи понял, в чем суть.
* * *
Тами открыл глаза. Прошло пять минут, хотя он думал — час или больше. Лампу она забрала; в комнате было темно. Дверь в патио стояла открытой, за ней он видел, как на плитки брызгает дождь. Затем осознал, что ребенок плачет по-прежнему, устало, жалко.
— Inaal din…[12] — свирепо произнес он себе под нос. Вскочил в темноте, сунул ноги в тапочки и, спотыкаясь, выбрался во влагу.
Лампа стояла в соседней комнате. Кинза взяла ребенка на руки и неуклюже держала его, готовясь дать ему грудь. Кровь по-прежнему текла у нее по лицу и медленно, размеренно капала с подбородка. В нескольких местах уже измарала одежду ребенка. Тами подошел ближе. И тут увидел, как капля крови упала прямо на лицо младенцу, чуть выше губ. Высунулся опасливый язычок и слизнул ее. Тами вышел из себя.
— Hachouma![13] — заорал он и выхватил ребенка у нее, стараясь, чтоб она не достала, отчего младенец заорал уже всерьез.
Тами бережно положил его на пол, вытащил старый носовой платок, постоял немного в дверях, вытянув руку под дождь, а когда ткань намокла, швырнул платок ей. Кровью она закапала все: половики, подушки, пол, латунный поднос на чайном столике, и даже, как он, передернувшись в отвращении, заметил, попало в один чайный стакан. Он взял эту маленькую стекляшку и выкинул наружу, услышал, как стаканчик хрустнул и звякнул. Теперь ему хотелось прочь из дома. С каждым мигом, казалось, лило все сильней. Тем хуже, подумал он. Все равно уйдет. Он стянул плащ с гвоздя, на котором тот висел, надел ботинки и, не сказав ни слова, вышел на улицу. Лишь захлопнув за собой дверь, он заметил, что ливень сопровождается яростным ветром.
Было поздно. Время от времени ему встречался спешащий человек, лицо скрыто под капюшоном джеллабы, голова склонена, взгляд в землю. Улицы Эмсаллы не мостили; всю дорогу до бульвара грязная вода текла ему навстречу. Вот мимо проехала одинокая осторожная машина под натиском дождя, все время гудя клаксоном.
Он прошел вдоль Пляс де Франс под низкими ветвями виргинских дубов перед французским консульством. Ни «Кафе де Пари», ни «Брассери де Франс» не работали. Город опустел, бульвар Пастёр свелся к двум сходящимся рядам тусклых огоньков, уводящим в ночь. Типично для европейцев, подумал он, растерять мужество и отказаться от всех своих планов в ту же минуту, когда возникает вероятность промокнуть. Они скорее осмотрительны, нежели страстны; страхи у них сильнее желаний. У большинства подлинного желания-то и не было, только зарабатывать деньги, а это, в конце концов, просто привычка. Но едва деньги у них появлялись, казалось, они их никогда не пускают на какой-то конкретный предмет или цель. Вот что ему было трудно понять. Он точно знал, чего хотел, всегда, и его соотечественники тоже. Большинству хотелось лишь трех баранов, забить их на Аид эль-Кебир, да новую одежду для семьи на Мулуд и Аид эс-Сегир.[14] Немного, но определенно, и они все свои силы прилагали для достижения этого. Но все равно он не мог думать о массе марокканцев без презрения. Его бесили их невежество и отсталость; если он проклинал европейцев, то, не переводя дух, неизбежно проклинал и марокканцев. Никому не спускал, кроме себя самого, а это потому, что себя он ненавидел больше всех. Но, к счастью, этого не знал. Сам же мечтал об одном — о маленьком быстроходном катере; для человека, надеявшегося по-настоящему преуспеть в контрабанде, катер — совершенная необходимость.
Теперь же он хотел добраться до кафе «Тингис» в Соко-Чико и выпить кофе с коньяком в нем. Он свернул в Сиагины и быстро зашагал вниз по склону между ларьками менял, мимо испанской церкви и «Galeries Lafayette». Впереди лежала маленькая площадь, яркие огни керосиновых фонарей в кафе лились на нее со всех четырех сторон. Мог стоять любой час дня или ночи — кафе открыты и заполнены мужчинами, глухое монотонное бормотанье их бесед заполняло весь zoco.[15] Но сегодня всю площадь продувало ревущим ветром. Тами поднялся по ступенькам на пустую террасу, втолкнулся внутрь и сел у окна. «Тингис» главенствовал над площадью; отсюда можно было свысока поглядывать на другие кафе. На столике кто-то оставил почти полную пачку «Честерфилда». Тами хлопнул в ладоши, подзывая официанта, снял плащ. Под ним он был не очень сухой: довольно много воды затекло по шее, а ниже колен он промок насквозь.
Пришел официант. Тами сделал заказ. Показав на сигареты, спросил:
— Ваши?
Официант неуверенно оглядел кафе, лоб его наморщился в смятении, и ответил, что столик, кажется, занят. Тут же из уборной вышел мужчина и направился к Тами, который машинально поднялся, чтобы пересесть куда-нибудь еще. Дойдя до столика, человек сделал несколько жестов, давая Тами понять, что тот может остаться. Тами снова сел.
— Это ничего, ничего, — говорил мужчина. — Сидите, где сидите.
Тами учил английский в детстве, когда на этих занятиях настоял его отец, у которого дома часто останавливались высокопоставленные англичане. Теперь он говорил на нем сравнительно неплохо, разве что с сильным акцентом. Он поблагодарил мужчину и угостился сигаретой. Затем сказал:
— Вы англичанин? — Любопытно, что человек оказался в этой части города в такой час, а особенно — по такой погоде.
— Нет. Американец.
Тами поглядел на него оценивающе и спросил, не с парохода ли он: сам он немного опасался, что американец попросит его показать дорогу к борделю, и нервно огляделся, нет ли в кафе знакомых. Распространения одного слуха он терпеть никак не мог: что он стал гидом; в Танжере ниже падать некуда.
Мужчина сконфуженно рассмеялся, ответив:
— Ну да, наверное, можно сказать, что с парохода. Только что сошел, но если вы имеете в виду, не работаю ли я на нем, то нет.
Тами полегчало.
— В гостинице остановились? — спросил он.
Собеседник ответил, что да, чуть настороже, поэтому Тами не стал уточнять, в какой именно, как собирался.
— Танжер очень большой? — спросил мужчина; Тами не знал. — А много сейчас здесь туристов? — (Это он знал.)
— Очень плохо стало. Никто больше не приезжает после войны.
— Давайте выпьем, — неожиданно предложил мужчина. — Эй, там! — Он откинулся назад, взглядом ища за плечом официанта. — Вы же выпьете, правда?
Тами согласился.
Мужчина впервые посмотрел на Тами с некоторой теплотой.
— Что толку тут сидеть, как два сучка на бревне. Что будете? — Приблизился официант. Тами пока не решил, что за человек перед ним, что ему по карману.
— А вы? — спросил он.
— «Белую лошадь».
— Хорошо, — сказал Тами, понятия не имея, что это такое. — Мне тоже.
Два человека посмотрели друг на друга. То был миг, когда они готовы были проникнуться друг к другу симпатией, но традиционная формула недоверия требовала сперва найти причину.
— Вы когда приехали в Танжер? — спросил Тами.
— Сегодня вечером.
— Сегодня вечером, впервые?
— Вот именно.
Тами покачал головой.
— Как чудесно быть американцем! — пылко произнес он.
— Да, — машинально подтвердил Даер, никогда особо не задумывавшийся, каково не быть американцем. Отчего-то это казалось самым естественным.
Принесли виски; они его выпили, Тами скривился. Даер заказал еще по разу, Тами без энтузиазма предложил заплатить и быстро сунул деньги обратно в карман при первом «нет» Даера.
— Ну и место, ну и место, — произнес Даер, качая головой. Внутрь только что вошли двое чернобородых мужчин, головы обернуты в большие махровые полотенца; как и прочих, их полностью увлекала нескончаемая и шумная еседа. — Они тут сидят вот так всю ночь? О чем они говорят? О чем можно так долго разговаривать?
— О чем люди говорят в Америке? — сказал Тами, улыбнувшись ему.
— В баре — обычно о политике. Если вообще разговаривают. В основном просто пьют.
— Здесь — обо всем: дела, девушки, политика, соседи. О чем мы сейчас с вами говорим.
Даер допил.
— А о чем мы говорим? — резко спросил он. — Черт его знает.
— О них. — Тами рассмеялся и сделал широкий жест.
— В смысле, они о нас говорят?
— Некоторые — наверное.
— Приятного развлечения, братва! — громко выкрикнул Даер, повернув голову к остальным.
Посмотрел в свой стакан, с трудом поймал его в четкий фокус. На секунду он забыл, где он, — видел только пустой стакан, тот же, что вечно ждал, чтобы его наполнили снова. Пальцы у Даера на ногах сжимались и разжимались, а это означало, что он пьян. «Где тут ближайшая подземка?» — подумал он. Затем привольно вытянул перед собой ноги и рассмеялся.
— Господи! — воскликнул он. — Я рад, что я здесь! — Он оглядел замызганный бар, услышал бессмысленное болботанье и почувствовал, как о него разбивается волна сомненья, но держался твердо. — Бог знает, где это, но уж лучше тут, чем там! — упорствовал он. От звука слов, произнесенных вслух, ему стало увереннее; откинувшись назад, он взглянул на тени, двигавшиеся по высокому желтому потолку. Он не увидел скверно одетого юношу с хитрым лицом, который вошел в кафе и направился прямиком к столику. — И я не шучу, — сказал он, вдруг выпрямившись и зыркнув на Тами, который, похоже, испугался.
Впервые Даер осознал присутствие юноши, когда Тами неохотно ответил на его приветствие по-арабски. Он поднял взгляд, увидел, что сверху на него смутно, хищным манером смотрит молодой человек, и тут же его невзлюбил.
— Привет, мистер. — Юноша ухмыльнулся, достаточно широко, чтобы показать, какие зубы у него золотые, а какие нет.
— Привет, — безразлично ответил Даер.
Тами сказал что-то по-арабски; прозвучало язвительно. Юноша не обратил внимания, но схватил стул и подтащил его к столику, не спуская глаз с Даера.
— Гаврите англиски желяйте кляссный сулима да мистер? — сказал он.
Тами тревожно оглядел бар и несколько успокоился, увидев, что на их столик сейчас никто не смотрит.
— Так, — сказал Даер, — начните еще раз и не спешите. В чем дело?
Юноша зло глянул на него, сплюнул.
— Ты не гаврите англиски?
— На таком — нет, дружище.
— Он хочет, чтоб вы пошли смотреть фильм, — пояснил Тами. — Но не ходите.
— Что? В такое время? — воскликнул Даер. — Он чокнутый.
— Их показывают поздно, потому что они запрещены полицией, — сказал Тами с таким видом, словно вся эта мысль была ему в высшей степени отвратительна.
— Почему? Что это за кино тогда? — Даер заинтересовался.
— Очень плохое. Сами понимаете.
Поскольку Тами, как все марокканцы, совершенно не постигал смысла порнографии, он воображал, будто полиция наложила запрет на непристойные фильмы, потому что они в неких определенных точках нарушали христианскую доктрину, а в таком случае любой христианин, само собой, проявит интерес хотя бы для того, чтобы осудить. Он совсем не удивился тому, что Даеру захотелось про них узнать, хотя самому ему это было так же безразлично, как, он полагал, должно быть Даеру, обратись они к вопросу, следует ли паломнику в Мекке бегать вокруг Каабы по часовой стрелке или против. В то же время, оттого что их запретили, они стали позорными, и он не желал иметь с ними ничего общего.
— Они очень дорогие, и вы ничего не увидите, — сказал он.
Молодой человек не понял, что сказал Тами, но уловил общий смысл, и ему не понравилось. Заплевал яростнее и тщательно старался не поворачивать головы к Тами.
— Ну, что-то же наверняка увидишь, — логично возразил Даер. — Давайте разберемся, — сказал он юноше. — Сколько?
Ответа он не получил. Молодой человек вроде бы сконфузился; он пытался решить, сколько выше обычного тарифа можно безопасно запросить.
— Ch’hal? — упорствовал Тами. — Сколько? Человек спрашивает сколько. Скажи ему.
— Miehtsain.
— Achrine duro,[16] — строго ответил Тами, словно поправлял его. Они немного поспорили; наконец Тами торжествующе объявил: — Можете пойти за сто песет. — Затем оглядел бар, и лицо его потемнело. — Но это нехорошо. Советую вам, не ходите. Уже очень поздно. Легли бы спать? Я провожу вас до гостиницы.
Даер посмотрел на него и слегка рассмеялся:
— Послушайте, друг мой. Вам никуда идти не надо. Никто не говорил, что вам нужно идти. Не беспокойтесь за меня.
Тами секунду всматривался ему в лицо, не сердится ли, решил, что нет, и сказал:
— Ох, нет!
И речи быть не могло о том, чтобы бросить американца, — забредет в Бенидер с сутенером. Хоть ему в этот миг и хотелось больше всего на свете пойти домой и лечь спать, а попадаться кому-то на глаза в такой час на улице с иностранцем и этим вот молодым человеком — в последнюю очередь, он чувствовал, что отвечает за Даера, и решился не выпускать его из виду, пока не доведет до дверей гостиницы.
— Ох, нет! — повторил он. — Я пойду с вами.
— Как угодно.
Они встали, и юноша вышел за ними на террасу. Одежда у Даера еще не высохла, и он поморщился, когда его ударил порыв ветра. Он спросил, далеко ли; Тами справился у их спутника и сказал, что пешком идти две минуты. Дождь притих. Они пересекли zoco, несколько раз свернули в улочки, похожие на коридоры старой гостиницы, и остановились в сумраке у высокой решетчатой двери. Тами опасливо вглядывался в пустынный переулок, пока юноша колотил дверным кольцом, но к ним никто не выходил.
— «Я петь сейчас закончу, мне так тревожно здесь…» — пропел Даер, не очень громко.
Но Тами схватил его за руку, в ужасе.