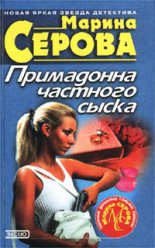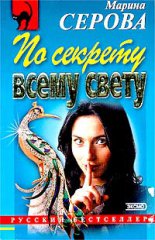Гумилев без глянца Фокин Павел

* * *
Памяти Галины Фридмановны Коган
Поэт – имя существительное, род мужской, единственное число
Гумилев – наша совесть.
О. Мандельштам
Гумилев никогда специально не занимался языкознанием. Иностранные языки давались ему с усилием. Он не погружался в стихию античного логоса, как Вячеслав Иванов. Не вызывал первосмыслы родной речи, как Велимир Хлебников. Не заставлял слова звучать всеми оттенками значений, в них живущих, как Марина Цветаева. Но он обладал исключительной филологической чуткостью. Каждое слово он чувствовал с непревзойденной точностью. И в каждом – видел Слово. То, Что «осиянно средь земных тревог». Этой особенностью во многом определяется его поэтическая и человеческая индивидуальность.
Ирина Одоевцева записала рассказ Гумилева о том, как, будучи гимназистом и желая поразить воображение любимой девушки и товарищей, он в девичьем ее альбоме в анкете на вопрос «Ваша любимая еда» хвастливо написал «канандер», имея в виду, конечно, сыр камамбер. И каков был его ужас и позор, когда дома мама обнаружила эту ошибку. Всю ночь метался он от плана к плану, как исправить ситуацию: выкрасть альбом, поджечь дом, в котором жила девочка, сбежать в далекие страны. В конце концов к утру решил порвать все отношения с любимой и больше с ней не встречаться. Так и сделал.
Вряд ли Гумилев придумал эту историю, хотя, возможно, несколько ее драматизировал. Замечательно, как обострен в ней главный конфликт личности пробуждающегося поэта. Здесь есть и юношеский вызов обывательскому миру, и стремление очаровывать, и соблазн превосходства, и наказанное самомнение, и отчаяние, и решимость бороться, и готовность к действию. И весь этот психологический вихрь рождается от слова – красивого, загадочного, нездешнего, в которое подросток влюблен сильнее, чем в девушку, и от грамматической ошибки – ехидной, насмешливой, унизительной. Самое важное, что ни девушка, ни его товарищи ошибки не заметили – они были нелюбопытны и безразличны, но юноша Гумилев тогда уже сделал свой выбор: суд Слова для него – инстанция высшего порядка, филологическая совесть – главный судия.
Даже в таком, кажется, весьма далеком от лингвистики деле, как ухаживание за барышнями, у Гумилева явно присутствует не только тяга плоти, но и обаяние имени. Лидия Аренс, Мария Кузьмина-Караваева, Татиана Адамович, Ольга Высотская, Лариса Рейснер, Паллада Богданова-Бельская, Мария Левберг, Маргарита Тумповская, Ольга Гильдебрандт-Арбенина, Анна Энгельгардт, Елена Дюбуше, Дориана Слепян, Нина Шишкина-Цур-Милен, Ирина Одоевцева (при встрече с Гумилевым – Рада Густавовна Гейнике), Аделина Адалис, Нина Берберова – донжуанский список Гумилева больше похож на словарь, чем на записную книжку ловеласа.
И конечно же, он очень рано понял значение – и предназначение! – своего имени. Этимологию фамилии Гумилева его внебрачный сын Орест Высотский возводит к латинскому слову humilis, что значит «смиренный»[1]. Так по науке. Но какой ребенок ведает о ней? Первое и главное, что услышал мальчик в своей фамилии, – это никакое не смирение, а рык льва! (Он подтвердит это позднее, назвав своего первенца именно так – Львом. Не отсюда ли и его завороженность Африкой?) Возможно, чуть позже он разглядит некий заветный смысл и в первом слоге фамилии: hum – сокращение от human – человек. Человек-Лев! Звучит призывно. Да ко всему еще ведь и Николай – «победитель народов». А для полного счастья – Степанович – «увенчанный»!! Плюс ко всему еще почти обязательное приложение из православного обихода: «чудотворец»!!! Как бы то ни было, ребенку с таким именем оставалось только стать героем. А завороженному смыслами созвучий – неизбежно поэтом! Укротителем слов. Властителем.
Императив имени определил и образ поэта в сознании Гумилева: поэт – имя существительное, род мужской, единственное число. Эти грамматические категории он понял буквально. Ничего отвлеченного и двусмысленного, никаких оговорок и компромиссов, все – реально, отчетливо и конкретно, зримо и весомо, по-настоящему. И первые слова, которые услышал от него мир: «Я, конквистадор в панцире железном», иначе говоря, бесстрашный завоеватель и повелитель неведомых миров. Образ для русской культуры совершенно новый. И, кажется, современники как-то не очень внимательно к нему отнеслись, отождествив с более привычной и уже вполне вписанной в систему координат фигурой рыцаря. Тем более, что «Путь конквистадора» (1905) появился на фоне блоковских «Стихов о Прекрасной Даме» (1904), то есть в самый расцвет новой рыцарской мифологии. Между тем разница между рыцарем и конквистадором не просто ощутимая, а принципиальная.
Они – герои разных исторических и культурных эпох. Рыцарь (мифологизированный) – в первую очередь благородный и бескорыстный служитель идеала (поэтому пушкинский «Скупой рыцарь» – трагический оксюморон), преданный защитник христианской веры, доблестный вассал короля и верный слуга Прекрасной Дамы. Конквистадор же – сам себе хозяин, в известной степени авантюрист, он воюет не за абстрактные идеалы, а из личного интереса, на свой страх и риск.
- Я вышел в путь и весело иду,
- То отдыхая в радостном саду,
- То наклоняясь к пропастям и безднам.
- Порою в небе смутном и беззвездном
- Растет туман… но я смеюсь и жду,
- И верю, как всегда, в мою звезду…
Конквистадор Гумилева, конечно, тоже образ романтизированный, но в целом сохраняющий историческое содержание; он полемически обращен к образу рыцаря.
- Не по залам и по салонам
- Темным платьям и пиджакам –
- Я читаю стихи драконам,
- Водопадам и облакам.
- Я люблю – как араб в пустыне
- Припадает к воде и пьет,
- А не рыцарем на картине,
- Что на звезды смотрит и ждет.
Создатель одного из самых экзотических миров в русской поэзии был человеком реалистичным, деятельным и практичным. Гумилев – блистательный организатор и руководитель. Во всех его «проектах» видна обстоятельность и целеустремленность. И в том, как он последовательно учился мастерству у Брюсова, ведя с ним систематическую переписку и обсуждая все свои новые идеи и замыслы. И в многолетнем ухаживании за Анной Ахматовой, которую судьба, как нарочно, удалит от него на тысячи верст: он будет их неустанно преодолевать. И в его африканских путешествиях – сколько труда, знаний и хлопот нужно было вложить в их подготовку! В журнальной работе. В «Цехе поэтов». На фронте – в разъездах и на биваках, в наступлениях и окопах. В переводческой и педагогической деятельности. Не всегда все удавалось так, как хотелось (коммерчески провалились первые издательские опыты, не сложилась семейная жизнь, не дался экзамен на офицерский чин), но в трудностях нарабатывался опыт, который не оставался втуне и находил впоследствии обязательное применение. За тридцать пять лет своей короткой жизни Гумилев прожил не один человеческий век.
Ему нравилось примерять маски и играть роли. Это было в духе эпохи. Но и здесь он был оригинален и самобытен. Театр стал для него не развлечением, как для большинства его современников, а инструментом самопознания. Он брал роль и испытывал ею себя, проверял душу и тело. Все всерьез, никаких декораций и условностей. Даже в детских играх: однажды в доказательство своей «кровожадности» откусил голову живому карасю. Роли Ученика, Несчастного влюбленного, Парижского денди, Морфиниста, Путешественника, Охотника на львов, Издателя журнала, Дон Жуана, Дуэлянта, Синдика, Воина, Гусара, Мэтра, Председателя, Заговорщика исполнялись как вопрошание к судьбе и к себе. Иногда с иронической улыбкой, иногда с гримасой отчаяния. Всегда – как вызов. В этом необычном диалоге с миром рождалось победное знание Поэта.
- Как в этом мире дышится легко!
- Скажите мне, кто жизнью недоволен,
- Скажите, кто вздыхает глубоко,
- Я каждого счастливым сделать волен.
- ………………………………
- Пусть он придет! я должен рассказать,
- Я должен рассказать опять и снова,
- Как сладко жить, как сладко побеждать
- Моря и девушек, врагов и слово.
Жизнелюб, Гумилев неоднократно писал о своей смерти. С ранних лет. Думал о ней постоянно. В самом этом факте нет ничего исключительного. Каждый человек, достигая определенного возраста, задумывается об этой великой загадке Творца. И каждый находит свой ответ. Для людей нового времени смерть всегда трагична. Разум просвещенного человека не может смириться с гибелью прекрасного тела, острого ума, яркого таланта. Он озадачен бессмысленностью своего труда, опыта, подвига. И в отчаянной тщете длит свое земное существование, выпытывая у жизни «эликсир молодости». Но Гумилев «пришел из другой страны». Да, он «вежлив с жизнью современною», но не более. Он ей – «не пара». Для него
- Победа, слава, подвиг – бледные
- Слова, затерянные ныне,
- Гремят в душе, как громы медные,
- Как голос Господа в пустыне.
И хотя мир Гумилева не лишен изящества, любви, милосердия, его взгляд на жизнь отличается суровой и веселой мужественностью. Да, именно так: взгляд Гумилева – мужественный, честный и радостный одновременно. Мужественный – в его спокойном, строгом и смиренном отношении к жизни. В понимании того, что земля дана человеку во искупление грехов, что это не рай, и действительность сурова. В восприятии земного существования человека как переходного этапа к жизни вечной, как бессмертного огня, пламя которого возжено искрой Божией и не может потухнуть. И потому он так спокоен и мужествен, когда говорит о собственной смерти.
- Я, носитель мысли великой,
- Не могу, не могу умереть.
За порогом смерти – новая жизнь. Гумилев верил в это свято. Верил и знал,
- Что в единственный, строгий час,
- В час, когда, словно облак красный,
- Милый день уплывет из глаз, –
- Свод небесный будет раздвинут
- Пред душою, и душу ту
- Белоснежные кони ринут
- В ослепительную высоту.
В этом прозрении и предугадывании нет трагизма. Есть радость – радость быть Божиим творением и участвовать в самом великом процессе творчества, имя которому – Жизнь.
У зрелого Гумилева есть стихотворение «Рабочий», написанное в годы Первой мировой войны. После расстрела поэта его можно прочитать как некое пророчество.
- Пуля, им отлитая, отыщет
- Грудь мою, она пришла за мной.
- Упаду, смертельно затоскую,
- Прошлое увижу наяву,
- Кровь ключом захлещет на сухую,
- Пыльную и мятую траву.
И хотя такое ясновидение поражает, все же тема стихотворения иная. В нем нет отчаяния. Эмоционально оно очень сдержанно, здесь чувствуются даже какая-то напряженная обстоятельность и деловитость.
- И Господь воздаст мне полной мерой
- За недолгий мой и горький век.
- Это сделал в блузе светло-серой
- Невысокий старый человек.
Нет, это не видение, не предсказание Кассандры. Это дума, только с особенной размеренностью мысли, ее здравостью и ясностью. В стихотворении отсутствует какой бы то ни было конфликт: и социальный, и метафизический. Выдержанное в скупой, реалистической манере, оно говорит о смирении перед Божественным Промыслом, о жизни как работе, заданной Творцом. У каждого – своя задача и свое поле деятельности: кто-то льет пули, кто-то – подставляет под них грудь. Кто-то слагает стихи. В этом – непостижимая красота и правда Творения.
Удивительно, как сквозь детскую маску Человека-Льва проступает у зрелого Гумилева лицо подлинного имени – Смирения.
Жизненный путь поэта оборвался на дантовской середине. Он шел в гору. Каждая новая книга стихов свидетельствовала о непрерывном духовном росте. «Он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия – самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий»[2]. В этом смысле Гумилев был человеком своей эпохи – самой лирической во всю историю России.
Он любил звучные, «занятные» слова: конквистадор… акмеизм… Мадагаскар… В его поэзии, на первый взгляд, так мало русского, народного, а все написанное в «народном стиле» выглядит экзотической стилизацией, порой вызывавшей раздражение. Современник Блока и Есенина, он кажется едва ли не «переводным» поэтом, «изысканным жирафом», каким-то чудом забредшим в «страну березового ситца». Но вот что замечательно – в этом свойстве гумилевской поэзии как раз очень много от национального характера. Русский человек любознателен. Ему забавна ученость. Он охотно познает мир, тешится басурманскими затеями. По своей природе русский человек – романтик, мечтатель, путешественник, открыватель новых земель, завоеватель. Только русский человек покорил себе одну шестую часть суши, первым шагнул в космос.
Подвиг и Мечта – главные его черты.
Он – воин и поэт.
Гумилев воплотил в своей личности два этих коренных качества русского национального характера и с полным основанием имел право сказать:
- Золотое сердце России
- Мерно бьется в груди моей.
Гумилев – наряду с Блоком, Мандельштамом и Цветаевой – одна из ключевых фигур русской поэзии XX века. Мужественность его взгляда на жизнь и животворная вера в бессмертие человеческой души были – вопреки всем обстоятельствам – востребованы в суровом и жестоком столетии. Мужество и вера Гумилева необходимы и сегодня, на заре нового века, который вряд ли будет легче и благополучнее предыдущего.
Павел Фокин
Личность
Облик
Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977), поэт, участник второго «Цеха поэтов»:
Семиклассник Коля Гумилев являл собой довольно заметную фигуру, о нем ходило немало забавных рассказов. Высокого роста, довольно нескладный юноша. <…> Одевался он несколько франтовато (в узаконенных пределах гимназической формы, разумеется), носил фуражку с преувеличенно широкими полями и изящно уменьшенным серебряным значком, брюки со тщательно отутюженной складкой и какие-то особые остроносые ботинки [20; 405].
Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; 1888–1964), подруга детства Анны Ахматовой:
Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, – я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить [22; 240].
Сергей Константинович Маковский (1877–1962), художественный критик, поэт, мемуарист, организатор выставок, основатель и редактор журнала «Аполлон»:
Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу) [9; 328].
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945), писатель, поэт, драматург, секундант М. А. Волошина в дуэли с Н. С. Гумилевым:
Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 1908 года (в Париже. – Сост.). <…> Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой [9; 321].
Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская (1877–1952), живописец, портретист, профессор Академии художеств. Жена художника Д. Н. Кардовского. В записи Л. В. Горнунга:
Мысль написать портрет Николая Степановича пришла мне в голову еще весной 1908 года. Но только в ноябре я предложила ему позировать. Он охотно согласился. Его внешность была незаурядная – какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие серые слегка косившие глаза, красиво очерченный рот. В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло. <…> Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины [10; 192].
Анна Андреевна Гумилева (урожд. Фрейган; 1887–1956?), невестка Гумилева, жена старшего брата Гумилева – Дмитрия:
Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. <…> Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно [9; 413].
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958), поэт, прозаик, мемуарист; участник второго «Цеха поэтов», товарищ Гумилева, муж Ирины Одоевцевой:
Гумилев шел не сгибаясь, важно и медленно – чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза… Одет он был тоже странно: черный долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук. <…>
Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив и экстравагантной (потом он ее бросил) манерой одеваться – некрасивость свою еще подчеркивал. Но руки у него были прекрасные и улыбка, редкая по очарованию, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности [9; 463].
Надежда Савельевна Войтинская (в замужестве Левидова; 1886–1965), писательница, художница, выполнила для журнала «Аполлон» серию графических портретов современных деятелей культуры, в том числе портрет Н. С. Гумилева:
Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно пальцами двигал, у него были длинные выразительные руки [16; 102].
В. А. Карамзин, штаб-ротмистр, сослуживец Н. С. Гумилева:
(1916). Командир полка был занят, и мне пришлось ждать, пока он освободится. Я присел на балконе и стал наблюдать за прохаживавшимся по балкону Гумилевым. Должен сказать, что уродлив он был очень. Лицо как бы отекшее, с сливообразным носом и довольно резкими морщинами под глазами. Фигура тоже очень невыигрышная: свислые плечи, очень низкая талия, малый рост и особенно короткие ноги. При этом вся фигура его выражала чувство собственного достоинства. Он ходил маленькими, но редкими шагами, плавно, как верблюд, покачивая на ходу головой… [11; 538–539]
Всеволод Александрович Рождественский:
Пока он читал, я невольно приглядывался к его внешности. Он был на этот раз (осенью 1916 г. – Сост.) в штатском, в легком просторном костюме – помнится, в сером, с синим галстуком. Лицо удлиненное, глаза несколько зеленоватого оттенка – и в них нет-нет вспыхивает что-то чуть-чуть насмешливое, ироническое. Острижен наголо. С первого взгляда кажется немного долговязым, нескладным, но вместе с тем все его движения свидетельствуют о ловкости и силе. Очень выразительные, длинные крепкие пальцы. Рот вычерчен четко; в нем настойчивость, воля. Голова вообще несколько черепоподобная. И есть что-то несовременное в ее очертаниях, напоминающих скульптурные портреты средневековья. Вообще Гумилев некрасив. Впоследствии я как-то слышал от него такое ироническое замечание: «Вероятно, я похож на верблюда – царя пустыни». И в этом несомненно была крупица правды [20; 413].
Ирина Владимировна Одоевцева (наст. имя и фам. Ираида (Рада) Густавовна Гейнике; 1895, по другим сведениям 1901–1990), поэтесса, мемуаристка. Ученица Н. С. Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде, жена Г. В. Иванова:
Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.
Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:
- Я злюсь как идол металлический
- Среди фарфоровых игрушек. <…>
Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю, не отрываясь, смотреть на него.
И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.
Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:
- И загадочных, темных ликов
- На меня поглядели очи…
<…> И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо – плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд [23; 17–18].
Леонид Ильич Борисов (1897–1972), прозаик, мемуарист:
Николай Степанович Гумилев не только мне одному, но и всем, кто видел его однажды, казался человеком пожилым, значительно старше своих лет: прямой, впалощекий, высоколобый, всегда крепко сжимавший губы и неулыбчиво смотрящий на собеседника своего, – мне он показался учителем латыни или греческого и, несомненно, не моложе сорока трех – сорока пяти лет.
В девятнадцатом году ему было только тридцать три года [12; 166].
Вера Иосифовна Лурье (1901–199?), поэтесса, ученица Н. С. Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде:
Высокий, худой, прямой, точно из дерева, в черном потертом пиджаке с заплатой на спине, всегда в белых носках, спускающихся часто на сапоги – грибочками; или в дохе темно-коричневой, привезенной из Африки, с такой же меховой шапкой, в которой я его очень любила, т<ак> к<ак> она укорачивала его длинный череп и оттеняла его тонкое, бледное лицо.
Стриженая, конусообразная голова, раскосые серые глаза, щурятся они точно с усмешкой, глядят на всех свысока, в мелких зубах непременно дымится папироса, в тонких белых руках с длинными пальцами – маленький томик! [17; 7]
Дориана Филипповна Слепян (1902–1972), актриса, драматург:
И вообще своеобразие его облика скорее удивляло, чем привлекало: очень высокий, движения как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами, какого-то неопределенного цвета и выражения… но руки… У него были необыкновенно красивые, выразительные руки [12; 195].
Лев Владимирович Горнунг (1902–1993), поэт, переводчик, исследователь жизни Н. С. Гумилева:
В начале 1921 года <…> Гумилев уже окончательно расстался со своей военной формой, которую еще носил после войны, и одевался в простой костюм, косоворотку и кепку, заломленную назад [10; 184].
Эрих Федорович Голлербах (1895–1942), поэт, философ, искусствовед, художник, библиофил, мемуарист:
Голова у него была оригинальной формы, с высоким, куполообразным лбом и плоским затылком, – длинная, яйцевидная голова, вся вытянутая вверх, на длинной тонкой шее. Волосы он стриг коротко, по-военному. Лицо у него было не русского типа, что-то германское или английское сквозило в этом белесоватом лице, с большим красноватым носом, розовыми веками и бескровными губами, приоткрывавшими в невеселой улыбке крупные, желтоватые, немножко неправильные зубы. Пожалуй, его можно было принять за прусского лейтенанта, переодетого в штатское. Одевался он опрятно, но без подчеркнутой элегантности, носил почти всегда один и тот же черный, уже слегка потертый пиджачный костюм с черным галстуком. Зимой он имел несколько экзотический вид, т<ак> к<ак> носил вывезенную с севера оленью доху, подол которой был разукрашен орнаментом. <…>
Чтобы закончить возможно более точный «портрет» Н. С., нужно еще вспомнить о его руках: они были красивой формы, с узкой кистью и длинными сухими пальцами – руки, которые принято называть «аристократическими» и которые можно увидеть на старинных портретах.
В размеренной, крупной походке Гумилева, во всех его движениях была какая-то истовость, неторопливость. Идя по улице, он останавливался у церквей (если шел один) и неспешно осенял себя крестным знамением. Столь же методически обедал он в Доме Литераторов, вынимал из кармана пакетик с маслом и клал кусочек масла в скудный «литераторский» суп, чтобы придать ему хоть какую-нибудь питательность, столь же неторопливо курил, держа папиросу в вытянутых пальцах [30; Ф. 453. Оп. 1. Д. 22. Л. 6–8].
Георгий Петрович Блок (1888–1962), двоюродный брат А. А. Блока. Из письма Б. А. Садовскому. Петербург, 12 июля 1921 г.:
Физиономия отвратная, какая-то непристойно-голая, глаз косой и глупый, рот – щель помойная и череп, череп! А говорят – женщины его любят [28; 5].
Творчество
Анна Андреевна Ахматова (урожд. Горенко; 1889–1966), поэт, участница «Цеха поэтов», первая жена Гумилева, мать его сына Льва:
Н. С. говорил, что согласился бы скорее просить милостыню в стране, где нищим не подают, чем перестать писать стихи [4; 128].
Сергей Константинович Маковский:
Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом [9; 330].
Николай Степанович Гумилев. Из письма В. Я. Брюсову. Париж, 12 (25) марта 1907 г.:
Я не сравниваю моих вещей с чужими (может быть, во вред мне), я просто мечтаю и хочу уметь писать стихи, каждая строчка которых заставляет бледнеть щеки и гореть глаза [6, 53].
Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939), поэт, переводчик, критик, мемуарист, сотрудник журнала «Весы»:
Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным [9; 539].
Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), писатель, мемуарист:
У Николая Степановича была прекрасная черта, – он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия – самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий. Слово «поэт» он произносил по-французски «poete», а не «паэт», как произносили мы, обыкновенные русские люди. В этом отношении дальше его пошел один только Мандельштам, который произносил уже просто: пуэт. Неоднократно слышал я от Гумилева утверждение, что поэт выше всех остальных людей, а акмеист выше всех прочих поэтов [29; 30].
Надежда Савельевна Войтинская:
Он говорил, что его всегда должна вдохновлять какая-либо вещь, известным образом обставленная комната и т. п. В этом смысле он был фетишистом. В Царском Селе, под фирулой строгого отца и брата офицера, он вдохновляться не мог. Ему не хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивлялась: «Как?» Он: «Вы увидите „entourage“». Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей… Он мне придумал какое-то странное одеянье, и я ему позировала, а он писал стихотворение «Сегодня ты придешь ко мне…» [16; 100–101].
Анна Андреевна Гумилева:
Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам, и часто мы с мужем – комната была рядом с его кабинетом (в доме Гумилевых в Царском Селе. – Сост.) – слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир» [9; 421].
Николай Степанович Гумилев. Из статьи «Жизнь стиха». 1910 г.:
Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчавшего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью.
Наконец, в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если, кроткий как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое и, мудрый как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.
Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе, и даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова Илиада…
Но есть стихотворения невыношенные, в которых вокруг первоначального впечатления не успели наслоиться другие, есть и такие, в которых, наоборот, подробности затемняют основную тему, они – калеки в мире образов, и совершенство отдельных их частей не радует, а скорее печалит, как прекрасные глаза горбунов. Мы многим обязаны горбунам, они рассказывают нам удивительные вещи, но иногда с такой тоской мечтаешь о стройных юношах Спарты, что не жалеешь их слабых братьев и сестер, осужденных суровым законом. Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий, но безумно красивый бог.
Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять?
Я ответил бы коротко: всем. <…>
Стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию [11; 160–163].
Владимир Казимирович Шилейко (1891–1930), поэт, филолог-востоковед, второй муж А. А. Ахматовой. В записи П. Н. Лукницкого:
Он же говорил, что в стихи нельзя играть, если в стихе сомнение – обязательно плохие стихи будут. И в том же 1912 году он говорил, что стихотворение не может быть написано с «нет». Отрицание не есть поэтическая форма, только утверждение… [16; 138–139]
Николай Максимович Минский (наст. фам. Виленкин; 1856–1937), поэт, драматург, философ, публицист, переводчик:
Основной чертой творчества Гумилева всегда была правдивость. В 1914 году, когда я с ним познакомился в Петербурге, он, объясняя мне мотивы акмеизма, между прочим сказал: «Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила». В этих словах разгадка всего творчества Гумилева. Он выдавал только векселя, по которым сам мог расплатиться. Он подносил читателю только конкретное, подлинное, лично пережитое. Отсюда жизненность его вдохновений, отсутствие в них всякой книжности. Отсюда же активное отношение его к жизни [21; 169].
Николай Степанович Гумилев. Из письма В. Я. Брюсову. Царское Село, 9 (22) июля 1910 г.:
Начиная с «Пути конквистадоров» и кончая последними стихами, еще не напечатанными, я стараюсь расширять мир моих образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно, боясь расплескать тот запас гармоний и эстетической уверенности, который так доступен, когда имеешь дело с мирами воображаемыми, и которому так мало (по-видимому) места в действительности. Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы, чтобы оторвать все это от обыденности для искусства. Тут я был бы только подражателем, неудачным вдобавок; а хочется верить, что здесь я могу сделать что-нибудь свое [6; 169].
Николай Степанович Гумилев. В записи по памяти И. В. Одоевцевой:
Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.
Во сне – не странно ли – я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.
И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать [23; 58].
Виктор Яковлевич Ирецкий (наст. фам. Гликман; 1882–1936), писатель, журналист, публицист. Один из основателей Дома литераторов в Петрограде в 1918 г.:
Говоря о том, что должен знать поэт, он на первом месте ставит историю.
– Поэт должен знать и любить историю. Герои истории – это те образы, которые всегда должны пламенеть в душе каждого поэта. Когда я произношу два имени Ромула и Рема – передо мной встает вся культура Древнего Рима. Для меня это нечто вроде камертона, наводящего на определенную настроенность. <…>
Поэт должен быть знаком, как я уже сказал, с историей, а затем с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией, с наукой о драгоценных камнях. Это – незаменимые источники образов, в совокупности своей являющиеся частью общей науки об эйдологии – науки об образах [13; 207–208].
Ирина Владимировна Одоевцева:
Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях – истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.
Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.
– Большинство людей, – говорил он, – полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными штампованными готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром [23; 74].
Николай Степанович Гумилев. В записи по памяти И. В. Одоевцевой:
У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов [23; 80].
Всеволод Александрович Рождественский:
Поэзия, конечно, являлась основной его темой, и, как мне кажется, он приписывал ей поистине всеобъемлющие свойства. Мечтал написать философский трактат «Поэзия как наука» – в противовес бальмонтовской книге «Поэзия как волшебство», называя ее «бредом шамана». Был совершенно убежден в том, что поэтическое творчество подвластно научному анализу, и считал, что любое стихотворение «химически разложимо на составные элементы» (что впоследствии и пытался доказать в ряде своих теоретических статей) [20; 415].
Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933), театральный, художественный, литературный критик, журналист и переводчик, сотрудник журнала «Аполлон»:
Мы знаем поэтов-мистиков, озаряемых молниями интуиции, послушных голосам в ночи. Таков был Блок. И как представить Блока преподавателем? Гумилев был по природе церковником, ортодоксом поэзии, как был он и христианином православным. Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедию метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом было число 12–12 апостолов, 12 паладинов и т. д. [9; 555].
Ирина Владимировна Одоевцева:
Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было [23; 140].
Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992), поэтесса, мемуаристка, ученица Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде, участница кружка «Звучащая раковина»:
Он говорил: «Часто бывает – начинаешь стихотворение какой-то строфой, отталкиваешься от нее, как от трамплина. Дальше пишешь стихи. Кончил. И вдруг, оказывается, та, первая, что к тебе пришла, строфа здесь не нужна. И отсекаешь ее. Очень часто первая строфа погибает. А бывает иначе: та первая становится последней, той, ради которой и написано стихотворение» [19; 25].
Лев Владимирович Горнунг. Со слов В. А. Павлова:
Говорил, что инженеры существуют для того, чтобы могли существовать поэты [10; 185].
Надежда Савельевна Войтинская:
Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все – только для поэзии [16; 101].
Особенности речи и декламации
Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. В записи Л. В. Горнунга:
Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче [10, 193].
Всеволод Александрович Рождественский:
Говорил он, слегка растягивая слова, несколько пришепетывая, дикцию его нельзя было назвать ясной, но поражали собранность и целеустремленность его стихотворной речи. В ней почти отсутствовала столь привычная тогда для поэтов напевность [20; 413].
Арсений Альвинг (наст. имя и фам. Арсений Алексеевич Смирнов; 1885–1942), поэт, прозаик, переводчик. В записи Л. В. Горнунга:
Любил стих<отворении>е жены из «Вечера» с эпигр<афом> – мне всегда откр. <нерзб.> (уголок загнут) и читал его. Но читал он очень плохо. Многие слова проглатывал, немного картавил, впечатление получалось, как будто у него во рту был камешек. Ахматова в шутку даже говорила Арсению, что предлагала мужу класть настоящий камешек, на что он отвечал, картавя, «зачем мне камешек, раз у меня есть уже он». Кроме того, голос был то низкий, то высокий. Некрасив был очень [30; Ф. 397. Оп. 2. Д. 68. Л. 2–3].
Эрих Федорович Голлербах:
В Доме отдыха (в 1921 г. – Сост.) Гумилев выступал со стихами раза два. Несколько раз выступал он в те годы и в Доме Литераторов, где устраивались «живые альманахи». Нельзя сказать, чтобы он был хорошим чтецом. Дикция у него была своеобразная, злые языки говорили, что он не выговаривает десяти букв из алфавита. Он как-то особенно произносил букву л, а буква р иногда тоже как бы соскальзывала у него в нечто похожее на л. Особенно отчетливо звучали в его чтении звуки о и а. Читал он громко, неторопливо и важно, глядя не на публику, а куда-то вдаль неподвижным взглядом холодных, раскосых, редко моргающих глаз. Держался он на эстраде как всегда, очень прямо и тут как-то особенно бросались в глаза его военная выправка и очень прямой постав головы [30; Ф. 453. Оп. 1. Д. 22. Л. 5–6].
Леонид Ильич Борисов:
[Гумилев] читал высокоподнятым голосом, отчеканивая каждое слово, иногда жестикуляцией помогая ритму своих великолепных стихов [12; 167].
Георгий Петрович Блок:
А как он читает стихи – ужас один!
«Я бросаю в Каспии-и-и-и-йское море…» – с какой-то заведомо-фальшивой музыкой [28; 5].
Сергей Игнатьевич Бернштейн (1892–1970), лингвист, специалист по фонетике, в 1920-е годы организовал запись голосов современных поэтов. В записи студента кафедры изучения живой речи Института истории искусств (КИЖР ИИИ) В. Горского. 25 мая 1923 г.:
В декламации (Гумилева, стихотворение «Канцона. 1». – Сост.) улавливаются мелодические линии (напевность чтения): Носятся жалобы влюбленных – «а» и «е» подверглись растяжению, причем оба они одинаково ударные динамически; стало быть имеем не одну, как в проз[аической] речи, а 2 акцентных вершины <…>. В отношении распределения ударений – чтение Гумилева обладает большим числом их, чем прозаическая речь; в чтении видна тенденция ударять каждое слово, – я объясняю это обстоятельство присутствием в творчестве поэта строгого выбора слов, т<ак> что всякое (данное) слово имеет свое назначение точно, и поскольку это так – оно подчеркиваемо в чтении. Общий акцентный вес каждого слова увеличивается еще и мелодической вибрацией голоса на произнесении гласных звуков. <…>
Сама мелодическая линия Гумилева похожа на мелодическую линию А. Белого <…>, но число слов не всегда соответствует числу ударений (на 20 стихов – 3 отклонения). Членит Гумилев стихотворную декламацию по границе стиха – последние отчетливо слышутся, т<ак> что engembement[3] не является фонетической связкой между предыдущими и последующими стихом в его декламации, хотя engembement оттенен в стихе. <…> Кстати, вспомним и тенденцию Гумилева делать ударным каждое слово стиха. Вообще такая тенденция должна бы повести к нарушению мелодического сцепления слов, но – в чтении Гумилева – мы такого факта не встречаем, т<ак> к<ак> почти совершенное отсутствие пауз – при наличии восходяще-нисходящей мелодической линии – сохраняет единство стиха. Ударенные гласные при растяжении несут в себе также восходяще-нисходящую мелодическую линию. <…>
Вибрирование голоса в произнесении – своего рода художественный прием – он содействует сообщению всем гласным <…> одинаковой ударности. Итак, стих Гумилева (в исполнении автора) – непрерывный отрезок речи с уравненными гласными; в результате имеем: слово выделено, но единство стиха не нарушено. Данный эффект достигается преимущественно паузальными мелодическими средствами [30; Ф. 343. Оп. 3. Д. 17. Л. 1–2].
Характер
Ирина Владимировна Одоевцева:
Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином [23; 60].
Лев Владимирович Горнунг:
По словам Ольги Людвиговны (Делла-Вос-Кардовской. – Сост.), в его характере она находила проявления очень сильной воли, большой настойчивости, ясности в суждениях и какой-то своеобразной интуиции. Наряду с некоторой сухостью, расчетливостью и, вероятно, эгоизмом он обнаруживал удивительную сердечность, участливость и доброту.
Она вспомнила такой случай. Однажды жившая у них девушка-прислуга, неосторожно обращаясь со спиртовкой, обожгла лицо. Ольга Людвиговна была в это время дома одна и, растерявшись, не знала, как оказать ей помощь. В этот момент раздался звонок, и когда открылась дверь, перед ней стояла высокая фигура в цилиндре – Гумилев. Узнав, в чем дело, он без всякой с ее стороны просьбы моментально бросился за врачом и быстро его привез. Потом он побежал за лекарством. Это был не холодный Гумилев в цилиндре, а добрый и участливый человек [10; 194].
Сергей Константинович Маковский:
При этом – неистовое самолюбие! [9; 330]
Ирина Владимировна Одоевцева:
Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно любуется своим отражением в зеркале, и я все же всегда изумляюсь этому.
Должно быть, его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновенье увидеть мир его глазами [23; 105].
Лев Владимирович Горнунг. Со слов В. А. Павлова:
Гумилев был очень высокого мнения о себе, был тщеславным, иногда надменным, любил шутить над другими [10; 185].
Василий Иванович Немирович-Данченко (1845–1936), писатель, поэт, журналист:
Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном значении этого опошленного теперь слова), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя [9; 574].
Эрих Федорович Голлербах:
Неудачи и насмешки не могли смутить Н. С. – в нем самом было много иронии и к себе, и к другим, и еще больше жадного интереса к жизни [21; 16].
Надежда Савельевна Войтинская:
Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, «а-ля Пушкин», пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед… «Вот, рыцарь, достаньте эту штуку». Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках.
<…> Я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно [16; 102].
Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973), писатель, биограф Н. С. Гумилева. Из дневника 1925 г.:
Я: «Николай Степанович помнил обиды?»
А<нна> А<хматова>: «Помнил…» [16; 229]
Анна Андреевна Гумилева:
Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила передать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать [9; 416].
Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978), поэтесса, мемуаристка, адресат лирики Гумилева:
Было в нем забиячество, задирчивость, самолюбивая горделивость, вкус к ловкачеству – то малоинтересно. Может быть, преизбыток этих свойств относится к более раннему возрасту. <…>
Всегда – тренировка себя на границах последних крайностей, заглядыванье в лицо смерти, как бы для испытанья ее власти. Неразделимо смешанные – отчаянье и отчаянность [18; 104].
Эрих Федорович Голлербах:
Повторяю, он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью [21; 17].
Надежда Савельевна Войтинская:
В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: «Вы можете потребовать, чтоб я покончил самоубийством» – была мелочь…
Он должен был не забыть сделать что-нибудь. Я сказала: «А если забудете?» – «Вы можете потребовать, чтобы я покончил с собой» [16; 102].
Вера Иосифовна Лурье:
Несколько раз в своей жизни покушался Ник<олай> Степ<анович> на самоубийство, часто из-за любви (он считал без этого и любовь ненастоящей), но всегда неудачно. Раз купил он себе целый фотографический прибор для получения цианистого калия, но последний оказался фальсификацией. Другой раз, находясь где-то в гостинице, пустил себе кровь, но руку нечаянно опустил в холодную воду; от потери крови он лишился сознания, но т<ак> к<ак> от холодной воды кровь остановилась, то к утру он пришел в себя; за ненадлежащее поведение его выгнали из гостиницы; тогда, послав на последние деньги телеграмму в Париж, он должен был в глухих кустарниках провести несколько суток, питаясь одними ягодами [17; 8].
Ольга Алексеевна Мочалова:
Грань его прекрасной мужественности – белокаменная скрытность. О многом он не говорил никогда никому, при всей щедрости его общительности с людьми, душевные тайники оставались непроницаемыми [18; 105].
Павел Николаевич Лукницкий. Из дневника:
Однажды Николай Степанович вместе с ней (Ахматовой. – Сост.) был в аптеке и получал для себя лекарство. Рецепт был написан на другое имя. На вопрос АА Николай Степанович ответил: «Болеть – это такое безобразие, что даже фамилия не должна в нем участвовать, что он не хочет порочить фамилии, подписывая ее на рецептах» [16, 116–117].
Ирина Владимировна Одоевцева:
Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.
– Я никогда не устаю, – уверял он. – Никогда.
Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении.
Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:
– Что с вами? Вам нехорошо?
Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.
Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием.
– Сократ говорил: «Познай самого себя». А я говорю: «Победи самого себя». Это главное и самое трудное, – часто повторял он. – Я, как Уайльд, – побеждаю все, кроме соблазна [23, 79].
Ольга Алексеевна Мочалова:
К высокой мужественности относятся его твердые «да» и «нет», – увы, столь редкие в душах неопределенных и расплывчатых. Он любил говорить и писать: «Я знаю, я твердо знаю», – что свидетельствует о большой внутренней осознанности [18; 105].
Виктор Яковлевич Ирецкий: