Моя АНТИистория русской литературы Климова Маруся
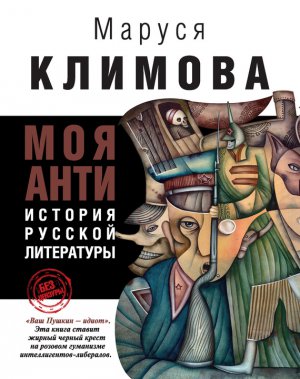
А к каким результатам приведет нынешнее тотальное увлечение пенсионерок романом Достоевского «Идиот»? Я уже сказала: хотя такое и трудно себе представить, но они рискуют впасть в еще больший идиотизм! Со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Ну вот, только я написала про «Идиота», как почти сразу же услышала по ТВ, что князь Мышкин был воспринят в самых отдаленных русских селеньях на «ура», все его ужасно полюбили, а исполнитель главной роли теперь самый что ни на есть настоящий «народный артист России»… Ага, так я и думала! И между прочим, это полностью совпадает с данными последней переписи населения, согласно которой большинство жителей России составляют пенсионеры и люди старше скольких-то там лет – в общем, самая благоприятная среда для восприятия подобных сериалов… А мне вот больше понравился Ганя! Еще бы! Тут и говорить не о чем. Князя Мышкина с ним и рядом не лежало!
Что ни говори, но приятно осознавать собственное величие и превосходство над окружающими людьми! А если тебя сплошь и рядом окружают какие-то замшелые и умственно отсталые дегенераты, то и напрягаться особенно не надо. Селину вон приходилось лезть вон из кожи и крыть последними словами Мальро, Мориака, Клоделя, Морана, Сартра за то, что их, а не его, награждали Нобелевскими премиями, постоянно показывали по телевизору, принимали в Академии… А ведь тогда еще где-то неподалеку отсвечивал и Жене… А мне?! Нет, у меня даже язык не поворачивается произнести вслух имена тех, с кем мне реально сегодня приходится соперничать – когда подумаешь об этом, то даже как-то немного становится не по себе. Короче говоря, лучше уж об этом совсем не думать. А то ведь так, чего доброго, можно и усомниться в своих способностях… Лучше просто жить и наслаждаться!
Свободно и легко плыть по бескрайнему океану человеческой тупости, в котором тоже конечно же скрыты кое-какие подводные рифы и камни, – не стоит об этом забывать. И самое главное, как я уже сказала, никогда не надо недооценивать масштабы человеческой глупости! Вот это очень опасно! А об остальном можно даже особо не задумываться и не волноваться… Человеческая тупость подобна бескрайнему океану! Замечательный образ, по-моему, и, самое главное, очень точный и актуальный. Ну а гений – это отважный мореплаватель, держащий курс… чуть было не сказала “по звездам”… Нет! Гений – это отважный мореплаватель, блуждающий по этому океану в густом беспроглядном тумане или же во мраке глухой беззвездной ночи, полагаясь исключительно на везение – больше, по правде говоря, полагаться и не на что. Потому что, если сегодня ориентироваться на «звезды» вроде Достоевского, то точно сразу же сядешь на мель, далеко не уплывешь. «Звездами» вроде Достоевского можно позволить себе сегодня любоваться только где-нибудь на берегу, в отдаленном от моря селенье, стоя в очереди за автографом к какому-нибудь «истинно народному артисту России», чтобы скоротать время.
Кстати, этот образ бескрайней и по-своему даже в чем-то величественной человеческой глупости родился у меня совсем недавно, а точнее, во время моего пребывания на французском атлантическом побережье. И вот там, стоя на прибрежной скале и глядя в бескрайнюю туманную даль, скользя взглядом по поверхности этой ничем, никакими берегами не ограниченной водной поверхности, я впервые отчетливо почувствовала, насколько все-таки велик человек по сравнению с этой огромной мутной лужей, населенной, главным образом, всякими там ракушками, мулями, устрицами, кальмарами, креветками, медузами, омарами и прочей склизкой и вонючей нечистью. Можно в любой момент, например, плюнуть со скалы в этот огромный и «великий» океан, а он ответит тебе сонным урчанием своих безмозглых волн, а может, и вовсе не заметит. Жалкое зрелище! Во всем мире, в сущности, нет ничего более бессмысленного, скучного и тупого, чем эти безграничные водные пространства, на которые зачем-то со всех концов света приезжают пялиться впавшие в маразм престарелые туристы.
Хотя, на самом деле, я этот сериал про «Идиота» не очень-то и смотрю, так что, может быть, и зря так о нем пренебрежительно отзываюсь. Но, как я уже сказала, экранизация наверняка сильно уступает оригиналу, и в отношении идиотизма тоже. Наверняка! Просто у меня компьютер, за которым я работаю, слегка отгорожен от телевизора книжным шкафом. И вот оттуда, из-за этого шкафа, до меня и доносятся периодически всякие реплики из разных фильмов, в том числе и из этого. А если я хочу что-нибудь повнимательней рассмотреть, то мне приходится, сидя на стуле, слегка отклоняться в сторону и выглядывать из-за шкафа.
И вот как раз в тот самый момент, когда я пишу эти строки, князь Мышкин произносит пламенную речь. Надо же, а я уже эту сцену в книге успела совсем позабыть… Нет, подумать только! Целую речугу толкнул о России, патриотизме и даже о коренном отличии католицизма от православия… Ничего себе! Во дает! Казалось бы, человек совсем плох и дам высшего света от проституток не отличает, не понимает, как стрелять из пистолета и драться на дуэли, а тут вдруг такие тонкости! Как говорится, дурак-дураком, а соображает! Ага… Сейчас перейдет к знаменитому filioque, которое я, вовсе не идиотка, и то все время путаю: «и от Сына» или же только «от Отца»… Когда я работала экскурсоводом в Исаакиевском соборе, то вроде бы знала, в чем заключается это главное отличие православия от католицизма, а теперь опять забыла. Ну наконец-то мне сейчас объяснят… Нет, черт возьми, не успел! Упал и забился в припадке… Да уж, поневоле такого человека зауважают во всех отдаленных уголках России. Он ведь оказался настоящим специалистом по богословию. Просто доктор наук какой-то, а не идиот!
Ну, да бог с ним, с этим фильмом! Сколько можно, в конце концов!.. Все это так, отдельные мелочи и недоработки… В любом случае, лучше чем у Толстого, который вообще безо всякого предупреждения втискивал целые огромные куски своей философии в романы, можно сказать, обрушивал их на голову читателя, не вкладывая ее в уста никаких идиотов. Поэтому, думаю, читатели в большинстве своем гораздо больше и уважают Толстого, чем Достоевского, считают его гораздо умнее. Еще бы! Ведь получается, что это сам Толстой такой умный, а тут какой-то идиот расфилософствовался! Глядя на него, многие вообще забывают, что эту книгу написал Достоевский. Смешно сказать, но на таких вот мелочах и держится весь этот мир, точнее, весь этот океан безграничной человеческой тупости. И я вовсе не шучу! Потому что когда этот «истинно народный артист», исполнитель роли князя Мышкина, теперь приедет в какое-нибудь отдаленное российское селение, то девяносто процентов обитателей этого селения, наверняка, будут совершенно искренне убеждены, что это к ним явился сам князь Мышкин, собственной персоной, а вовсе не артист никакой. А если он вдруг надумает к каким-нибудь чуркам поехать или же к чукчам, за Полярный круг, что тогда? Россия ведь большая, ничуть не меньше Атлантического океана… Короче говоря, в эти вещи лучше даже и не углубляться, а то «крыша» и вправду может поехать.
Зато название своей книге Достоевский подобрал удачное. Тут уж ничего не скажешь! Это название до сих пор сверкает и переливается разными оттенками смыслов, подобно дорогому многогранному алмазу. Мне почему-то даже кажется, что это название будет жить гораздо дольше самой книги и сейчас, возможно, уже отчасти ее пережило. «Идиот» – это звучит очень актуально и современно! «Болван», например, это слишком мягко, а какой-нибудь «мудак», наоборот, слишком грубо. А «Идиот» – в самый раз, в этом отношении эстетическое чутье Достоевского не подвело. Чего никак нельзя сказать, в частности, о названии романа «Бесы», так как значение этого слова уже сегодня мало кто способен толком понять. А что будет лет так через сто?
Хотя в остальном Достоевский, в сущности, ничего нового не изобрел в своем «Идиоте», даже если взглянуть на этот роман с традиционной, литературоведческой, точки зрения. Просто позаимствовал расхожий сюжет у Сервантеса, взял образ Дон Кихота да вывернул его наизнанку, превратив неудачника и идеалиста в любимца дам, даже героя-любовника, можно сказать. Таким образом он, видимо, замыслил повернуть время вспять: от Нового времени назад к новому Средневековью. В пику Сервантесу! Чтобы по свету повсюду снова стали бродить разные бедные рыцари с лилиями, хризантемами и ромашками на щитах, поклоняясь своим избранницам и любя их исключительно издалека… Заходишь, например, куда-нибудь в кафе выпить чашечку кофе, а там уже тебя в углу поджидает какой-нибудь маньяк с деревянными щитом и мечом, да еще в пожарной каске. Все вокруг над ним хихикают, а ему все по фигу! Еще бы, ведь он же бедный рыцарь и полный идиот – с такого и спрашивать-то ничего всерьез нельзя! В каком-то смысле сейчас все так примерно и происходит. Во всяком случае, вокруг любой заштатной поп– или рок-звезды полно таких «идиотов» ошивается, у некоторых даже на груди вытатуировано имя их избранницы. Короче говоря, все как положено! Как у Достоевского! О настоящих маньяках из триллеров и говорить нечего! Те так ратуют за чистоту своих избранниц, что чуть что – сразу топором по башке или же целлофановый пакет на голову, и дело с концом! Девяносто процентов маньяков являются самыми что ни на есть упертыми идеалистами и… можно сказать, максималистами! И все поначалу тоже испытывают глубокую и искреннюю симпатию к своим будущим жертвам.
И ведь если вдуматься, то в князе Мышкине и вправду есть что-то уж чересчур бесплотное, и своих избранниц он любит тоже исключительно издалека, что называется, «платонической» любовью, старается к ним особенно не приближаться. Но это еще вовсе не значит, что он, подобно Платону, на самом деле предпочитал мальчиков. Хотя у меня и был один такой знакомый, который усвоил себе ну прямо в точности такие манеры, как у Мышкина в сериале. Просто один к одному! Так вот он определенно любил мальчиков, а баб просто ловко использовал: например, жил за их счет, и вообще, обделывал свои дела…
Между прочим, большой специалист в подобного рода вопросах, Доминик Фернандес, с которым мне довелось несколько раз в Париже встречаться, убежден в «нетрадиционной сексуальной ориентации», скажем так, и Сервантеса, и его главного героя Дон Кихота. Он даже, помнится, написал на эту тему большую статью, которая, как предполагалось, должна была предварять юбилейное издание собрания сочинений Сервантеса. Однако издательство «Грассе», в котором готовилось это издание, в последний момент отказалось от такого «юбилейного» предисловия. Мне же доводы автора этой статьи представляются вполне убедительными. Уж больно непривлекательными и даже отталкивающими выглядят в романе Сервантеса все реальные женщины, с которыми приходится сталкиваться Дон Кихоту, а образ его тайной избранницы Дульсинеи, наоборот, чересчур идеален и бесплотен.
Что касается Достоевского, то он, как я уже сказала, все перевернул и поставил с ног на голову. Женщины у него красивы и полновесны, а сам их избранник Мышкин совсем бесплотен. Конечно, и он тоже, как бы соблюдая преемственность по отношению к своему предшественнику, старается держаться от них на расстоянии. Даже и не знаю, что бы это значило? Вот так прямо с ходу и не скажешь… Лично мне кажется, что тут Достоевский просто чуточку перемудрил. Хотя, может быть, он хотел показать, что русские женщины еще глупее, чем самый последний идиот мужского пола? Но это как-то ускользает, потому что специального слова для обозначения такой меры человеческой глупости в русском языке просто не существует.
Глава 35
Вечная женственность
Ну вот, кажется, демонстрация фильма про «трагедию русской души» и закончилась. «Трагедия русской души» – так ведь вроде бы называлась статья Вячеслава Иванова?! Надо же, в конце концов, внести ясность, а то вдруг кто-нибудь что-нибудь неправильно поймет. Или же Вячеслав Иванов про что-то другое писал, не про «Идиота», а про какой-то другой роман Достоевского? А какая, в сущности, разница! Я все равно его статью не читала, но содержание примерно представляю, кое-что слышала… Про то, как у Достоевского все зашифровано. Так вот, если Вячеслав Иванов писал про «Идиота», тогда, скорее всего, Настасья Филипповна – это сама Россия, она же по совместительству – Вечная Женственность, ну а князь Мышкин – это ее Жених, и ему никакая мужественность особо не нужна, так как в уже самом слове «жених» кроется нечто женственное. Само собой! Женщина обречена на вечную женственность, а жениху все по фигу… Впрочем, раз у Вячеслава Иванова все расшифровывается, то мне это делать не обязательно. Зачем дважды повторять одно и то же?
Помню, когда-то, уже очень давно, я смотрела в «Кинематографе» на Васильевском «Замужество Марии Браун» Фассбиндера, и мне поначалу этот фильм понравился, особенно Ханна Шигула в роли Марии… И что же? Не успела я смахнуть слезу после того, как в финале главная героиня случайно чиркает спичкой в заполненной газом кухне и весь ее дом и она сама взлетают на воздух, не успела я отойти от только что пережитого потрясения, как на сцену перед потухшим экраном вскарабкался какой-то мудак с бородой и начал всем растолковывать смысл того, что только что было показано. Оказывается, Мария Браун – это вовсе не простая немецкая женщина, а сама Германия в женском обличии, ну а все мужики, с которыми она в разные периоды своей жизни жила, соответственно ее женихи, но не претенденты на руку и сердце, а Женихи – в смысле Избранники Германии. Сначала у нее, кажется, был немец, потом американец, и, насколько я помню, чуть ли даже не негр, потом опять немец, хотя точно сейчас я уже не могу сказать, но определенно не турок и не китаец… Короче говоря, таким образом Фассбиндер отобразил достаточно большой период истории военной и послевоенной Германии. Ну а взрыв в конце – это было его такое провидческое предупреждение потомкам, тонкий намек, можно сказать, на то, чем весь этот бардак может закончиться, если все вот так будет и дальше продолжаться, и его страна будет вести столь легкомысленный образ жизни.
В результате этой мудацкой лекции впечатление от фильма у меня тогда если и не было окончательно испорчено, то порядком смазано. Помню, что я почувствовала тогда приступ скуки и раздражения, в общем, у меня осталось такое ощущение, будто я только что не фильм просмотрела, а прочитала какую-то газетную статью, которую мне незаметно подсунули под нос, когда я слегка задремала и погрузилась в мир грез. И даже игра Ханны Шигулы тоже сразу очень сильно поблекла. Еще бы! Ведь она играла саму Германию, и вряд ли это ей удалось! Германию все-таки не так просто сыграть, как Марию Браун. Я даже не знаю, как бы она могла выглядеть на самом деле – Германия! Не просто же как какая-то финтифлюшка из наркоманской тусовки Фассбиндера. Пригласили бы уж тогда Нонну Мордюкову, например…
И потом, мне было очень неприятно осознавать, что я просмотрела целый фильм и на самом деле так в нем ни фига и не поняла. Раньше ведь со мной такого никогда не случалось! А этот жирный мудак с бородой, закончив свою лекцию, преспокойно спустился себе со сцены, да еще под аплодисменты придурков, собравшихся в зале. Не знаю даже, чем они были все так довольны, чему аплодировали – лично меня он ужасно раздражил. Как я уже писала, люди не выносят присутствия тех, кого считают умнее себя. И я сама, видимо, тоже не исключение.
А ведь точно такую же бодягу про Жениха и Германию, кажется, привязывают и к «Фаусту» Гете. Во всяком случае, я помню еще один фильм под названием «Мефисто», и там один из героев точно рассуждал на эту тему, глядя на сцену, на которой в картинной позе и эффектных нарядах стояли Фауст и Маргарита. Правда, у Гете уже столько всего наворочено, что там и сам черт ногу сломит, так как у него в пьесе не то чтобы какая-то там Германия, а уже сам дьявол задействован… Тем не менее эта пьеса до сих пор пользуется определенным спросом у немецкой публики, и, главным образом, думаю, потому что, несмотря на то, что Маргарита ненароком замочила собственную мамашу, в финале с небес раздаются сладкие голоса ангелов: «Спасена!» – и это означает, что, мол, все нормально, все в порядке, за дальнейшую судьбу Маргариты можно не волноваться… Данное обстоятельство, само собой, очень утешает немцев, так как Маргарита – как-никак, их родина, где они все живут, и им важно осознавать, что в конце концов все сложится очень хорошо, даже если они начнут мочить собственных родителей.
На самом деле вот таких произведений про «женихов» и их «избранниц», наверняка, в мировой литературе можно обнаружить до фига и больше. Коммунисты за семьдесят лет вряд ли смогли «настрогать» столько про классовую борьбу, хотя они и действовали очень целенаправленно и слаженно, а образы «женихов» и олицетворения всевозможных стран возникали достаточно хаотично и бессистемно, то тут, то там, порой в самых неожиданных местах и произведениях.
Вячеслав Иванов, на мой взгляд, вполне мог бы взять в качестве основы для своего труда про «трагедию русской души» вместо Достоевского какой-нибудь рассказ Чехова, например, «Душечку». По-моему, это было бы очень символично и пророчески! «Душечка» – это образ России, которая постоянно меняет своих избранников… Короче говоря, все понятно – можно не продолжать! Хотя лично мне больше нравится рассказ «Попрыгунья», но я не уверена, что там можно нащупать какие-то олицетворения… Зато в этом рассказе Чехову довольно удачно удалось схватить образ ученого, который с бараньим упорством служит медицине и кропает диссертации, а его жена пытается вопреки своему туповатому супругу жить в свое удовольствие и веселиться. Однако когда ее муж случайно заражается дифтерией и умирает, то у его смертного одра появляется еще один тупоголовый коллега мужа, но еще более упертый, чем тот, и начинает ей втюхивать такую запредельную туфту про недооцененные окружающими способности ее супруга, что, кажется, все это количество сконцентрированного вокруг идиотизма, да еще при столь неприятных обстоятельствах как смерть супруга, все-таки пагубно влияет и на ее мозг, и она начинает о чем-то сожалеть и в чем-то раскаиваться. Нет, хорошо все-таки, что Чехов писал рассказы, а то продолжение этой истории, боюсь, было бы очень грустно читать.
Нет никакого сомнения в том, что Булгаков тоже вкладывал в свой роман «Мастер и Маргарита» некий запредельный и символический смысл, скорее всего, что-то из той же оперы про «женихов и невест», по мотивам «Фауста» Гете… Однако у него получилось уже такое отстойное произведение, что даже ни один из мало-мальски уважающих себя отечественных философов, насколько я знаю, так до сих пор и не взялся его трактовать. В общем, даже самые тупые из гуманитариев, каковыми являются философы, врубаются, что тут что-то явно не то. А я бы сказала, что это самое что ни на есть типичное «не то». Зато я однажды слышала, как на радиостанции «Эхо Москвы» устроили нечто вроде конкурса для своих московских слушателей, чтобы те бегали, как дурачки, по Москве и отыскивали всякие булгаковские места, за что им потом вручали разные призы. Эта «народная забава», по-моему, красноречивее всего свидетельствует о контингенте читателей данной книги. У нас в Петербурге хотя бы никто не играет в Раскольникова или же Мышкина. И то хорошо!
«Мастер» – так обычно за глаза называют моряки капитана судна, да еще в очереди иногда подвыпившие граждане обращаются к мяснику: «Эй ты, мастер!» Но «Мастер и Маргарита» – это уже слишком даже для уха самого рядового петербуржца, не то что для меня.
Однако, что бы там ни писал Вячеслав Иванов про трагедию русской души в своей статье, какую бы судьбу ни предрекал своей родине, но сериал по «Идиоту» закончился несколько неожиданно, по крайней мере, мне так показалось. Нет, хеппи-энда, конечно, не произошло. Но два здоровых мужика, валяющиеся в обнимку около бездыханного тела Настасьи Филипповны в финале фильма, – пожалуй, это было уже некоторым перебором! Ко всему прочему, вскоре из соседней комнаты, где тоже есть телевизор, вышел мой младший сын и обратился ко мне с вопросом: «Мама, они что, гомосеки?» Ну вот! Значит, такие ассоциации возникли не только у меня одной, а устами младенца, как известно, и вовсе глаголет истина.
Кстати, я не так давно где-то прочитала, что Уильям Берроуз едва не поссорился со своим издателем, когда тот попытался заменить название его романа «Пидор» на «Педик». Между ними разгорелась настоящая полемика по этому поводу. Берроуз, в частности, утверждал, что «пидор» звучит куда более благородно и мужественно, чем «педик». И кажется, в конце концов ему удалось настоять на своем. Так вот, мне почему-то думается, что если уж ставить все точки над «i» и провести до конца эту начатую не мной аналогию между Дон Кихотом и Мышкиным, то можно, наверное, было бы самое главное отличие между ними сформулировать еще и таким образом: Дон Кихот – это самый что ни на есть настоящий мужественный пидор, в том смысле, на котором с таким упорством настаивал Берроуз. А вот князь Мышкин – это, по-моему, все-таки педик. Увы! Я знаю, что очень многие со мной не согласятся и даже бросятся спорить, начнут возмущаться, но основное различие между Дон Кихотом и Мышкиным заключается именно в этом. И другими словами его, это различие, на мой взгляд, просто не передать!
Глава 36
Вечное возвращение
Напрасно все-таки Достоевский ляпнул, не подумав, что, мол, «все мы вышли из гоголевской «Шинели»«. Во-первых, я терпеть не могу, когда кто-нибудь вот так вдруг начинает вещать от лица всех: «мы». Пусть это даже будет сам Достоевский. На редкость мудацкая манера! Вот он точно вышел из гоголевской «Шинели» – так и говорил бы про себя: «Я вышел…» А то подобные высказывания надолго потом сбивают с толку безмозглую толпу. Стоит только какому-нибудь авторитетному писателю, а тем более так называемому «классику», с глубокомысленным видом изречь какую-нибудь сногсшибательную глупость, как все потом сто лет будут, как попугаи, ее повторять. Не помню уж, кто первый изрек про Пушкина: «Наше все!» – кажется, Тютчев, а может быть, опять Достоевский или же Фет… И вот все до сих пор так и долдонят: «Наше все, наше все…» И выражение-то какое-то нечеловеческое, – по-моему, по-русски так вообще не говорят: чем-то даже напоминает современный рекламный щит с надписью типа: «Твой аромат – твои правила!» Сейчас такие плакаты на каждом шагу попадаются, но ведь в XIX веке русский язык так не коверкали.
Нет. Каждый писатель «вышел» из чего-то своего, причем часто из чего-то такого, о чем другие даже и не догадываются, а может быть, он и сам толком не понимает. Мне, например, кажется, что из какого-нибудь Алексея Толстого и его «Хождения по мукам» тоже многие вышли, и самым неожиданным образом. Да хотя бы вот из той сцены, где некий пресыщенный и утомленный жизнью поэт Бессонов совращает одну из сестер, не такую уж и юную, в общем-то, особу. Прообразом Бессонова, как известно, был Александр Блок – так, во всяком случае, часто говорят и пишут «толстоведы»… Таким образом, Алексей Толстой как бы незаметно подводит читателей к мысли, что оскорбленные в лучших чувствах сестры Катя и Даша впоследствии с неизбежностью должны преисполниться ненавистью к царскому режиму и вообще всей старой рафинированной культуре, мешавшей невинным и простодушным существам вроде Кати, Даши, Горького и самого Алексея Толстого самоутвердиться в этом мире.
Одним словом, мне почему-то кажется, что именно из этой сцены вполне могла родиться «Лолита» Набокова, в которой уже главный герой Гумберт Гумберт оттягивается на тупой обывательской мамаше Лолиты, как бы мысленно отыгрываясь на ней за Блока-Бессонова, которого бессмысленные наглые матроны вроде нее и Кати-Даши с чисто детской непосредственностью и невинностью втоптали в грязь. Честно говоря, я никогда не была большой поклонницей Набокова, но тем не менее сцена чтения дневниковых записей своего нового мужа мамашей Лолиты, должна признаться, доставила мне несколько приятных минут. Жаль, что в романе эта сцена длится очень недолго, и мамаша Лолиты почти сразу после этого попадает под автомобиль. Трагическая участь всех американских домохозяек, включая Митчелл! Последнее обстоятельство особенно огорчительно, так как отсутствие в романе этой законченной идиотки сразу же лишает его настоящего напряжения, и все действие постепенно скатывается к банальной педофилии, временами переходящей чуть ли не в тошнотворную роковую любовь… В конце концов, Набокову ничего не остается, как кое-как завершить свой роман, так как его юная Лолита, ко всему прочему, грозит вырасти в очередную перезрелую и рассерженную на весь мир Настасью Филипповну, уже однажды описанную Достоевским, которого, как известно, Набоков сильно недолюбливал.
И при чем здесь «Шинель»? Если внимательно проследить за моей мыслью, то получается, что все «мы» (признанные и непризнанные классики русской литературы, включая Достоевского) вышли из «Сестер» Алексея Толстого! Вот так! Не сомневаюсь, что теперь толпа безмозглых олигофренов еще лет двести будет мусолить вслед за мной это мое открытие… Хотя, честно говоря, я совсем недавно до такого додумалась, даже сама себе немного удивляюсь. А получилось почти как у Ницше. Вечное возвращение! Круговорот Лолиты, Кати, Даши и Настасьи Филипповны в природе!
Смешно сказать, а ведь раньше, когда мне попадалось в какой-нибудь статье, – например, в Литературной Энциклопедии – имя Набокова, у меня перед глазами сразу же всплывала узкая, раздвоенная на конце, наподобие вилки, рыбная кость с натянутой между острыми кончиками струной. Только и всего! Правда, эта ассоциация сохранялась только до тех пор, пока я думала, что имя Набоков произносится с ударением на первом слоге… По правде говоря, это даже трудно сейчас объяснить – со стороны выглядит даже как-то неправдоподобно. А ведь нечто подобное я могла бы сказать и про Бальмонта.
Помню, однажды одна из моих университетских сокурсниц поправила меня: «Не Бальмонт, а Бальмонт!» – с ударением на последнем слоге, и в ее голосе прозвучало невыносимое презрение. В тот день я совершила еще одну ужасную оплошность. Вместе с нами на курсе училась девочка по фамилии Балмон, она казалась мне очень красивой: большие серо-голубые глаза, маленький, изящно очерченный ротик, прямой нос, длинная толстая русая коса – настоящая икона, сказочная красавица, сошедшая с картины Васнецова. С тех пор, правда, мои представления о красоте сильно изменились, но тогда она казалась мне просто неземной красавицей. Хотя моя подруга Лара обратила мое внимание на то, что у Балмон очень толстые уродливые ноги, но она всегда носила длинные юбки, закрывавшие даже щиколотки, так что этот дефект не так уж бросался в глаза. И я осмелилась предположить, что, возможно, Балмон – такая неземная возвышенная красавица, дивное создание – является правнучкой или еще какой-нибудь отдаленой родственницей Бальмонта. Но тут уже ее подруга, толстая круглая бесформенная девушка в очках, презрительно глядя даже не на меня, а куда-то поверх, отчеканила: «У Бальмонта не было сыновей. У него было две дочери». Я буквально онемела перед столь поразительной осведомленностью, мне нечего было возразить. К тому же я еще и ударение в фамилии Бальмонта неверно ставила… Я почувствовала себя жалкой убогой идиоткой.
Хотя на самом деле и сам Бальмонт был очень странным персонажем. Всю жизнь зарабатывал переводами, а значит, был не особо богатым. У меня на книжной полке и теперь стоит целое антикварное собрание сочинений Кальдерона в переводах Бальмонта… Тогда на какие же шиши он объездил весь мир: побывал на Канарах, Балеарских островах, в Африке, Испании, Америке? Годами жил в Париже? С трудом верится, что все расходы компенсировали издатели его переводов – переводчики всегда влачили жалкое нищенское существование. Однако больше всего у Бальмонта я люблю переводы Эдгара По и еще, конечно, его фамилию, именно так, с ударением на последнем слоге, на французский манер. А вообще-то, он, бедняга, явно страдал психическим расстройством: в молодости сиганул из окна третьего этажа, потом примкнул к революционерам, периодически менял баб и даже в стихах воспевал свой якобы очень «сладкий поцелуй»… Короче говоря, что-то есть в нем и от меня самой, точнее, в этих странных несоответствиях и перипетиях его личной жизни, и главным образом, в его манере впадать в крайности. Нет, и вправду он чем-то похож на меня, но от этого я не чувствую к нему особой симпатии. Отнюдь! Мне нравится в нем только та часть его личности, которая раздражает всевозможных литературоведов. Чем-то в этом отношении он даже напоминает мне Северянина, хотя на самом деле, до Северянина ему далеко. Почти так же далеко, как мне до Чарской! Как ни крути, но Северянин не утруждал себя переводами, потому что по-настоящему царственный поэт никогда не возьмется за это лакейское и унизительное занятие, даже если будет умирать с голоду.
Тем не менее, несмотря на очевидность всего того, что я только что высказала, всех этих моих догадок, прозрений и неопровержимых аксиом, сам Набоков вряд ли когда-нибудь, даже в мыслях, был способен представить себя «вышедшим из Алексея Толстого». Трудно себе такое вообразить. И все-таки это именно так! К счастью, сам Набоков уже давно помер, и мне не придется вступать с ним в какие-либо длинные препирательства на этот счет. Что хочу – то и говорю! Большинство людей вообще очень плохо осознают самих себя, и вступать с каждым в препирательства, что-то им доказывать – очень утомительное занятие, на которое не хватит ни времени, ни сил. Итак, Набоков, как и все мы, вышел из «Сестер» Алексея Толстого! И если Набоков чем-то недоволен, то пусть себе лежит в своей могиле и помалкивает, раз уж ему так не повезло и он умер раньше меня. Может даже в знак протеста перевернуться в гробу – да сколько угодно – я не возражаю, мне от этого ни холодно ни жарко!
Хотя я и признательна ему за несколько приятных минут, которые я вместе с этой безмозглой мамашей Лолиты провела за чтением дневника Гумберта Гумберта. И более того, готова признать, что в этом месте своего романа ему даже удалось достичь некоторой символической обобщенности, естественно, в меру отпущенных ему свыше способностей. Потому что все эти «дамы бальзаковского возраста» вроде Лолитиной мамаши и вправду бывают очень утомительны и надоедливы, так что хочется иногда немного отвести душу. Что я при помощи Набокова и сделала!
Правда, сегодня, наверное, нет уже никакой необходимости говорить всерьез о каких-то там «отпущенных свыше способностях» писателя, «божьем даре», «искрах вдохновения» и т. д., и т. п. – вся эта возвышенная туфта давно устарела. Так что лично я употребляю это выражение разве что просто так, шутки ради… На самом деле все гораздо проще. Писатель способен достичь символической обобщенности и убедительности ровно в той мере, в какой у него накопилось настоящей злобы к потенциальному объекту своего описания. И пример Набокова – лишнее тому свидетельство. Насколько он ненавидел всяких обывательских баб, которые его на протяжении жизни всячески доставали, настолько ему эта, уже неоднократно упоминавшаяся мной тут сцена с дневником и удалась. А попутно он еще немного отомстил за таких, как Блок и Кузмин, но это уже не так и важно… Короче говоря, никакого вмешательства высших сил писателю не требуется. А перефразируя известное высказывание знаменитого боксера-тяжеловеса, которое тот изрек, когда ему еще окончательно не отшибли мозги, я бы так сказала: «Писатель должен порхать среди разнообразных цветов жизни, подобно бабочке, ну хотя бы для того, чтобы все думали, что он собирает и разносит необходимую растительному миру пыльцу, а потом вдруг – раз, и жалить, как пчела, то есть выпускать в цель накопившийся у него за все это время яд!» На большее, к сожалению, писатель не способен, но хотя бы это…
Набоков, в сущности, так и поступил. Большинство обывателей думали и продолжают думать, что он просто очень любит эту малолетнюю Лолиту, и доверчиво тянут свои невинные «детские» ручонки к его роману, но не тут-то было – там их все-таки ждет несколько весьма неприятных минут.
Глава 37
В лучах заходящего солнца
Как я ни старалась быть предельно точной и внимательной к мелочам, как ни настраивала себя на серьезный лад, садясь за очередную главу свой истории, а все-таки с Северяниным опять прокололась. Только я написала, что этот царственный поэт никогда бы не опустился до такого презренного занятия, как перевод, и опять получаю письмо из Эстонии от все того же компетентного человека, в котором он пишет, что Северянин в последние годы своей жизни чуть ли не одними переводами и жил, и переводил он – кто бы мог подумать – главным образом, с эстонского. Заглянула в Литературную энциклопедию и глазам своим не поверила: Северянин переводил еще и с немецкого, французского, польского, сербского и… даже еврейского. Надо же! С ума можно сойти! А я-то думала… Более того, Северянин сегодня в Эстонии известен чуть ли не исключительно как переводчик эстонского поэта Хенрика Виснапуу. Вот так! Как говорится, век живи – век учись! Ученье – свет, а неученье – тьма! Знание – сила!.. А с другой стороны, пускай думает лошадь, у нее голова большая!.. Вот, разве что эта последняя поговорка меня немного утешает. Или же еще: много будешь знать – скоро состаришься! Именно! Состаришься и проведешь остаток своих дней за переводами великого сенегальского поэта Леопольда Сенгора, сына Инчу-Чуна. И самое смешное, что тебя даже абсолютное незнание какого-нибудь местного суахили не спасет, а вполне хватит французского, потому что Сенегал – бывшая французская колония, и этот Сенгор, не будь дураком, писал по-французски. И вот тогда-то ты и пожалеешь, что в детстве тебя зачем-то выучили французскому. И еще как! Это знание тебе выйдет боком.
Но шутки шутками, а одна моя подруга в Париже в свое время пыталась окрутить сына африканского царька. Собой этот потомок древнего царского рода очень сильно напоминал лягушонка: маленького росточка, весь сгорбленный, с приплюснутым лбом, толстыми, вывернутыми наизнанку губами, да еще с каким-то невероятно темным цветом кожи лица, а вот ладони у него почему-то, наоборот, были светлые, не то чтобы совсем белые, но гораздо светлее, чем лицо. Короче говоря, ни дать ни взять, вылитый Сенгор, если только верить портрету в книге его стихов, которые я когда-то в школе вынуждена была учить на французском в качества задания по внеклассному чтению. Однако правильно написал один русский поэт: «Что есть красота? Сосуд она, в котором пустота!» И моя подруга точно так же считала! Потому что этот маленький черный принц жил в совсем не маленьких роскошных апартаментах, да еще в самом центре Парижа, на улице Лепик. Однако этот уродливый негр не захотел связывать свою судьбу с моей приятельницей, несмотря на то, что внешне она была очень эффектная блондинка, а просто, как бы это поточнее выразиться, немного «попользовался» ею и бросил. В результате от всех этих переживаний она даже угодила в дурдом, и мне пришлось какое-то время носить ей туда передачи. Но может быть, это и к лучшему, а то еще неизвестно, где бы она могла оказаться на старости лет и чем бы ей пришлось тогда заниматься. С каких языков и на какой переводить! И хорошо еще, если переводить! Сидела бы она сейчас в какой-нибудь жалкой лачуге в Африке и пряла на прялке пряжу, чтобы добыть себе деньги на пропитание. Потому что в Африке постоянно случаются всевозможные перевороты и революции, и тот, кто был всем, запросто в любой момент может стать ничем. А так она сейчас совсем неплохо устроилась, нашла себе нормального мужа и, насколько я знаю, часами просиживает у телевизора, ничем особенно себя не утруждая… В иные минуты я ей очень завидую, но стараюсь не подавать вида, потому что, мне кажется, она, в свою очередь, втайне сильно завидует мне, так как я для нее – писательница с мировым именем, а она – самая обыкновенная домашняя хозяйка.
Ну да ладно, ладно… Порой я и сама удивляюсь, откуда у меня такое предубеждение против всяческих знаний? Может быть, это как-то застряло в подсознании и связано с детскими впечатлениями от разных приключенческих фильмов? Ведь чуть ли не в каждом из них какой-нибудь матерый преступник или же одноглазый пират, склоняясь над еще не успевшим окончательно охладеть трупом своего бывшего соратника, зловещим голосом произносил: «Он слишком много знал!» Да уж, насмотревшись в детстве подобных фильмов, человек поневоле на всю жизнь сохранит в своей душе глубокое недоверие к знаниям. Удивительно, что в советские времена то и дело устраивались всякие кампании по улучшению общего морального и физического состояния народа, – например, во время борьбы с пьянством даже из песен и классических романсов вроде «Поднимем бокалы, содвинем их разом…» выбрасывались любые упоминания об алкоголе, – а вот о серьезной пропаганде знаний, кажется, так никто толком и не задумался. Поэтому выпускники советских школ и детсадов и остались на всю жизнь чуточку дефективными, даже если их родители, воспитательницы и учителя постарались их в детстве чему-нибудь научить. Во всяком случае, я сама это очень хорошо ощущаю, ибо бессознательно до сих пор испытываю чуть ли не панический ужас перед всякими знаниями, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что все это глупости и предрассудки… Главное – найти источник этих страхов, понять, что это из фильмов, и тогда все постепенно пройдет.
Однако самый царственный русский поэт известен сегодня в Эстонии исключительно как переводчик Хенрика Виснапуу! Надо же! Вот так проходит слава земная! И я тоже сегодня во Франции известна, главным образом, как переводчица Селина. А ведь всего несколько лет назад у меня на родине на презентации моих книг выстраивались целые толпы поклонников, и некоторых из них даже туда не пускали, настолько там было тесно от скопления людей!
Вот на днях я перебирала свои старые бумаги и натолкнулась на одну газетную заметку о себе, содержание которой показалось мне настолько нереальным и далеким, что эту заметку, пожалуй, сегодня впору было бы уже публиковать где-нибудь под рубрикой «О чем писали газеты в прошлом веке». А ведь и вправду, если вдуматься: хотя описанные в ней события и происходили сравнительно недавно, но все равно уже в прошлом веке.
Книжная полкаХорошенького понемножкуК сожалению, это так. К сожалению, тираж хороших книг нынче невелик – например, роман Маруси Климовой «Домик в Буа-Коломб» издан тиражом всего 100 экземпляров. Однако спасибо «Митиному журналу» и за эту сотню, иначе текст так и остался бы для нас тайной.
18 сентября в Art-Collegium состоялась презентация книги, на которой критик и искусствовед Михаил Трофименков сказал, что писатель Маруся Климова куда значительнее тех авторов, которых она переводит: «Селин и Жене должны плакать от зависти». Художник Тимур Новиков, оформивший книгу, сообщил изумленной публике о том, что Марусе Климовой присуждена Рокфеллеровская премия «За литературную хватку и создание образа русского интеллигента с человеческим лицом». Я, оставив в стороне соображения приличий, сразу спросила у счастливого автора о денежном содержании премии – оно составляет три тысячи долларов, поэтому поздравления были небезосновательными, особенно по нашим временам.
Маруся Климова, она же Татьяна Кондратович, – не только писатель, но и журналист. Она корреспондент «Независимой газеты» и радио «Свобода». По собственному признанию Тани, журналистская работа все больше мешает писательскому творчеству, поэтому она в скором времени намеревается от нее отказаться. На мой резонный вопрос – на что же тогда жить?! – Таня ответила, что надеется на издание своих книг за границей. Первый роман Маруси Климовой «Голубая кровь» переведен на итальянский, японский и французский языки, скоро появятся немецкий и чешский переводы. Первое зарубежное издание намечается в Париже в издательстве «Граси», второе – в Италии, в издательстве «Воланд».
Гостей вечера интересовало, как сосуществуют Маруся – героиня романов, и Маруся – журналист. «Очевидно раздвоение личности», – задумчиво ответила Маруся.
Как бы то ни было, новые книги выходят, что в наши мрачные времена поистине достойно удивления, радости и подражания.
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ.«Невское время» № 173 (1815) 23 сентября 1998 г.
Но вернемся к Хенрику Виснапуу и его переводчику Игорю Северянину. Кто сегодня в России знает этого Хенрика Виснапуу? Да, кто?!.. Боюсь, что практически никто! И вот это обстоятельство кажется мне самым печальным и поучительным во всей этой бесконечно грустной истории. И я вовсе не хочу сказать, что этот Хенрик Виснапуу тоже является дикарем и сыном Инчу-Чуна, обитавшим некогда в одной из колоний России, но так почему-то и не удосужившимся научиться писать по-русски. Последнее, возможно, даже и к лучшему! Иначе бы, чего доброго, Северянину в конце жизни пришлось его переводить обратно на эстонский. А это уже было бы явным перебором даже для нашего абсурднейшего из миров!
Напротив, я нисколько не сомневаюсь, что Виснапуу является тончайшим и проникновеннейшим поэтом, раз уж его взялся переводить сам Северянин! Меня, скорее, смущают явные пробелы в собственном образовании. Почему я никогда не слышала эту фамилию? И вообще, что я знаю об Эстонии, кроме того, что это родина Георга Отса, Йака Йоллы и Тыниса Мягги? Я не уверена даже, что правильно пишу все эти фамилии. Зато в моей голове постоянно вертятся какие-то фантастические грузинские имена, вроде Галактиона Табидзе или же Ираклия Абашидзе, не говоря уже о Важа Пшавеле и Шота Руставели. Еще бы! «Витязь в тигровой шкуре» – это чуть ли не более значительное произведение, чем «Слово о полку Игореве»! Так, во всяком случае, мне внушали с детства, и имена этих поэтов я хорошо запомнила, хотя ничего внятного, вышедшего из-под их пера, мне никогда не попадалось, несмотря на то, что их очень интенсивно переводили на русский Пастернак и, кажется, Заболоцкий. И тот, и другой, судя по всему, были в полном восторге от грузинской поэзии, но тем не мене эта их любовь как-то мне не передалась. Однако до самого последнего времени я все равно пребывала в убеждении, что население Грузии на девяносто девять процентов состоит из беззаботных веселых интеллектуалов, привыкших коротать время за бокалом хорошего вина и упражнениями в версификации. Тогда как в соседней с Петербургом Эстонии обитают, может быть, внешне и очень вежливые, но чрезвычайно тупые «чухонцы»… А что же мы видим теперь? К чему все пришло?!
Грузия, как оказалось, поголовно населена вовсе не интеллектуалами, а «ворами в законе» и беглыми преступниками, начисто лишенными какого бы то ни было обаяния и веселости. И чего же от них ждать? Разве что в ближайшее время в Тбилиси, того и гляди, снесут памятник Грибоедову, если только там таковой имеется. Более того, у меня теперь появилось сильное подозрение, что и «Витязь в тигровой шкуре» – это не просто точно такое же фуфло, как «Слово о полку Игореве», а нечто, чего титанические усилия Заболоцкого и K°, переводивших этого «Витязя», так и не смогли донести до русского слуха и глаза. Об этом «нечто» сегодня можно только догадываться. Хотя и «Слово» тоже ни один нормальный человек никогда не сможет осилить, даже если он и привык с детства очень гордиться этим «шедевром».
Ну а в Эстонии, по крайней мере, есть знаменитый Тартусский университет, отчего там почти каждый второй является если и не его профессором, то хотя бы выпускником. Ведь Эстония – совсем небольшая страна, поэтому в процентном отношении, наверняка, так примерно и выходит: каждый второй… Там любят и ценят Северянина, как переводчика никому неведомого в России загадочного Хенрика Виснапуу. И наконец, насколько мне известно, мои книги на полках крупнейшего в Таллине книжного магазина стоят на самом видном месте рядом с объемистым научным трудом про того же Северянина.
И о чем все это говорит? Надо бы, пожалуй, внести хоть какую-то ясность во все эти мои беспорядочные наблюдения и рассуждения, а то мне и самой начинает казаться, что я в них окончательно запуталась. Даже не знаю, что из всего этого следует… Хорошо бы мне научиться до конца додумывать свои мысли и быть повнимательней к мелочам – это два моих самых главных недостатка! В общем-то, ничего особенного не следует, приходится это признать.
Впрочем, что касается Северянина, то, как я уже писала, он в конце своей жизни напоминает мне последнего китайского императора, который тоже на закате своих дней вынужден был работать садовником. В конце концов, эти новые факты его биографии только еще больше работают на образ.
Северянин – последний по-настоящему царственный поэт в русской литературе, в своем роде «последний император», свергнутый с трона и вынужденный перебиваться переводами. О, я очень хорошо себе представляю эту картину! Седенький старичок склоняется над томиком Сюлли-Прюдома подобно тому, как император Пу И – над увядающей чайной розой… В лучах заходящего солнца.
Зато Чарская уж точно не занималась переводами! Я даже в энциклопедию заглядывать не стала – скорее всего, ее там вообще нет. Буду отныне во всем равняться исключительно на нее. Больше не на кого!
Глава 38
Поэзия или смерть!
…к тому же Чарская писала главным образом прозу, а не стихи. И тут, закончив эту фразу, я вдруг поймала себя на мысли: «А в чем, собственно, дело?.. Что случилось с поэзией? Почему она так низко пала сегодня в глазах людей?» Впрочем, я и сама уже как-то констатировала, что поэзия сейчас не просто умерла, а уже успела основательно разложиться. Однако не поспешила ли я со своим заключением?
Никогда не забуду, как в самом начале девяностых только что вернувшийся из эмиграции, очень известный русский писатель не без гордости заявил в интервью «Российской газете», что за годы своего отсутствия на родине он успел превратиться из жалкого рифмоплета, каковым когда-то по глупости и по молодости был, в автора увесистых томов прозы. Дословно я его высказывание уже сейчас не помню, но смысл признания был именно таков, к тому же и позднее он очень часто повторял эту мысль, разве что слегка ее варьируя… И в самом деле, кто, например, всерьез воспринимает литературу современной Греции, а ведь там, если я не ошибаюсь, в прошедшем столетии было чуть ли не четыре нобелевских лауреата по литературе. Ну и что? Кому это интересно? А все потому, что, наверняка, все эти лауреаты были поэтами, а не прозаиками… Нисколько не сомневаюсь, что все дело именно в этом! И подобных примеров можно было бы привести еще немереное множество. Однако общая тенденция, думаю, ясна и без того: поэзия, в отличие от прозы, в современном мире котируется очень низко. Во всяком случае, очень многие, причастные к литературе люди, в том числе и достаточно известные, так считают и не стесняются признаваться в этом во всеуслышание.
Стоит ли удивляться после этого, что сегодня то и дело приходится слышать, будто бы поэзией должны заниматься исключительно женщины, а в прозу им лучше и вовсе не соваться. Само собой, чаще всего говорят об этом прозаики мужского пола, и это-то как раз и наводит меня на грустные размышления. Еще бы! Ведь выходит, что поэзия теперь в глазах многих – это нечто вроде мытья посуды или же стирки белья, которые мужчины обычно тоже целиком взваливают на женщин. Более того, именно эту сферу человеческой деятельности принято отождествлять с самыми неприглядными серыми буднями, черновой малопрестижной работой домашней хозяйки, «прозой жизни», иными словами. Вот так! Получается, что поэзия, возможно, вовсе и не умерла, как мне казалось, а просто полностью переродилась и превратилась в некогда «презренную прозу» или же, по крайней мере, окончательно поменялась с ней местами, потому что когда-то, если, конечно, я опять ничего не путаю, поэзия считалась высшим литературным жанром. Например, в Китае поэтов в древности, кажется, даже называли «небожителями».
Почти не сомневаюсь, что размышления на схожую тему уже посещали Хайдеггера, Ясперса, Деррида, Гадамера, Шпенглера и других крупнейших мыслителей XX века… Но, пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией моей мысли может служить последняя экранизация произведений Александры Марининой: некоторые сцены отчетливо запечатлелись у меня в памяти. Особенно мне запомнилась откровенная перевернутость или же, выражаясь по-научному, инверсия в отношениях главной героини со своим мужем, которые как бы полностью поменялись традиционно отводившимися в семье мужчине и женщине ролями. Героиня-следователь целиком поглощена своей работой по поимке опасных преступников-рецидивистов, совершающих разбойные нападения и кражи со взломом – возвращаясь домой, она усталым и небрежным жестом скидывает с себя верхнюю одежду и тут же направляется к дивану, а ее муж-физик просто не вылезает с кухни и то и дело появляется в кадре, облачившись в комический передник и со шваброй в руках. В довершение всего, он еще и говорит каким-то неестественно тонким и блеющим голосом: «Дорогая, что ты сегодня будешь ужинать?..» Очень удачная иллюстрация, на мой взгляд, – нарочно не придумаешь! Столь же комично должен выглядеть сегодня и любой мужчина-поэт, если уж быть последовательным и довести до логического завершения мои догадки об инверсии традиционных представлений о поэзии и прозе в сознании современного человека. А если еще учесть, что сама писательница Маринина – бывший следователь, то главная героиня, вне всякого сомнения, является еще и alter ego автора-прозаика, причем достаточно успешного. Эта существенная деталь позволяет с легкостью представить на месте ее комичного мужа практически любого из современных поэтов-мужчин, будь то Вознесенский, Евтушенко, автор российского гимна Михалков или же даже увенчанный Нобелевской премией Бродский.
Так что смерть поэзии – это еще куда ни шло. А вот подобное унизительное ее «перерождение» в определенном смысле гораздо хуже смерти и окончательного разложения. Аналогии тут напрашиваются сами собой. Не случайно ведь вожди всяких там революций и борцы за независимость, как правило, выдвигают лозунги «Свобода или смерть!» или же «Родина или смерть!», из которых следует, что даже самые слаборазвитые и веками прозябавшие в порабощении народы рано или поздно вдруг начинают осознавать, что в самом факте смерти еще нет ничего страшного, а есть вещи и похуже. Объективно, может быть, это и не совсем так, но все равно, видимо, существует нечто такое, что заставляет людей время от времени с пафосом восклицать: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Подобного рода декларации означают, что, вне зависимости от цвета кожи и умственного развития, человек по своей природе существо очень гордое и независимое.
Короче говоря, наблюдая за всеми этими процессами в современной литературе, я постепенно пришла к выводу, что, видимо, слегка поторопилась, объявив поэзию мертвым и полностью разложившимся жанром. В реальности с поэзией дела обстоят гораздо печальнее, чем мне казалось. Если, конечно, перечисленные мной выше тезисы о том, что в этом мире существуют вещи худшие, чем смерть, имеют под собой хоть какие-то разумные основания. Поэзия сегодня пребывает в столь униженном и жалком состоянии, что, того и гляди, из все еще весьма внушительной по размерам толпы поэтов вдруг неожиданно выскочит какой-нибудь совершенно отъехавший «команданте Че» и возопит: «Поэзия или смерть!» Последствия такого красивого жеста сегодня тоже очень легко предсказать: через полвека примерно две трети человечества будут носить майки с его изображением на животе, а маститые прозаики будут делать себе имя и бабки, всячески романтизируя и приукрашивая этот «светлый образ», за которым на самом деле скрывается очередной, вчерняк обкуренный и обдолбанный, а может, и просто совершенно невменяемый мудак.
Возможно, я чересчур категорична в своих суждениях, однако мое раздражение вполне объяснимо, потому что подобные резкие движения и обреченные на поражение душевные порывы только еще больше укрепляют обывателей в их глубочайшем презрении к поэзии и побуждают их еще плотнее сплотить свои ряды. А заслуживает ли поэзия такого презрения? Безусловно, да! Иных мнений тут и быть не может! Хотя лично я, пожалуй, и не стала бы слишком выделять поэзию из других видов человеческой деятельности, как это происходит теперь. Пока же, увы, мужчины по праву сильного всячески стараются спихнуть подобное гнусное ремесло на плечи женщин. По-моему, это не только несправедливо, но и к тому же является очень опасной тенденцией! Куда более приемлемым и нормальным было бы по-прежнему делить это занятие между мужчинами и женщинами, как фактически и происходит сейчас – наподобие того, как самую черновую и грязную работу по дому делят между собой мужья и жены в нормальных и дружных семьях. То есть предпочтительнее все-таки было бы пока все оставить как есть, что позволило бы избежать возможных крупных скандалов, переворотов и иных социальных потрясений. А там, глядишь, по мере продвижения человечества по пути прогресса поэзия как жанр и сама окончательно отомрет. Надо просто набраться чуточку терпения. Изобрели же, в конце концов, посудомоечные и стиральные машины-автоматы, вот и с поэзий что-нибудь постепенно придумают, на худой конец, научат рифмовать слова компьютер и избавят наконец женщин от этого нудного и бессмысленного занятия. Думаю, что этим когда-нибудь все и кончится. Главное, не дергаться раньше времени!
Между тем тенденция к подобному несправедливому «распределению обязанностей» в литературе между мужчинами и женщинами сильнее всего проявилась в развитии русской литературы ХХ века, когда, как известно, самыми выдающимися поэтами стали именно женщины: Цветаева и Ахматова. Но если судьба Ахматовой сложилась еще более или менее удачно, и ей, по крайней мере, удалось дожить до глубокой старости, то пример Цветаевой не может не настораживать. Что бы там ни говорили о ее вздорном характере, но, по-моему, нет ничего удивительного в том, что Цветаева свои дни закончила в качестве посудомойки в провинциальной писательской столовой. На мой взгляд, это очень даже символично, так как питались в этой столовой, в основном, прозаики мужского пола.
Помню, один мой знакомый московский художник как-то ни с того ни с сего начал допытываться у меня, как я отношусь к Цветаевой. Его мастерская находилась как раз на площади, где стоит памятник Юрию Долгорукому. И он, подойдя к окну и засунув руки в карманы, задумчиво любовался открывавшимися сверху просторами. Лица его мне было не видно – я видела только темную квадратную фигуру с широкими плечами и толстыми, крепкими и короткими, как у статуи, ногами. «Женщины обычно ее не любят…» – начал он, как бы подсказывая мне возможный ответ и великодушно заранее предоставляя пространство для маневра. «Нет, я очень люблю Цветаеву, она замечательная. И ее трагическая судьба, ее стихи…» – я даже едва не задохнулась тогда от негодования. А он только устало вздохнул и задумчиво посмотрел на меня: «Так я и думал!» – было написано в его взгляде. Вероятно, и на самом деле, было во мне что-то такое, что заранее позволяло предположить подобный ответ – опять же, хотя бы на уровне того же животного чутья. А этот мой знакомый, из чувства деликатности и, видимо, желая перевести разговор на другую тему, тут же стал мне рассказывать, как у него приключился гайморит и из носу после операции вытягивали чуть ли не целый километр бинтов.
Впрочем, все это было уже очень много лет назад, и теперь-то я понимаю, что мужчины, скорее всего, специально подсовывают женщинам таких, как Цветаева, в качестве примера для подражания, чтобы те взваливали на себя самую неблагодарную и черновую работу, в том числе и по дому, в то время как они сами будут заниматься любимым делом: например, выслеживать и отлавливать матерых преступников-рецидивистов, а потом соответственно описывать все это в книгах и купаться в лучах славы.
Глава 39
Человек-ртуть
Но на чем основывается это глубочайшее презрение к поэзии со стороны подавляющего большинства современного человечества? Именно «глубочайшее», иначе не скажешь, потому что это чувство укоренено где-то в самых отдаленных и скрытых от поверхностного взгляда глубинах человеческого подсознания и обычно дает о себе знать неявным образом, на уровне всевозможных оговорок и инстинктивных жестов. Мне кажется, что, описав в общих чертах положение поэзии в современном мире, я еще не до конца разобралась в причинах… Кстати, в самом начале своей истории русской литературы я уже определила гения, как человека, которого окружающим не удается поймать на каком-нибудь из таких «обывательских жестов» и оговорок. Но стоит только писателю «попасться» на чем-либо подобном, как – все! Прощай, вечность! Он может стать кем угодно, хоть лауреатом Нобелевской премии, однако гением ему уже никогда не быть: он навечно будет изгнан из Пантеона избранных… Просто таковы правила игры, существующие в культуре, и не я их выдумала. Должна же культура хоть как-то защищаться от посягательств на ее главные ценности!
Впрочем, все это настолько очевидно, что, наверное, лишний раз можно было бы и не напоминать. Это и так все понимают. Однако очевидность существующих в культуре правил вовсе не делает их простыми и легкими для исполнения. И это тоже понятно. Например, в футболе или же боксе правила прописаны не менее ясно и четко, чем в культуре, тем не менее гениальных футболистов и боксеров, способных переиграть противника по правилам, не хватая мяч руками и не нанося удары ниже пояса, тоже не так уж много. То есть даже тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Правда футболистов и боксеров повсюду сопровождает придирчивый и хорошо натренированный судья, который педантично фиксирует все ошибки и нарушения, постоянно рискуя попасться под горячую руку спортсменов и возбужденных зрителей. Зрители, между прочим, чаще всего недовольны действиями судьи, особенно если им кажется, что он как-то чересчур придирчив к тем спортсменам, за которых они болеют. Однако где-то в глубине души даже самые заядлые и отмороженные болельщики понимают, что спортивное состязание без соблюдения элементарных правил рискует и вовсе утратить всякий смысл и зрелищность. И скорее всего, это действительно так. Впрочем, я говорю об этом слегка наугад, просто эта спортивная аналогия – первое, что пришло мне в голову, так как я вряд ли могла бы назвать себя азартной спортивной болельщицей. И все-таки, при всем моем равнодушии к спорту даже я в состоянии отметить, что самым скучным зрелищем, которое мне когда-либо приходилось наблюдать, являются так называемые «бои без правил», а их сейчас тоже порой показывают по ТВ. Обычно это выглядит примерно так: два человекообразных существа мужского пола выскакивают на арену, некоторое время виляют задами и делают ритуальные воинственные телодвижения, а затем сцепляются, валятся на землю и начинают дубасить друг дружку руками, ногами и даже головой… Футбол, в котором нельзя хватать мяч руками, и бокс, где нельзя бить ниже пояса, все-таки смотрится поинтересней. Короче говоря, общая тенденция очевидна: чем строже и яснее очерчены правила, тем спортивное состязание зрелищнее и увлекательнее.
Нечто подобное, на мой взгляд, можно было бы сказать и об искусстве. Самого поверхностного взгляда на современное искусство достаточно, чтобы уловить наиболее характерную его черту: от него веет беспредельной и всепоглощающей скукой! Иными словами, скука – самая характерная черта сегодняшнего искусства. И причины этой скуки абсолютны ясны. В культуре больше никто не хочет играть по правилам, она уже давно полностью во власти обывателей, которых, кажется, совсем не заботит, что их кто-то в чем-либо уличит.
Естественно, в искусстве вообще, и в литературе в частности, нет арбитра, который, подобно спортивному судье, беспрестанно повсюду преследовал бы художника-творца, педантично указывая ему на его ошибки и грозя ему окончательным отлучением от «игры». Казалось бы, обязанности бесстрастного наблюдателя в литературном процессе мог бы взять на себя критик, однако последний сегодня сам настолько ангажирован и вовлечен в этот процесс, что, скорее, тоже является одним из игроков, не способным объективно судить о происходящем вокруг. В этих условиях вышеуказанную роль естественным образом начинает исполнять историк литературы. И должна признаться, что я уже на собственном опыте реально ощутила всю тяжесть неожиданно свалившихся на меня обязанностей, о которых поначалу даже и не подозревала. В самом деле, вроде бы историк литературы имеет дело, главным образом, с покойниками и вообще с делами давно минувших дней, до которых, по большому счету, уже никому нет дела. Ан нет! Стоит мне, к примеру, произнести какую-нибудь затертую и банальную фразу типа: «Пушкин – дурак!» – как отовсюду, изо всех углов начинает доноситься вполне явственный и хорошо различимый ропот возмущения. А почему? Ведь в констатации этого факта, в сущности, нет ничего особенно нового и оригинального! Это вроде бы и так уже все давно понимают. Однако произносящий эту банальную фразу делает явным глубоко укорененное в сознании обывателей презрение к поэзии и поэтам. Что, естественно, не может не вызывать у них раздражения и настороженности. Я их очень хорошо понимаю.
Кстати, дав определение гения через отрицание, а именно, как человека, которого окружающим не удается поймать на каком-либо обывательском жесте или же чувстве, я, видимо, поступила не совсем корректно, забыв уточнить, что собой представляют подобные жесты и чувства. Но этот мой просчет еще не поздно исправить. Тем более что и сделать это совсем не сложно. Пожалуйста! Обыватель – это тот, кого, в свою очередь, тоже невозможно поймать или же даже заподозрить в чем-либо гениальном. Ну и соответственно все чувства, жесты и поступки, присущие этому типу личности, являются обывательскими. Все предельно просто! Однако если обыватель будет застукан на чем-либо гениальном, пускай даже на том, что он является гениальным обывателем, – как это и произошло в случае с Розановым и Селином, – он сразу же автоматически лишается всех своих обывательских благ и остается с глазу на глаз с вечностью, то есть ему, как и положено гению, достается пустота и дырка от бублика вместо самого бублика, на который он рассчитывал. Вот в этом, собственно, и заключается сегодня главный подвох, с которым может столкнуться практически любой, ничего не подозревающий человек, безмятежно обосновавшийся в культуре. Поэтому, несмотря ни на что, современное искусство не такое уж и скучное, как это может показаться на первый взгляд. Ведь существующих в культуре правил, как я уже сказала, пока никто не отменял.
Теперь, надеюсь, понятно, почему историк литературы, уличая задним числом какого-нибудь давно почившего в бозе общепризнанного гения в чем-либо обывательском и тем самым лишая его права на вечность, вызывает в стане обывателей сильное брожение и недовольство. Еще бы, ведь покойнику уже не нужны никакие материальные блага, и, лишаясь вечности, пусть даже это и самая обычная пустота, он все равно ничего реального не получает взамен. Естественно, это не может не настораживать тех, кто привык извлекать выгоду практически из любой ситуации, в том числе и из смерти. Однако только таким способом, на мой взгляд, можно заставить безмозглую обывательскую толпу почувствовать, что должен испытывать гений при жизни, когда его точно так же лишают практически всех материальных благ и вынуждают довольствоваться пустотой в виде вечности… Это последнее обстоятельство, собственно, и побудило меня обратиться к истории литературы.
И еще одно. Современная культурная ситуация, как я уже сказала, характеризуется тем, что литературой теперь занимаются исключительно обыватели, поймать которых на чем-нибудь гениальном практически невозможно. Во всяком случае для меня, вынуждена это признать. И это тоже заставляет меня обратить свой взор в прошлое и вступить в мысленное соревнование с безжизненными тенями.
Главная же проблема современной культуры заключается в том, что обыватель – это такой тип человека, которого вообще трудно в чем-либо уличить. Он, я бы сказала, в этом отношении даже в чем-то сродни ртути: стоит только пролить ее на пол, как потом совершенно невозможно собрать, она все время рассыпается на маленькие комочки и ускользает из рук, не говоря уже о том, что без перчаток ее трогать опасно, так как она еще и ядовита. И оставить на полу ее нельзя из-за этой ядовитости, потому что она не просто высыхает, как вода, а излучает вредные испарения. Вот и обыватель – это тоже такой вечно ускользающий человек-ртуть, которого практически невозможно в чем-либо уличить, а оставить его в покое и ни в чем не уличать тоже невозможно – хлопот не оберешься! Этим обыватель в равной мере отличается и от гения, и от преступника, хотя на самом деле между ними нет никакой существенной разницы, потому что, если хорошенько вдуматься, все они – всего лишь люди, и не более… Просто преступник – это обыватель, которого все-таки удалось поймать за руку и уличить в каком-либо преступлении, а гений – это тоже в своем роде преступник, но такой, которого окружающим не удалось уличить в чем-либо обывательском. И опять-таки, все не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.
Тем не менее я думаю, что, если бы я занималась, например, историей архитектуры, мне было бы чуточку проще разобраться со всей этой путаницей. Подавляющее большинство архитекторов практически ничем не отличаются от обычных инженеров и прорабов, настолько они поглощены всеми этими строительными работами, добыванием средств на воплощение своих архитектурных проектов, доставкой строительных материалов и прочими обыденными и понятными каждому смертному заботами. Поэтому среди архитекторов практически невозможно встретить гения в том смысле, в каком это определение применимо к поэтам. Я хочу сказать, что в свое время, работая экскурсоводом и просматривая по долгу службы многочисленные биографии самых разных архитекторов, я фактически ни разу не натолкнулась на демонических личностей, которые бы, подобно Лермонтову, катались в молодости верхом на молодых курсантах юнкерского училища. Куда там! Среди архитекторов мне не попалось даже таких, не говоря уже о переплывавшем Ла Манш гордом лорде Байроне или же закончившем свои дни в одиночестве и изгнании Уайльде… Архитекторам все эти гениальные красивые жесты попросту не нужны – им и без того хватает проблем со строительными рабочими! Поэту же, наоборот, труднее всего скрыться за обычными земными заботами, и оттого он больше, чем кто бы то ни было другой, рискует оказаться в положении гения, то есть остаться один на один с вечностью, а значит, и пустотой, то есть, попросту говоря, ни с чем.
И вот здесь, мне кажется, и надо искать психологические истоки глубочайшего презрения к поэзии, разросшегося сегодня до вселенских масштабов. В самом деле, человек, впервые увидевший, например, огромное здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, поневоле должен был переполниться глубочайшим внутренним уважением к его создателю, то есть его, наверняка, посещали примерно такие же мысли, какие сегодня посещают прозаика, когда он смотрит на увесистые тома своей прозы, изданной к тому же еще и в твердых внушительных переплетах, и мысленно сравнивает их с тоненькими книжечками стихов разных поэтов. Лично для меня нет ничего удивительного в том, что и желание въехать в рай прямо на самолете возникло именно под впечатлением от созерцания такого величественного творения человеческих рук, каковым являлся Всемирный торговый центр… А кому нужна сегодня поэзия? Разве способен сегодня поэт пробудить в ком-либо подобные масштабные чувства? Да в двадцатом столетии поэтов мочили просто пачками, и без каких-либо особых надежд на посмертное вознаграждение, разве что с чувством легкой брезгливости…
Конечно, коммунисты, учредив Литературный институт, попытались устранить эту зияющую пропасть между понятным буквально всем и каждому и практически непостижимым. Однако это их благое намерение на поверку тоже обернулось всего лишь обыденным взглядом на литературу, которую они искренне перепутали с производством, а возможно, и с той же архитектурой. Среди множества выпускников отечественных вузов выпускник Литинститута сегодня, безусловно, фигура наиболее комическая и жалкая.
Глава 40
Загадка русской литературы
Существует расхожее мнение о переменчивости моды в искусстве и в жизни: длинные юбки меняются на короткие, узкие брюки – на широкие, на смену котелкам приходят шляпы… Однако, если хорошенько подумать, то постоянно меняется ведь не только легкомысленная и легковесная мода, но и такие «фундаментальные» вещи, как добро и зло, например. И в истории русской литературы ХХ века это прекрасно прослеживается. А между тем некоторые люди, по моим наблюдением, на моду вообще не реагируют, зато чередование добра и зла их почему-то чрезвычайно волнует, причем до такой степени, как будто в момент их очередной смены затрагиваются чуть ли не самые глубокие основы человеческого бытия. Странно! И особенно странно потому, что в смене моды всякий раз присутствует нечто неожиданное, а порой даже шокирующее, тогда как чередование добра и зла своим однообразием чем-то напоминает мне смену дня и ночи: сначала смеркается, потом наступает ночь, потом опять начинает брезжить рассвет и т. д., и т. п. Вот так и зло сменяет добро, а потом – наоборот. Никаких сюрпризов и отклонений от раз и навсегда заведенного порядка вещей!
Моя мамаша, помню, мне постоянно вдалбливала, какая хорошая и веселая жизнь была у нее в детстве, хоть жили они небогато: бабушка одна воспитывала двоих дочерей, муж ее умер от тифа в Одессе, – но все равно было очень весело. Главное – это атмосфера веселья, радости, легкости, счастья, которая запомнилась ей на всю жизнь. По воскресеньям бабушка наряжала ее и мою тетю в нарядные голубые платьица с кружевными оборочками, белые носочки, белые босоножки, и они отправлялись в ЦПКиО. Сперва они долго ехали на трамвае, с пересадкой, а когда добирались до парка, то попадали в настоящий рай: яркая зеленая трава, красные и желтые цветы, голубое небо, солнышко! А из динамиков громко-громко раздавалась веселая песня:
- На аллеях центрального парка
- В темной грядке растет резеда,
- Можно галстук носить очень яркий
- И быть в шахте героем труда!..
- Потому что у нас каждый молод сейчас
- В нашей юной прекрасной стране!
Моя мама всегда тут же начинала громко ее напевать, у нее вообще в молодости был очень хороший звонкий голос и слух, и ее даже как-то пригласили петь на радио. Она потом и меня научила «петь про резеду». Мне эта песня одно время тоже очень нравилась…
В детстве она жила в большой питерской коммуналке на Покровской площади, в самом конце Садовой улицы, в огромном черном доме, почти что под самой крышей, на последнем этаже. Я и сама еще застала эту большую тридцатиметровую комнату с балконом, где за шкафом жила прабабушка Уля, совершенно лысая старушка, носившая на голой голове черную суконную круглую шапочку, всегда одетая в черную сатиновую юбку и темно-синюю кофточку в белый горошек. По праздникам она украшала эту кофточку белым кружевным воротничком и отправлялась в церковь.
Ни одного лета моя мама не провела в городе! Когда она ходила в детский сад, их вывозили на дачу в Вырицу, а потом, уже в школе, – в пионерские лагеря, в Репино, в Зеленогорск… Как там было весело! Они играли в лапту, в догонялки, а по вечерам собирались у костра и опять пели песни, а она, моя мамаша, пела лучше всех, поэтому ее всегда просили спеть еще. Когда ей было двенадцать лет, в нее влюбился мальчик из старшего класса, Володька Зарубин: он дарил ей цветы – приносил рано утром, когда она еще спала, и кидал через окно ей на кровать. И она просыпалась от сладкого запаха сирени и жасмина. Это ощущение счастья сохранилось у нее на всю жизнь. Однажды он даже больно попал этим букетом маме в глаз, и у нее долгое время был черный фингал, но все равно, ощущение счастья от этого не уменьшилось.
И в школе у них были очень хорошие учителя. Генриетта Марковна, например, учительница литературы: такая строгая дама в пенсне и в черном костюме, чрезвычайно эрудированная и начитанная, она всегда хвалила мамины сочинения и даже говорила, что у нее есть талант, и ей непременно нужно стать писательницей. А какие прекрасные фильмы тогда показывали! Моя мамаша в молодости просто обожала Любовь Орлову и Марину Ладынину. Это были настоящие красавицы, с золотыми волосами, лучистыми глазами и соблазнительно блестящими губками. Моя мама и сама была настоящей красавицей, она даже точно так же подкрашивала себе губки и глазки, как Любовь Орлова – ей многие говорили, что она на нее похожа. А Любовь Орлова к тому же была еще и секс-символом тридцатых годов.
И именно в тридцатые годы, кстати, начался один из самых затяжных светлых и радостных периодов в русской литературе, в сравнении с которым даже радужные рассказы мамы о своей молодости несколько блекнут. Я бы сказала, что в то время советских людей переполнял избыток добра. Что и составляет главную отличительную черту и одновременно главную проблему тех лет. Но ведь идеальных времен не бывает: плохое и хорошее тоже всегда соседствуют в жизни, как день и ночь… Так что желательно просто брать от каждого времени самое лучшее, а плохое отбрасывать. В данном случае надо соответственно отбросить этот избыток добра, и тогда останется одно чистое добро, не замутненное никакими изъянами.
К тому же некоторый перебор с добром в тридцатые годы очень легко объясним. До этого ведь в русской литературе доминировали всевозможные извращенцы вроде Сологуба, Арцыбашева, Розанова и им подобных. В результате у личностей, не сумевших себя в то время как следует реализовать и вынужденных прозябать в тени этих извращенцев, накопилось на душе очень-очень много добрых и светлых чувств, которые потом и выплеснулись на страницы книг и экраны кинотеатров. Что и привело к появлению такого удивительного феномена, как русская литература тридцатых годов. Вот и все! Даже странно, что до меня эту причину не разглядел ни один отечественный литературовед и историк литературы. Хотя порой именно то, что лежит на поверхности, самое простое и очевидное, и ускользает от человеческого восприятия. Видимо, так произошло и на сей раз.
А может быть, все дело в том, что я и сама живу в такое время, когда после целого десятилетия всевозможных извращений и злобы, буквально захлестнувших отечественное искусство, души многих людей опять переполнились избыточным добром, которое тоже уже потихоньку начинает выплескиваться на страницы книг и экраны телевизоров? Поэтому мне и проще, чем другим, все это понять и почувствовать – я имею в виду своих предшественников, – я даже явственно ощущаю неизбежность предстоящей смены и могу говорить об этом совершенно спокойно и уверенно – так, будто это и вправду всего лишь смена дня и ночи…
Хотя, должна покаяться, лично мне всегда больше нравилось зло во всех его разнообразных проявлениях. Даже не знаю почему. Может быть, потому что я очень долго читала исключительно одни сказки, причем не только в детстве, а уже будучи во вполне сознательном возрасте, когда все нормальные люди уже давно начали читать романы. Допускаю, что это свидетельствует даже о каком-то моем отставании в развитии, вполне возможно… Одним словом, я перечитала огромное количество сказок практически всех народов мира: от братьев Гримм до африканских, где главными героями в основном были крокодилы, змеи и обезьяны… Люди, правда, тоже встречались, но только в качестве второстепенных персонажей, которые, ко всему прочему, еще и жрали какую-то маниоку. Что это такое – я так до сих пор и не поняла. Долгое время мне казалось, что это какая-то жуткая гадость, нечто среднее между манной кашей и мороженой картошкой, к тому же омерзительно-сладкого вкуса. В результате у меня все африканские сказки запечатлелись в сознании в виде одного масштабного полотна: на плетеном вращающемся кресле сидит негр и крутится туда-сюда, улыбаясь при этом ослепительной белозубой улыбкой, а сбоку к нему подкрадывается нечто вроде огромного паука, причем самого паука я не вижу, а вижу только его блестящие, согнутые под острым углом лапки, которыми он быстро-быстро так перебирает… Примерно половина этих африканских сказок была посвящена воскрешению покойников, причем иногда почти совсем разложившихся, с лохмотьями прогнившего мяса, болтавшегося на пожелтевших костях, с высосанными червями глазами и огромными, почерневшими от сырости зубами. И вот такой трупак вдруг вскакивал и начинал выплясывать перед собравшимися неграми ритуальные танцы, а дальше мог сделать абсолютно все, о чем его попросит воскресивший его колдун, – все, что угодно, даже замочить человека, который кому-то мешает, или же забрать у него деньги и драгоценности.
И только гораздо позже я узнала, что подобные церемонии в африканской культуре существуют до сих пор и называются «вуду». Одна моя знакомая француженка, долгое время преподававшая французскую литературу в университете в Конго, рассказывала мне, что как-то, нанюхавшись вместе с приятелем всякой дряни, поддалась на уговоры и согласилась сопровождать его на одну вечеринку, куда того, в свою очередь, пригласил друг, местный житель. Так вот, она и по сей день начинает вся дергаться и заикаться, стоит ей вспомнить об этом мероприятии. «Поверь, тебе лучше об этом ничего не знать», – вот и все, что мне удалось от нее услышать после долгих расспросов и приставаний.
Кроме того, на мой вкус, в добре есть еще нечто невыносимо приторное. А я заметила, что избыток сахара человеку еще сложнее вынести, чем даже избыток горечи. Причем это в равной мере касается как пищи физической, так и духовной. Я, например, с трудом, но все-таки могу досмотреть до конца самый жуткий чернушный фильм о беспроглядном нищенском существовании полных опущенцев где-нибудь в Латинской Америке, однако уже после первых кадров какого-либо латиноамериканского сериала о любви с музыкой и песнями мне хочется немедленно вскочить и выключить телевизор.
А так как, ко всему прочему, я еще не вижу ничего особенно плохого в зле, то получается, что оно для меня практически то же самое, что и добро: я не чувствую между ними никакой существенной разницы, короче говоря… И вот поэтому, при всей простоте и очевидности того, что происходило в тридцатые годы в русской литературе, мне не совсем, не до конца, понятно поведение некоторых тогдашних русских писателей. И больше всего меня озадачивает Хармс.
Ясно, к примеру, что такие, как Мандельштам и Белый, были тогда уже совершенно отставшими от жизни людьми – это бросается в глаза и невозможно не заметить. Как ни печально осознавать, но они были обречены, и сегодня, с дистанции времени, это прекрасно видно. Личности же вроде Платонова и вовсе являлись умственно отсталыми, то есть элементарно отставшими от окружающих в своем умственном развитии, и с ними тоже вроде как все понятно… Однако Хармс мне всегда представлялся вполне полноценным и современным (само собой по отношению к тому времени) молодым человеком. И что ему мешало тоже писать исключительно о добре, как это и делал, например, тот же Маршак, находившийся с Хармсом в приятельских отношениях? Или же как чуть позднее Михалков?.. Ведь писал же Хармс вполне добродушные и веселые стихи для детей: например, про «самовар Иван Иваныч» и т. п. А значит, он, возможно, и вправду испытывал какое-то чувство симпатии к людям, хотя бы даже и маленьким и еще не успевшим до конца вырасти – о себе, к примеру, я такого сказать не могу. Но даже если это не так, то вряд ли Хармс не понимал, что подавляющее большинство людей очень мало отличаются по своим умственным способностям от маленьких детей, поэтому он все равно вполне способен был создавать точно такие же добрые и шутливые произведения, обращенные к взрослым. Наверняка, он это понимал, судя по его дневникам, и вообще… Но почему не сочинял добрых произведений, обращенных к взрослым, – не ясно! А ведь в результате этот абсурдный «прокол» фактически стоил ему жизни! С этой точки зрения, Хармс, на мой взгляд, является самой загадочной фигурой во всей русской литературе.
Глава 41
Дети или смерть!
А вообще-то, я отчасти понимаю Хармса: делать добро и особенно всю жизнь писать для детей не так уж и легко. С непривычки может и стошнить. Тут надо иметь очень крепкие нервы, как у Маршака или Михалкова, или же, на худой конец, быть каким-нибудь извращенцем-педофилом, как Кэрролл, а у Хармса с нервами было явно не все в порядке, да и с психикой тоже. И дни свои он закончил в дурдоме… Кроме того, писать для детей – это все равно что обращаться к умственно отсталым, потому что все дети гораздо тупее взрослых, – ни фига не знают, вечно все путают, – так что выдержку и терпение надо иметь просто нечеловеческие. Не случайно ведь только во времена сурового коммунистического правления, и особенно в тридцатые годы, когда над писателями висел дамоклов меч: либо пиши для детей, либо смерть, – детская литература расцвела в России пышным цветом, а как только наступили первые либеральные послабления, все сразу же пришло в полный упадок. Нет, сколько соплей ни размазывай по этому поводу, а факты – упрямая вещь, и они говорят сами за себя! В наши дни сказки и прочую дребедень, наверняка, сочиняют исключительно законченные извращенцы, а милиция смотрит на это сквозь пальцы, потому что хоть кто-то должен, в конце концов, заниматься воспитанием подрастающего поколения, иначе ведь оно будет полностью брошено на произвол судьбы. И тогда из этих полностью заброшенных и предоставленных самим себе детей вырастут такие жутики, что мало не покажется. Тут ситуация схожа с игорным бизнесом или, например, с проституцией, которые, как общеизвестно, тоже всегда и везде контролирует мафия, и полиция точно так же смотрит на это сквозь пальцы, потому что необходимо хоть как-то организовывать эту среду и поддерживать там минимальный порядок, а полицейских и для других, более благородных и понятных обществу целей, и то с трудом хватает. Вот и приходится идти на разумный компромисс с преступным миром.
Ну а о детской тупости я знаю само собой не понаслышке. Помню, когда мне было лет примерно восемь, мамаше зачем-то взбрело в голову обучать меня игре на фортепиано. Пианино специально ради этого привез из-за границы отец – красивое, темно-коричневое, из настоящего дерева, клавиши цвета слоновой кости – дивное пианино, настоящее произведение искусства! Внутри золотыми буквами было написано его название – готическая вязь – прочитать было трудно, хоть я тогда начала учить французский язык, поэтому буквы, в принципе, прочитать могла.
Кстати, когда меня принимали в специализированную французскую школу, в которую было очень сложно поступить из-за огромного наплыва желающих, отец даже специально надел свой капитанский мундир и отправился беседовать с директрисой. Он произвел на нее крайне благоприятное впечатление, и директриса решила сама проэкзаменовать потенциальную ученицу, то есть меня, чтобы удостовериться, могу ли я у них учиться. Она очень ласково стала спрашивать, как меня зовут, где я живу, задавала еще какие-то ничего не значащие вопросы, и в конце спросила: «А сколько тебе лет?» И тут я в ужасе поняла, что забыла, сколько мне лет, не знаю точно, я даже лихорадочно стала считать в уме, но сбилась… Пауза затягивалась, мое молчание становилось все более зловещим, а улыбка директрисы все более натянутой. Отец уже побледнел, что у него всегда было признаком ярости, мамаша пыталась что-то мне подсказать, и я, осознав, что все-таки нужно хоть что-то отвечать, набрала в грудь воздуху и, зажмурившись, пробормотала: «Не знаю точно… То ли шесть, то ли семь… А может, и восемь…» Последнее я произнесла уже самым тихим шепотом, потому что бессознательно почувствовала, что восемь – это уже слишком, так как это была какая-то совершенно запредельная цифра. В то же время, когда я посмотрела на себя в зеркало, висевшее на стене в кабинете директрисы, то увидела там такую невероятно огромную девочку, что и сама начала сомневаться – а вдруг и вправду восемь? Лицо директрисы с накрашенными губами склонилось ко мне еще ближе:
– А в школу детей во сколько лет принимают?
Это-то я знала точно, и меня тут же взяла досада – как это я сама не догадалась.
– В семь! – В этом я была точно уверена.
– Ну, так, значит, сколько тебе лет?
– Значит, семь! – по-прежнему не очень уверенно ответила я, хотя уже чувствовала, что это правильный ответ. Мамаша тоже облегченно вздохнула и взяла меня за руку. Мы вышли из кабинета, потом на улицу. Отец был мрачнее тучи и всю дорогу возмущался: «Безобразие! Ребенок не знает, сколько ему лет! Ее, кажется, приняли за дебила! Как такое может быть?» Мамаша оправдывалась, а я все еще пребывала в состоянии ступора, сумятица по-прежнему царила у меня в мыслях: я никак не могла понять, почему это вдруг забыла, сколько мне лет. Правда, в тот день мамаша все равно купила мне пирожных, и мое настроение быстро исправилось.
Еще, помню, я никак не могла научиться писать букву «ж» – эта буква и по сей день вызывает у меня настоящее отвращение, – слава Богу, что есть компьютер. А тогда – о, ужас! – какие грязные фиолетово-жирные, расплывчатые, похожие на огромных гадких тараканов буквы «ж» заполняли целые страницы моей тетради! Все пальцы у меня были измазаны чернилами, а буква «ж» все не получалась – я рисовала в ней слишком много загогулин, и она получалась чересчур широкой, настоящая сороконожка. Помню, как-то у меня даже ужасно разболелась голова, я почувствовала сильную усталость, и мне чуть не стало плохо, а дома отец в очередной раз набросился на меня с руганью за эту поганую букву.
Как раз вскоре после этого мамаша и решила учить меня игре на пианино – кто-то сказал ей, что это занятие дисциплинирует ум. Но меня это совершенно не привлекало – я и так после школы ужасно уставала, а тут еще надо было сидеть на табурете и долбить пальцами по клавишам. Правда, когда у меня впервые получилась мелодия «Жили у бабуси два веселых гуся», я почувствовала бурный восторг и уверенность в собственных силах, но, чтобы продвигаться дальше, нужно было столько всего долбить, учить все эти ноты, ключи, диезы, бемоли, так долго тренироваться – меня эта перспектива просто ужасала. Два раза в неделю ко мне приходила учительница, пожилая дама в очках, очень интеллигентная и тихая. Сперва мне показалось, что она похожа на мою бабушку, и действительно, какое-то сходство было. Но бабушка была очень добрая, все мне позволяла и никогда не ругала, а вот учительница музыки оказалась очень настойчивой и упорной – задавала мне уроки, жутко сердилась, если я их не делала, и сразу же отправлялась жаловаться мамаше. Меня она иногда ужасно раздражала, особенно когда заставляла по двадцать раз долбить совершенно бессмысленные, на мой взгляд, гаммы. Впрочем, долго все это не продлилось: в конце концов, она отказалась от уроков и заявила мамаше, что я слишком тупая и ленивая. Да и родителям надоело со мной сражаться, и про пианино вскоре все забыли. Оно долго еще стояло в углу комнаты, а потом его продали.
И только много позже я узнала, что моя учительница музыки, оказывается, была сестрой Бахтерева, поэта из ОБЭРИУ… Хотя и Хармса я тоже узнала гораздо раньше, чем это неблагозвучное и труднопроизносимое слово. Его короткое и звучное имя очень легко запоминалось, кроме того, я очень часто читала его книжку про самовар Иван Иваныч. А иногда в детских журналах мне попадались другие его стихи, и там я как-то увидела портрет и самого автора: высокий, тощий, как жердь, мужик, в идиотской шапочке, похожей на шлем, с изогнутой трубочкой во рту, дебильным курносым носом, почти как у меня, и еще с каким-то дурацким полосатым шарфиком на шее. Этакая разновидность дяди Степы: беззаботный интеллигент на прогулке. В то время данный персонаж вызывал у меня сильнейшую неприязнь. Я даже зачирикала его черным карандашом, чтобы не видеть – так я обычно поступала всегда с картинками, которые меня раздражали. А больше всего меня раздражали: девочка Лялечка, жертва диких зверей из книги про Крокодила, Ванечка и Танечка, сбежавшие в Африку, а также жирный бородатый мужик с обрезом из книжки про Павлика Морозова.
В детстве я вообще ни одну мысль до конца додумать не могла, и, кажется, эта особенность психики у меня сохранилась до сих пор: только начинаю о чем-нибудь думать, и почти сразу же в голове все так расплывается, расплывается, словно туман какой, и по-своему это даже приятно, потому что постепенно меня начинает клонить в сон, а я больше всего на свете всегда любила спать. Раньше я еще очень любила есть, особенно булочки разные и пирожки, а теперь есть мне надоело, так что больше всего мне нравится спать. Я бы так всю жизнь и спала, наверное, но вот не удается: вечно меня все дергают, мешают, тащат куда-то. Хотя внешне я всегда хотела выглядеть собранной и энергичной. Может, иногда мне это даже и удавалось, но я не уверена. Стоит мне посмотреть на себя в зеркало, как я вижу там такую расплывчатую физиономию, на которой как будто навсегда отпечаталась подушка. Раньше меня это очень огорчало, можно даже сказать, в депрессию повергало. А теперь плевать! Просто я уже так много на протяжении своей жизни видела фотографий и портретов разных людей, в том числе и писателей, что поняла – не так уж страшно иметь такое лицо, как у меня.
Однако я очень отчетливо запомнила то потрясение, которое я испытала, когда впервые увидела портрет Зинаиды Гиппиус. В первое мгновение я даже испугалась, причем довольно сильно. И еще долго эта дама внушала мне сильный страх: такая строгая стильная, красивая, интеллектуальная, худющая, прямо иссушенная, да еще с сигаретой, и поглядывающая на весь мир свысока. После того как я увидела портрет Гиппиус, мне окончательно захотелось зарыться под одеяло, закрыть голову подушкой и спать, спать, спать!
А больше всего меня бесило то, что я никогда, никогда не смогу стать похожей на Гиппиус, даже если от меня вообще останутся кожа да кости, как у узников Освенцима. Иногда, в состоянии депрессии я вообще переставала есть, ну разве что самую малость ела, чтобы хоть как-то поддержать жизненные силы. Но даже когда я становилась очень и очень худой, я все равно не находила в себе никакого сходства с ней.
Постепенно, впрочем, эти мои ощущения утратили свою первоначальную остроту, а потом Гиппиус и вовсе перестала меня интересовать: после того, как я прочитала внимательнейшим образом ее дневники, где она, среди прочего, описывала и свой роман с Савинковым. То есть не совсем состоявшийся роман, а, можно сказать, виртуальный. Она писала там об одном волнующем моменте, когда что-то могло между ними случиться: прерывистое дыхание, шепот, дрожание рук, – но… ничего не случилось. Гиппиус что-то не так сделала, не так посмотрела, что ли… Однако меня она все равно после этого совершенно перестала интересовать, даже не знаю почему, но это так. Просто я представила себе, как плотный господин, со склонностью к полноте, каковым, судя по портретам, был Савенков, и утонченная стильная дама, сцепившись в жарких объятиях, по дороге натыкаясь на буфеты и круша дорогой хрусталь, хрипло дыша, продвигаются по направлению к постели… И все! Больше я так и не смогла избавиться от этой картины, и у меня в сознании навсегда запечатлелись эти крепко сцепившиеся Гиппиус и Савинков… Хотя сам Савинков мне тоже в общем-то всегда нравился. И я потом даже взяла строчку из его стихотворения для фестиваля декаданса в качестве девиза: «Морали нет – есть только красота!»
Глава 42
Эстетический просчет русской литературы
«Морали нет – есть только красота!» – в этом высказывании Савинкова, конечно в несколько утрированном виде, выразилась одна из главных антиномий человеческого духа. Причем такая, которая не кажется мне праздной выдумкой философов, – что само по себе уже удивительно. Так как обычно философы занимаются вовсе не поиском истины, а решают проблемы, которые сами же и создают, высасывая из пальца.
В этом отношении они мне даже чем-то напоминают адвокатов, которые обычно находятся в сговоре с судьями, из-за чего последние неизменно требуют у полуграмотных старушек, чтобы те составляли свои заявления в суд по всем правилам или же, как они выражаются, «по форме». А так как не только старушки, но и большинство нормальных полноценных людей в расцвете лет не представляют себе, как выглядят эти составленные «по форме» заявления, то всем им приходится обращаться за помощью к адвокатам, и, естественно, не бесплатно. За счет этих заявлений и прочих непонятных обычным людям «тонкостей» адвокаты и живут. Судьи, в свою очередь, тоже внакладе не остаются: при случае адвокаты подкидывают им какую-нибудь халявную работенку, отсылая к ним своих простодушных клиентов… Короче говоря, в этой сфере, по моим наблюдениям, сложилась своеобразная круговая порука, необходимая для того, чтобы достаточно большое количество людей имели средства к существованию. И все! Никаких других объективных предпосылок для присутствия в этом мире такого количества адвокатов нет! Потому что, если хорошенько вдуматься, то любое заявление при желании можно прочитать и понять, причем не только составленное «не по форме», но даже если в нем присутствует некоторое количество ошибок.
Вот так и философы! Сами подкидывают друг другу вопросы о первичности материи, духа или же там единстве и борьбе противоположностей, и сами же их потом решают, вовлекая в этот процесс не только находящихся с ними в сговоре представителей смежных профессий из числа психологов и социологов, но и наиболее простодушных читателей, за счет которых они все в основном и существуют. Короче говоря, если человек в молодости поступил на философский факультет, то он потом до пенсии будет ломать себе голову над этими «вечными» вопросами и компостировать мозги окружающим, если только какие-нибудь экстремальные события в обществе не заставят его переквалифицироваться в «челнока», например, или же в торговца бижутерией в ларьке. Только тогда, возможно, его мозг переключится на решение более насущных для человеческого существования проблем. Но большинство – даже страшно подумать – так и умирают, ничего толком не узнав об окружающем мире и жизни. Потому что, если человек с юности привык заниматься какими-то бессмысленными кроссвордами и ребусами, то он рискует постепенно полностью утратить вкус к истине. Так что в данном случае, как и в ситуации с адвокатами, только этим и можно объяснить присутствие в мире такого количества философов. Плюс ко всему, каждый из «глобальных» и «вечных» вопросов, вроде тех, что я назвала выше, еще и делится на множество отдельных подвопросов и подвопросиков. А теперь попробуйте сосчитать: сколько людей должно этим заниматься, и, естественно, тоже не задаром! Печальная картина.
Но самое грустное, что в этот нездоровый процесс оказались вовлечены не только доверчивые читатели, но и некоторые из русских писателей, в том числе и те, кого принято называть «классиками». Увы! Самый яркий пример в этом отношении – Достоевский! И я уже об этом, кажется, писала. Герои Достоевского сплошь и рядом задаются совершено неестественными «вечными» вопросами, которые сегодня, то есть по прошествии всего каких-то ста с небольшим лет, уже практически никого не интересуют. Ну разве это не печально? Кого, к примеру, в наши дни волнует: есть все-таки где-нибудь так называемый «Бог» или же нет? Думаю, практически никого! Если, конечно, не принимать во внимание тех, кто занимается этим вопросом, опять-таки, профессионально, то есть нашел себе в соответствующей сфере деятельности «кормушку». В итоге, Достоевский, скорее всего, останется в истории литературы разве что как создатель «Скверного анекдота», то есть лет так еще через сто вообще рискует превратиться в автора одного произведения, наподобие Грибоедова.
И тем не менее все сказанное мной на противостояние «морали» и «красоты» не распространяется, несмотря на некоторую искусственность и высокопарность двух этих слов. Не только «базельский профессор» Ницше свихнулся, пытаясь проникнуть мыслью «по ту сторону добра и зла», но и любой ларечник или же «челнок» рано или поздно обязательно натолкнется в своей жизни на противоречие между добром и красотой, даже если они никогда не сочиняли специальных диссертаций на эту тему.
Само собой и мне постоянно приходится с этим сталкиваться, а иначе зачем бы я стала разводить здесь всю эту бодягу. Я, например, заметила: чем больше люди зациклены на так называемом «добре», тем меньше они обращают внимания на красоту и все, с ней связанное. В частности, мода на что-нибудь, как правило, таких личностей и вовсе выводит из себя. Удивительно, но то и дело приходится слышать, как какой-нибудь моралист, презрительно скривив губы, с нескрываемым отвращением выдавливает из себя: «Нынче это в моде!» А коммунисты в советские времена так и вовсе вели себя как настоящие маньяки и даже отлавливали на улицах модно подстриженных молодых людей, заставляя их бриться наголо. Оно и понятно: коммунисты уж точно были зациклены на добре и всяческих его разновидностях вроде борьбы за мир во всем мире…
Ну а так называемые «эстеты», ясное дело, наоборот, от одних только слов «добро» или же «нравственность» начинают брезгливо морщиться, так и норовя выкинуть что-нибудь этакое, идущее вразрез с этими понятиями. Как ни странно, обычно им не приходит в голову ничего лучшего, чем напялить на себя что-нибудь суперстильное и модное. И если им это удается, то ярые поборники добра, глядя на них, буквально начинают трястись от злости, особенно если у них нет возможности отлавливать людей на улице и они не знают, как реализовать переполняющие их чувства.
Забавно, но хотя я вроде бы говорю совершенно очевидные и понятные вещи, в реальности все именно так и происходит и, судя по всему, будет происходить вечно: моралисты будут бороться с красотой и модой при помощи добра и морали, а эстеты – с добром при помощи моды и красоты.
Причины же этого поразительного явления мне, честно говоря, не совсем ясны. Может быть, все дело в неуловимости и постоянном ускользании красоты, и вообще, в том, что в чувстве прекрасного, по моим наблюдениям, есть какое-то сходство с чувством юмора, то есть отсутствие одного из этих чувств у человека, как правило, автоматически предполагает и отсутствие другого. А в результате у тех, у кого эти оба чувства отсутствуют или же просто недостаточно развиты, от любого соприкосновения с прекрасным в мозгу и рождается нечто вроде такого глюка, будто бы все вокруг над ним втайне посмеиваются, хотя они до конца не понимают почему. Однако отнестись к этому легко и спокойно, как к шутке, такой обделенный природой человек не в состоянии, в силу того, что он этой «шутки» просто не понимает. По этой же причине он инстинктивно и стремится опереться на что-нибудь простое и понятное типа добра и борьбы за мир во всем мире… В общем, мне кажется, что если и дальше развивать эту мою мысль, то можно докопаться до конечной истины. Однако вся история русской литературы в ХХ веке сама по себе является достаточно яркой иллюстрацией моих слов, так что никаких дополнительных рассуждений даже и не требуется. А главная проблема всей русской литературы (не только последнего столетия) и заключается прежде всего в недооценке значимости таких неуловимых и вечно ускользающих вещей, как стиль и мода, или же, иными словами, в чрезвычайно слабо развитом чувстве прекрасного у подавляющего большинства писателей, что и привело к серьезным эстетическим просчетам, которые самым печальным образом сказались на всем русском самосознании.
Чтобы не быть голословной, приведу всего один пример подобного «просчета» и его «последствий». Мне уже неоднократно приходилось высказывать сожаление по поводу того, что русская классическая литература, целиком и полностью связанная с портовым городом Петербургом, практически не затронула морскую тему. Кое-кто даже, возможно, склонен считать это проявлением банального женского кокетства, так как женщины всегда были как-то особенно неравнодушны к морской форме и морякам. Однако в данном случае, по-моему, все гораздо серьезней. Русские писатели ведь не просто проигнорировали морскую тематику и моряков, а в лице Толстого и Шолохова, еще и сделали ставку, если так можно выразиться, на казаков. И именно с их легкой руки казаки до сих пор остаются как бы символом России. Ничего не хочу сказать плохого о казаках, но сегодня в их облике есть что-то архаичное, неестественное и даже опереточное. Совершенно очевидно, что казачество, выражаясь современным языком, «морально устарело», то есть, в сущности, стало еще одной жертвой прогресса: лошади, шашки и прочая кавалерийская амуниция теперь годятся разве что только для музеев. А в результате в каждом «типичном русском» сегодня, как это ни грустно осознавать, есть что-то от казака: опереточное и морально устаревшее. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И эти последствия, на мой взгляд, оказались куда более серьезными, чем те, о которых предупреждал читателей все тот же Достоевский в своем высоконравственном романе «Бесы». А прежде всего потому, что о них почему-то никто никого не предупреждал. Хотя я, признаюсь, с трудом представляю, как об этом можно было кого-нибудь предупредить.
Одним словом, вот что значит сделать неверный эстетический выбор! Нисколько не сомневаюсь, что для России было бы гораздо лучше, если бы она связала свою «литературную судьбу» с морем и моряками. Конечно, за прошедшие два столетия техническое оснащение флота тоже сильно изменилось, но во внешнем облике моряка, как и в смысле его деятельности, не изменилось практически ничего. Не случайно ведь корабль и море всегда и везде были вечными символами человеческой жизни. И женщины, которые – что правда, то правда – всегда были неравнодушны к морякам, видимо, просто лучше других инстинктивно чувствуют эту их непреходящую жизненность и актуальность.
Глава 43
Утопия всегда рядом
С другой стороны, в слове «модный» тоже есть что-то обывательское и комичное. Даже не знаю почему… Возможно, все дело в неуловимости этого понятия? В самом деле, если кто-то вдруг всерьез начинает считать что-либо «модным», то он, скорее всего, впадает в глубокое заблуждение. И, в сущности, все люди, и вообще весь мир пребывают в вечном заблуждении на этот счет. В том-то все и дело, что то или иное явление остается модным только до того самого момента, пока не будет названо таковым вслух. И именно неуловимость моды, видимо, больше всего и выводит из себя обывателей, которые, как я уже сказала, любят все весомое, зримое и основательное: машины, зарплаты, квартиры, дачи… А моду не только нельзя потрогать руками – она практически неуловима для глаз, настолько эфемерна! Да существует ли она вообще?! Не сомневаюсь, что именно этот вопрос время от времени возникает в мозгу у большинства людей. А вдруг все эти вырядившиеся в рваные потертые джинсы отморозки просто сговорились между собой, чтобы над ними поиздеваться?! И отчасти эти подозрения справедливы, но только отчасти… Все дело в том, что, оказавшись перед лицом этого загадочного явления, обыватель не просто бывает смешон, а смешон вдвойне, потому что, как правило, он даже отрицает только то, что либо уже давно вышло из моды, либо таковым никогда не было! Иными словами, обыватели, в сущности, не способны себя даже противопоставить моде, несмотря на брезгливую гримасу, которая обычно возникает у них на лице при этом слове. Нечто подобное, на мой взгляд, можно было бы сказать и про стиль. Господствующий в искусстве стиль столь же неуловим, как и мода.
И тем не менее, как это ни парадоксально звучит, я думаю, что стиль и мода во все времена сильнее всего волновали именно обывателей. Хотя бы потому, что никакого искусства вообще, и литературы в частности, на самом деле не существует… Короче говоря, мода, стиль, да и искусство тоже всегда существовали только в обыденном сознании, то есть как заблуждение обывателей на их счет. Если же хоть на мгновение представить себе, что в мире вдруг остались одни гении, то искусство, видимо, сразу же утратило бы даже и эти свои эфемерные очертания, превратившись в абсолютное ничто, пустоту. Ибо гений, как я уже неоднократно говорила, – это тот, кто не боится остаться один на один с пустотой.
Никогда не забуду, как несколько лет назад в одном телевизионном шоу какая-то еще молодая, но уже довольно-таки потрепанная баба с крашеными белесыми волосами призналась, что приехала в Москву из провинции и на протяжении длительного времени занималась там проституцией только ради того… чтобы заработать деньги и издать сборник собственных стихов. Конечно, у нее была еще и маленькая дочурка, ради которой тоже она надрывалась на столь тяжелой работе, однако сборник стихотворений значил для нее, судя по всему, ничуть не меньше и даже больше! В довершение всего она не заставила ведущего этого шоу себя слишком долго упрашивать и продекламировала вслух одно из своих стихотворений. Точно его воспроизвести я сейчас уже не в состоянии, но общий смысл прочитанного сводился к описанию того, как она «идет навстречу солнцу, преисполненная любви к людям», ну или же что-то в этом роде. Короче говоря, стихотворение представляло собой типичный образчик того, что обычно принято называть «графоманией». Однако дело даже не в этом. Больше всего меня поразило то, что, занимаясь таким приземленным и сопряженным со множеством неприятных моментов ремеслом, то есть постоянно соприкасаясь с наиболее мрачной и опасной стороной жизни, включая всевозможные разборки со своими сутенерами или подвыпившими клиентами из числа законченных уголовников, эта баба не только сохранила в своей душе веру в любовь и символический «солнечный свет», на встречу с которым она якобы шла в своих стихах, но и убеждение в том, что в литературе царят какие-то совсем иные, не такие жесткие, как в ее жизни, законы, а откровенная туфта, которую она сочинила, способна принести ей чуть ли не мировую известность и бабки. Последнее мне кажется наиболее удивительным, так как не совсем понятно, откуда у человека, с огромным трудом зарабатывающего себе на пропитание, столь идиллические представления о нравах, царящих в литературном мире. Куда логичнее было бы, если бы она инстинктивно перенесла опыт всей своей жизни и в эту сферу. И самое главное, ближе к истине!
Нечто подобное, вероятно, можно сказать и о литературоведах, чья трудовая деятельность, может быть, и не сопряжена с такими опасностями, как занятие проституцией, но все равно, наверняка, полна всевозможных интриг и склок, как и жизнь практически любого человека, однако и у них получается, что литература существует по каким-то совершенно ирреальным и оторванным от жизни законам. Причем в данном случае эти представления порой бывают столь причудливыми, что так просто, в двух словах, их тут и не изложишь. Однако, по сути, и все эти замысловатые «литературоведческие теории» мало чем отличаются от взглядов на литературу той крашеной блондинки, решившей чуть ли не пожертвовать собой и малолетней дочкой ради издания своих дебильных творений. Подавляющее большинство литературоведов, судя по всему, тоже, подобно ей, склонны считать, что литературой занимаются исключительно полные лохи. Более того, современная литература во многом обязана своим существованием именно всевозможным теоретикам, так как является почти исключительным продуктом их ошибочных представлений об этой сфере человеческой деятельности.
На этом фоне заблуждение большевиков, учредивших Литературный институт и перепутавших литературу с производством, даже выглядит более понятным и объяснимым. Как-никак, они все-таки верили в мессианскую роль пролетариата, отводили ему центральное место в истории! Тут, мне кажется, можно нащупать хоть какую-то логику. Перепутал же, в конце концов, врач Леонтьев Россию со своим тяжело больным пациентом. Так почему же и простой рабочий не мог спутать искусство со своим заводом?! Это как раз понятно! Однако в бесконечных потоках расслабленной графомании, хлынувших из-под пера прошедших тернистый путь обучения, дипломированных советских писателей и поэтов, опять-таки просвечивает откровенное неуважение к литературе, столь же необъяснимое, как и в двух описанных мной выше случаях.
Конечно, впавший в маразм Державин, смахивающий слезу умиления над виршами юного Пушкина, или же Белинский с Некрасовым, всю ночь напролет запоем читающие рукопись молодого Достоевского, как и прочие лубочные картинки такого же рода, настраивают их потомков на идиотический лад, но ведь у каждого человека, в конце концов, должна быть еще и собственная голова на плечах! Вроде бы не так уж и трудно додуматься до того, что литературой, в основной массе, занимаются люди, мало отличающиеся от твоих соседей по коммунальной квартире, которые, того и гляди, подсыплют тебе в кастрюлю с супом убойную дозу мышьяка. Ан, нет!
Еще совсем недавно, казалось бы, сладкий голос с экрана телевизора обещал какие-то неслыханные проценты каждому, кто вложит свои бабки в какой-нибудь банк или же там «Русский Дом Селенга», а последний, ко всему прочему, еще и желал всем счастья. Однако далеко не все клюнули на эту удочку, хотя и очереди к подобным учреждениям тоже, надо сказать, выстраивались немалые. Интересно, что на сей раз эти длинные очереди как бы объединили и «поставили в один ряд», в буквальном смысле этих слов, и проституток, и профессоров, и писателей. И каждый, вложивший свои потом и кровью заработанные деньги в подобные учреждения, на мой взгляд, был движим точно таким же глубоким неуважением к их основателям, и вообще, к этой сфере человеческой деятельности, как и в случае с литературой. Я бы даже сказала, что если учредители всевозможных «лохотронов» и вступают в конфликт с нравственностью и этикой (о чем постоянно все твердят), то и так называемые «обманутые вкладчики» тоже находятся не в ладу с эстетикой и красотой (о чем почему-то говорить не принято). Однако кто бы там что ни говорил, но для меня совершенно очевидно, что если бандиты и мошенники, опускающие на бабки своих сограждан, самым очевидным образом выражают свое пренебрежение к труду всевозможных ветеранов, пенсионеров, ученых, учителей и т. п., то и те, кто им эти бабки с легкостью отдает, тоже неуважительно относятся к рискованной и опасной деятельности бандитов и мошенников, принимая их за каких-то добропорядочных налогоплательщиков, дурачков и лохов. Я хочу сказать, что и в желании получить халявные бабки из ничего тоже заложено какое-то неуважение и даже презрение к неким основам человеческого бытия, причем по-своему даже более глубоким и важным, чем так называемая нравственность.
Возможно, в случае с литературой этот «эстетический конфликт» обозначен чуть более явно, но лично я не вижу между всеми описанными мной тут ситуациями большой разницы. Разве что «финансовые пирамиды» – это такое мимолетное веянье времени, а заблуждение обывателей на счет литературы носит, если так можно выразиться, хронический и непреходящий характер. Оно воистину вечно! Настолько непреходяще и вечно, что даже немного пугает! А если попытаться представить себе ту незримую очередь из желающих на халяву въехать в литературу, получить бабки и славу за счет каких-нибудь наспех состряпанных виршей «про любовь» и «солнечный свет», то и вовсе может крыша поехать от такого фантастического зрелища. Нисколько не сомневаюсь, что такая очередь несколько раз обогнула бы земной шар.
А все потому, что никакой литературы на самом деле не существует! И сама по себе вера в ее существование уже является глубоким заблуждением. Потому что литература – это даже не вера в конечное торжество всеобщего счастья на земле. Это такая утопия, которая никогда не кончается и всегда рядом! Иными словами, нет никакого смысла пытаться отделить литературу от собственной жизни, и каждый, кто в той или иной форме пытается это сделать, по сути, просто чего-то недопонял в жизни. Точно так же, как и тот, кто доверчиво вкладывает свои бабки в какой-нибудь бандитский синдикат, прежде всего тоже чего-то еще не понял – именно в жизни, а не в экономике.
Глава 44
Образы пустоты
И все-таки порой мне даже обидно, что я почти не знаю писательскую среду. Наверное, я и сама могла бы закончить Литинститут и, таким образом, постичь все тонкости этой профессии. И действовала бы я тогда именно профессионально, а не просто так, «с потолка», как мне теперь поневоле приходится работать, не имея диплома о высшем писательском образовании. Ничего не поделаешь: хочешь жить – умей вертеться! Смешно сказать, но иногда действительно посмотришь на потолок, и в голову сразу же приходят всякие мысли. Такое уж это чудесное место – потолок, неиссякаемый кладезь человеческой мудрости, но диплома он все равно не заменит.
Больше всего меня всегда интересовал писательский жаргон, потому что именно в языке, как правило, и заложены главные характерные особенности каждой профессии, призванные отличить посвященного от непосвященного. Я, например, очень хорошо знаю – с детства привыкла, что компас на флоте надо называть компаc, с ударением на последнем слоге. Правда это уже, наверное, не только я, а любой школьник знает, но есть и другие тонкости. Настоящий моряк, например, никогда не назовет пол «полом», а тот же потолок (кладезь человеческой мудрости) – «потолком», но только – «палубой» и «подволоком». Не говоря уже о том, что моряки не плавают, а «ходят», потому что плавают только обычные люди в бассейне, да еще дерьмо в проруби… Точно так же, как и профессиональный вор или же спекулянт никогда не скажет «украл» или же «перекупил», а только «взял», и опять-таки, потому что крадут и покупают только непосвященные лохи, а настоящие преступники берут, действуя по принципу: «Все твое и ваше – теперь мое и наше!» Милиционеры, в свою очередь, называют осужденных «осужденными», с ударением на «у», а военные называют кобуру «кабурой», перенося ударение на первый слог, и даже интеллигентнейшие дипломированные врачи в пенсне и с бородкой, как у Чехова, и те говорят «алкоголь», тоже с ударением на первом слоге… А все для чего? Да для того, чтобы отличать посвященных в тонкости своей профессии от непосвященных лохов. Думаю, что слово «лохи» в данном случае применимо в обобщенном смысле практически к любому человеку, а не только к доверчивым людям, которых так называют прожженные жулики всех мастей.
К примеру, я очень хорошо себе представляю ситуацию, когда какой-нибудь пронырливый наглый мудак вдруг возьмет да и купит себе диплом врача, точнее, даже не купит, раз уж на то пошло, а возьмет да и «возьмет» себе диплом. В наши дни ведь это запросто, даже учиться не надо, были бы только бабки: пошел и купил, точнее, «взял»… Так вот, диплом-то он себе «возьмет» без труда, а потом вдруг возьмет и ляпнет где-нибудь «алкоголь», ну так, как обычно произносят это слово обычные люди, с ударением на последнем слоге. И все! Он попался. Его разоблачат раньше, чем он достанет скальпель и отправится в операционную, чтобы там кого-нибудь прирезать. Вот насколько бывают важны такие языковые профессиональные тонкости! И самое главное, описанная мной ситуация позволяет очень наглядно себе представить, что даже самый матерый и закоренелый преступник, то есть человек, в сущности, не ставящий ни во что чужую жизнь, и тот запросто может очутиться по отношению к представителям самой гуманной в мире профессии в пенсне и с бородками, как у Чехова, в унизительном положении полного «лоха». В аналогичной ситуации запросто может оказаться и какой-нибудь потомок белых эмигрантов, выпускник Оксфорда, проникший в расположение наших войск в качестве агента. Его безукоризненный русский язык способен сыграть с ним злую шутку, так как он тут же проколется с неверно, точнее, верно поставленным ударением в слове «кобура». Короче говоря, пресловутая неотесанность и грубость отечественных прапорщиков и старшин – есть чистая видимость и обманчивая иллюзия, за которой также скрывается глубокая тайна, доступная только глазу и уху посвященных.
Сказать по правде, в моих глазах человеческая жизнь тоже не очень-то многого стоит. Нет, не то чтобы я тоже могла запросто обзавестись поддельным дипломом и ойти прирезать кого-нибудь скальпелем, но значимость человеческой жизни я не переоцениваю определенно. И потому вот эта, мысленно смоделированная мной же самой ситуация, когда матерый преступник оказывается в положении непосвященного дурачка, меня, честно говоря, очень настораживает. А вдруг профессиональные писатели и выпускники Литинститута, над которыми я с детства привыкла подхихикивать, в свою очередь, тоже вовсю веселятся, глядя на меня?! Я ведь даже до сих пор толком так и не разобралась, как правильно надо поизносить такое слово, как «произведение», например. Скорее всего, тоже ведь как-нибудь с ударением на первом «е», но мне это до сих пор неизвестно. Хорошо еще, что в письменной речи это практически неразличимо. Просто пишешь «произведение», и все. А как там настоящие профессионалы его выговаривают в своем узком кругу – не так уж и важно, тем более что в жизни я с ними практически не встречаюсь. Однако могут быть и другие неведомые мне тонкости. Например, вместо «произведение» дипломированные писатели и поэты могут употреблять исключительно слово «текст» или же и вовсе какое-нибудь «нетленка», то есть то, что не подвержено окончательному тлению – в жаргонных словечках часто присутствует определенная доля ироничного преувеличения и экспрессии. Очень может быть, но таким, как я, об этом остается только гадать.
И если хорошенько подумать, то что, собственно, я могу противопоставить подобному, сугубо профессиональному, взгляду на вещи? Помню, когда в начале девяностых только что вышел мой перевод «Смерти в кредит» Селина, издательница (а это была одна очень экстравагантная дама) попросила меня представить эту книгу на небольшой книжной ярмарке, которая как раз проходила тогда в Репино под Петербургом. Ничего особенного от меня не требовалось – просто я должна была арендовать столик, выложить на него несколько экземпляров книги и спокойно сидеть и ждать, когда вокруг меня столпятся книготорговцы со всех концов России, жаждущие заключить со мной контракт. С каждого такого контракта я автоматически получала чуть ли не двадцать процентов от общей суммы сделки, и даже их бланки мне уже были специально высланы из Москвы, так что мне оставалось только их заполнить в случае необходимости. Короче говоря, я могла заработать кучу денег, причем без особого труда, потому что сидеть за столиком и ничего не делать, как ни крути, а все-таки гораздо легче, чем переводить того же Селина, например. Получалось, что за один день я могу заработать чуть ли не на порядок больше, чем за восемь лет кропотливого труда, а именно столько времени я потратила на свой первый перевод. Короче говоря, я арендовала столик, выложила на него книги и стала ждать…
О, это была моя первая встреча с миром профессионалов! В данном случае, правда, из книготоргового бизнеса, но все равно. И пожалуй, никогда больше – ни до, ни после – мне не приходилось выслушивать столько снисходительных и унизительных замечаний в свой адрес, не говоря уже о насмешливых взглядах, которые я в тот день постоянно ловила на себе. Примерно половина из тех, кто тогда проявил интерес к моему столику, сначала долго и внимательно изучал книгу, ощупывал твердый и внушительный корешок, вертел ее в руках и так, и эдак, и только потом, наконец, пробегал глазами по названию и произносил вслух: «Смерть в кредит»? Нет, сейчас зарубежные детективы больше не идут. Опоздали, мадам…» Ко всему прочему, издательница моего перевода зачем-то разместила на суперобложке голый женский зад с репродукции картины модного в те годы художника Фукса, так что все остальные из приближавшихся ко мне даже не брали в руки книгу, а просто брезгливо морщились и презрительно цедили сквозь зубы что-то вроде: «Достали уже со своей эротикой!» Естественно, поначалу я пыталась было что-то возражать, но вскоре поняла, что это бесполезно, потому что, если твой собеседник по каким-то причинам не знает, кто такой Селин, то это ему так просто и не объяснишь. Впрочем, в этом я убедилась еще задолго до ярмарки, – когда искала издателя для своего перевода. В общем, в тот день я так ничего и не заработала. Все оказалось далеко не так просто, как я думала. Кое-какие договоры, правда, я все-таки заключила, но и они, судя по всему, в дальнейшем не получили подтверждения. Никаких процентов с них я, во всяком случае, так никогда и не увидела. Видимо, те, кто эти договоры поначалу подписал, в дальнейшем тоже от них отказались, когда выяснили, что Селин – это никакая не эротика и не детектив, как они первоначально подумали.
Я специально так подробно излагаю эту невыдуманную историю, чтобы каждый мог как можно явственнее почувствовать и осознать совершенно реальную и невыдуманную разницу, а возможно, даже и пропасть, которая отделяет гения от всевозможных обывателей-профессионалов. Тем более что в данном случае речь идет о Селине, а не обо мне. Селина ведь как-никак изучают селинисты всего мира, его издают в «Плеяде» у Галлимара, биографы пишут его многотомные биографии и т. д., и т. п., то есть этот писатель отвечает всем формальным признакам гения, что бы там ни говорили его недоброжелатели. Так что мое присутствие на ярмарке в качестве продавца его книг не способно замутнить совершено обнаженный смысл случившегося, который заключается в полном одиночестве и изолированности гения от окружающих. Еще бы, ведь презрительными насмешками осыпали прежде всего уже признанного всем цивилизованным миром гения, Селина, а не меня…
Нет, что ни говори, но, несмотря на кажущуюся обыденность описанной мной ситуации, такое в новейшей истории человечества случалось не часто. Разве что в библейские времена, когда в образе обычного человека этот мир решил посетить сам Господь Бог, о котором к тому моменту тоже ведь уже были написаны целые тома всевозможных сочинений и исследований, составившие впоследствии увесистый том Ветхого Завета. Определенные аналогии тут напрашиваются сами собой… То есть, я хочу сказать, что, подобно тому, как Библия является ключевой книгой для понимания истории человечества на протяжении последних двух тысячелетий, описанная мной ситуация вполне может служить своеобразным ключом к пониманию всей истории русской литературы, уложившейся в два прошедших столетия.
Главная проблема гениев, на мой взгляд, заключается в отсутствии у них специального языка, способного отделить посвященных от непосвященных, наподобие того, как это обычно происходит во всех упомянутых мной выше случаях с «компасом», «алкоголем», «осужденными» и пр., пр., пр. Разгадка же этой видимой странной «бесплотности» гениальности, не способной облачиться даже в какую-либо минимальную словесную оболочку, заключается в том, что, как я уже неоднократно писала и говорила, никакой литературы на самом деле не существует и никогда не существовало. Гений тот, у кого хватает мужества остаться один на один с вечностью, то есть фактически ни с чем, с пустотой.
Признаюсь, мне с некоторой грустью приходится наблюдать, как под напором обыденных представлений об искусстве современная поэзия утрачивает свои традиционные очертания и все больше становится похожа на прозу. В столбик сегодня отваживаются писать фактически только дипломированные специалисты в этой сфере, то есть выпускники Литинститута.
В последнее время я, кажется, слишком часто стала употреблять слово «пустота». На первый взгляд, вроде бы ничего страшного, потому что внешне это слово не такое уж и заумное: пустота и пустота… Но тем не менее, кажется, его активно используют всевозможные буддийские схоласты, а значит, так, чего доброго, и меня могут заподозрить в чем-нибудь подобном, в какой-нибудь склонности к отвлеченной схоластике, а это было бы в высшей степени несправедливо, потому что я под этим словом не подразумеваю ничего сверхъестественного, никакой особенной нирваны или же неожиданного просветления. Конечно, не исключено, что у каждого, кто прочитает мою историю русской литературы, в голове слегка и прояснится, поубавится туману, но такого, чтобы достичь полного и абсолютного Просветления, впасть в транс, начать кататься от восторга по полу или же, наоборот, скакать до потолка… Нет, такого я не гарантирую. Да, честно говоря, мне бы этого и не хотелось, потому что в своей жизни мне два или три раза уже приходилось наблюдать, как человек, по его утверждению погрузившийся в нирвану и достигший полного и абсолютного Просветления, вдруг начинал кататься по полу, дергаться всем телом и еще лихорадочно приплясывать. Зрелище, должна признаться, не из приятных, хотя, видимо, мне еще повезло, потому что во всех известных мне случаях дело заканчивалось более или менее благополучно, то есть приехавшие со «скорой» санитары забирали моих знакомых в психушку, где их хотя и с большим трудом, но возвращали в обычное, «допросветленное» состояние. А ведь человек в подобном приливе чувств запросто мог бы и в окошко сигануть или там с крыши высотного здания, тогда результат этого Просветления мог бы оказаться еще более печальным.
Моя подруга в прошлом году ездила с тургруппой в Сингапур, и местные монахи из буддийских монастырей произвели на нее, надо сказать, крайне отталкивающее впечатление. Не могу точно объяснить почему, но кажется, своим не слишком опрятным видом: в частности, почти у всех из них, по ее словам, почему-то были нестриженые и грязные ногти. Но это уже так, к слову, чтобы было понятнее, почему в моем употреблении слова «пустота» не следует искать ничего буддийского, никакого двойного смысла и намеков на что-либо сверхъестественное. Просто я заметила, что обыватели любят все основательное, разные там квартиры, машины и дачи, поэтому именно «пустота» своей бесплотностью и неуловимостью должна больше всего их раздражать и отталкивать. А я вот, наоборот, привязалась к этому слову или же, точнее, оно ко мне… Видимо, если слишком часто повторять одно и то же слово, оно поневоле начинает приобретать некий терминологический и научный оттенок, хотя в данном случае это вовсе не так!
Совсем недавно мне пришлось выслушать очень трогательную историю из уст одного моего приятеля, который живет сейчас один в двухкомнатной квартире на Петроградской. Эту квартиру он в свое время выменял сложнейшими путями, кажется, даже при помощи фиктивного брака. Хотя поначалу ему все равно досталась только комната, а в соседней жила старушка со своим алкоголическим сыном-уголовником. И старушка и сынок, по словам моего приятеля, полностью подпадали под описанный Ломброзо тип прирожденных преступников: низкий лоб, приплюснутый нос, оттопыренные уши, – в общем, один к одному. Сын периодически ненадолго исчезал, а потом, вернувшись из очередной отсидки, устраивал пьяные дебоши. И мой приятель вынужден был сквозь тонкую перегородку выслушивать их беседы с мамой: «Мама, бабки дайте, портвейн кончается! – Сука паршивая тебе мама, ее и проси! – Мама, идите на хер! – А ты за хер!..» Потом старушка наконец померла, и приятель купил комнату по дешевке у ее алкаша-сына, тогда уже вся квартира стала принадлежать ему.
Но случилось так, что один его старинный друг (если не ошибаюсь, то его звали Саша, и он был родом из Баку) попросил временно дать ему приют, так как ему тогда было совсем негде жить. Вообще-то, до этого Саша жил у своего знакомого композитора, но случилось так, что они поссорились, причем не на шутку. Мой приятель, которого звали Евгений, естественно, с радостью согласился – ведь он знал Сашу еще с университетских времен, и отношения у них всегда были просто прекрасные. Короче говоря, Саша временно вселился к Евгению, но вскоре дело как-то так повернулось, что Евгению пришлось Сашу к себе еще и прописать – не помню уже для чего, но для чего-то это понадобилось. И таким образом, Саша прожил у Евгения года два. Правда, он очень скоро помирился и со своим другом-композитором, поэтому жил то у него в квартире на Мойке, в каком-то стенном шкафу у самой входной двери – это место выделил ему композитор, – то у Евгения, где у него была нормальная полноценная комната, целых двенадцать метров. К тому же и характер у Евгения был хороший: он всегда легко сходился с людьми и никого особо не доставал. Таким образом, как я уже сказала, прошло два года… И вдруг как-то поздно вечером Саша вернулся в квартиру к Евгению с грустным лицом, чуть ли не со слезами на глазах, и заявил, что вынужден просить, чтобы Евгений купил ту комнату, где сейчас обосновался Саша, за восемь тысяч долларов. «То есть как, – удивился Евгений, – я должен свою собственную комнату покупать у себя самого за восемь тысяч баксов?» – «Да нет, не у себя самого, а у меня, – возразил ему Саша, – ведь это же я в ней прописан, а стало быть, и комната моя. Просто мой друг-композитор собрался переезжать в другой район и продает свою квартиру на Мойке, так что ему срочно нужны деньги, чтобы обеспечить себе достойное жилье». Евгений сперва подумал, что это шутка, но нет, Саша был настроен вполне серьезно: он требовал, чтобы Евгений заплатил ему за комнату, в которой он жил, восемь тысяч долларов, хотя таких денег у Евгения никогда не было, и Саша это прекрасно знал. «Тогда продай квартиру своего отца, – хладнокровно посоветовал Саша, – и деньги должны быть у меня через месяц, а не то я обменяю эту комнату, и ты опять окажешься в коммуналке. И обещаю тебе – у тебя будет такой сосед, что о прежних ты будешь вспоминать с ностальгией». И действительно, полгода назад у Евгения умер отец, и ему в наследство осталась трехкомнатная квартира в Гатчине, которую он пока сдавал, а деньги откладывал, чтобы наконец-то съездить в отпуск куда-нибудь на Кипр или же в Турцию, чтобы там как следует оттянуться и отдохнуть от всей этой окружавшей его нищеты и серости. И тут такая подстава! А ведь он даже денег за жилье с него никогда не брал!.. Тем не менее Евгению все-таки пришлось продать квартиру отца, чтобы расплатиться с Сашей, и только после этого тот выписался и оставил Евгения в покое.
Однако примерно через год они снова помирились. Как-то на Масленицу Саша неожиданно пришел к Евгению с огромной кастрюлей блинов, они выпили, и Саша начал жаловаться, что композитор теперь полностью перешел на его иждивение, денег у них совсем не стало, и, ко всему прочему, они еще и переехали в какую-то жуткую дыру на Промышленной улице рядом с площадью Стачек. «А куда же делись все бабки от продажи квартиры на Мойке и те?» – удивился Евгений. Саша начал бормотать что-то невнятное, а потом под большим секретом признался, что его друг и покровитель испытывает непреодолимую страсть к игре, в своем роде это болезнь, почти как у Достоевского, поэтому он все деньги почти сразу же проиграл в казино. Эта история окончательно смягчила сердце Евгения, и он совершенно простил своему другу все его прегрешения. Но где-то через неделю Саша снова явился к Евгению и сказал, что забыл у него кастрюлю из-под блинов и крышку от нее. Вот в этот момент, признался мне Евгений, рассказывая мне эту историю, на него наконец-то снизошло настоящее Просветление – я пишу тут это слово с большой буквы, потому что, описывая мне все эти трагические события, мой приятель произнес его с каким-то особым и не передаваемым на письме иными средствами выражением в голосе, хотя на самом деле он всего лишь окончательно решил порвать все отношения с Сашей, несмотря на то, что кастрюлю с крышкой он ему все-таки вернул.
Я так подробно пересказываю тут эту историю, потому что внешне в ней и вправду, по-моему, есть нечто общее со стандартной дзенской притчей, главный герой которой в конце обязательно достигает Просветления. Но это сходство носит чисто поверхностный характер. Точно так же и в моем понимании пустоты, вероятно, есть какое-то внешнее сходство с Пустотой из буддийской схоластики, однако я вкладываю в это слово примерно такой же смысл, какой вкладывал в слово «просветление» Евгений, когда рассказывал мне свою историю. И не более!
Потолок, к примеру, являет собой замечательный образ такой пустоты, особенно слегка пожелтевший от времени, с трещинами и подтеками. Вид такого потолка наверняка должен выводить из себя обывателей, а уж о мыслях, «взятых» с этого потолка, и говорить нечего. Потому что это уже не просто пустота, а настоящее запустение!.. Лично я давно заметила, что потолок у меня дома навевает очень печальные мысли и настраивает на лирический лад, поэтому порой даже не хочется поднимать глаза кверху, особенно когда у меня и без того тоскливое настроение. Однако свежевыбеленный и гладкий потолок в квартире моей мамаши почему-то нагоняет на меня еще большую тоску, даже не знаю почему – скорее всего, тут замешаны какие-то детские впечатления.
Как бы то ни было, самые «пустые» и легкомысленные персонажи русской литературы всегда – вне зависимости от настроения – казались мне наиболее привлекательными, причем не просто глупые или тем более тупые, а именно «пустые». Об Эллочке-Людоедке и чеховской «Попрыгунье» я уже писала, а о Дантесе и говорить нечего – он прекрасен и неподражаем! Но особенно удачно такие типажи почему-то получались у Толстого: холеная Элен с обнаженными, холодными, как мрамор, плечами, или же ветреный Анатоль… Наверное, потому что Толстой больше других вкладывал в эти образы свою ненависть к ним. Нисколько не сомневаюсь, что именно по этой причине Толстой является едва ли не самым культовым писателем в среде отечественных обывателей: этот, по меткому выражению Ленина, «матерый человечище», наверняка притягивает их к себе своей основательностью, ну и вообще, грандиозными масштабами своей личности. В нем и в самом деле есть что-то очень солидное и внушительное, почти как в трехэтажной даче, ничуть не меньше – вынуждена это признать.
Кроме того, по моим наблюдениям, подавляющее большинство людей предпочитают прошлое настоящему. Скорее всего, и здесь причина кроется в тайном страхе перед все той же загадочной пустотой, – я хочу сказать, что прошлое притягивает к себе обычных людей тем, что в нем уже все окончательно расписано, расчерчено и расставлено по своим местам, а настоящее их отпугивает своей неопределенностью и «неназванностью». Даже я сама, по мере продвижения «Моей истории» во времени, невольно начинаю испытывать некоторый внутренний трепет от неизбежной и скорой встречи с настоящим – нечто подобное, видимо, должен испытывать и капитан судна, когда оно приближается к скалистому, обрамленному многочисленными рифами берегу. С этой точки зрения, и музеи, где все тоже давно определено и расставлено по местам, – в высшей степени обывательское изобретение, поэтому среди их посетителей вряд ли сегодня можно встретить человека, наделенного хотя бы минимальным эстетическим чувством… Ну и вся так называемая «русская классическая литература», само собой, тоже продукт обывательской культуры – тут, по-моему, и двух мнений быть не может, настолько все очевидно. Иначе бы Цветаева не закончила свои дни посудомойкой, а Хармс – в дурдоме, в то время как проектировались чуть ли не стометровые монументы Пушкину.
Безусловно, мода и красота раздражают толпу своей неуловимостью и неопределенностью, но уже в самих этих словах тоже присутствует какой-то дебильный привкус. Поэтому, мне кажется, настоящий эстет все-таки должен испытывать тягу не столько к красоте, сколько… к пустоте. О красоте же, на мой взгляд, вообще невозможно говорить всерьез – только в шутку. С этой точки зрения, и Савинков был не совсем точен. Если уж он намеревался кого-то своим стихотворением по-настоящему поддеть, то ему следовало бы написать: «Морали нет – есть только пустота!»
Правда, тогда его, опять-таки, можно было бы заподозрить в буддизме, что вряд ли способно пойти на пользу писателю, по крайней мере, в наши дни. Во всяком случае, лично я совсем бы не жаждала, чтобы во мне обнаружилось хоть самое отдаленное сходство с какими-нибудь сингапурскими монахами с нестрижеными грязными ногтями – не сомневаюсь, подобное сближение было бы большой натяжкой. Хотя мне бы хотелось научиться немного управлять своими чувствами и мыслями. К тому же в последнее время у меня в голове слишком часто начинают скакать и резвиться маленькие гномики в красных колпачках с белыми опушками так, что порой я теряю способность вообще что-либо соображать…
Буквально месяц назад мне довелось услышать по радио воспоминания одного ветерана-хирурга, который рассказывал о том, как оперировал разведчика Медведева, того самого, о котором еще был снят фильм «Сильные духом». Так вот, этот хирург должен был вырезать ему пулю из руки и предложил вколоть новокаин – чтобы обезболить. Но Медведев наотрез отказался, сел в кресло у окна и все время, пока шла операция, задумчиво смотрел в окно на пейзаж и беззаботно насвистывал романс «Мой костер в тумане светит». Он просто до такой степени отключился, отвлекся от окружающего, что не чувствовал никакой боли… Вот этому, пожалуй, я тоже хотела бы научиться: полностью отключаться от окружающей реальности, не воспринимать того, что происходит вокруг, не слышать обращенных к тебе вопросов и сохранять полное спокойствие внутри себя, даже когда тебе хамят где-нибудь в магазине или же троллейбусе.
КОНЕЦ
Санкт-Петербург, 2004 г.






