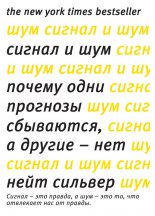Природа зверя Попова Надежда

– Это х-хорошо. Страх мешает думать связно и говорить то, что нужно.
– Кому?
– Т-тебе. И я здесь ради т-тебя. И – нет, это не значит, что тебя казнят.
– Что бы я ни сказал?
– Да.
– Поклянитесь.
– Господь запретил клясться его именем; к-какой еще клятве ты поверишь?
– Не знаю… Не надо. Все равно…
– Ты меня ненавидишь?
Молчание…
Знакомо…
– Не знаю…
– За что именно ты ненавидишь меня? За сам д-допрос или за то, что ты, в конце концов, признался?
Молчание.
– Не знаю…
– Ты ненавидишь во мне человека, к-который причинял тебе страдание, или оппонента, который вынудил согласиться с его точкой зрения?
– Первое вернее…
– Не поджимайся. Я же с-сказал – можешь говорить, что угодно. Я понимаю тебя. Это говорит гордость. Нет, я не с-стану читать тебе проповеди о смирении, я просто хочу помочь тебе разобраться в себе самом. Это чувство человека, к-который доказывал окружающему его миру, что он стоек, т-тверд, непреклонен, и который, в конце концов, сломался. Это неприятно, я знаю. Неважно, по какой причине ты не желал соглашаться с тем, что т-тебе говорили; главное, что тебя переломили. И от этого ты ненавидишь с-себя, ненавидишь того, кто сделал это, а с ним и весь мир впридачу. Ведь так?
– Может быть…
– Главное – то, что какое-то время ты не был хозяином самому с-себе, что кто-то имел власть делать с тобой все, что угодно. Это глубоко ранит самолюбие. Опять же – я не буду г-говорить тебе, что самолюбие – грех; я просто скажу, что иногда его следует забыть и выбросить. Когда генерал посылает солдата в бой, он тоже распоряжается солдатом, решает его участь, но н-ненавидеть его за это глупо, потому что есть цель, и генерал знает, как ее надо достичь.
– Если генерал правильно обучен…
– Верно. Но ведь, в конце-то концов, прав оказался я, с-согласись хоть теперь. Нет, не надо говорить, что я прав, не подумав. Подумай. Я снова призываю здравый с-смысл. Ведь и ты, и твоя наставница – вы убили человека, который лично вам ничего плохого не сделал, едва не убили еще одного, а чтобы с-скрыть свое преступление, готовы были убить и третьего. Ведь это неоспоримо, так?
– Да…
– Так. Разве это хорошо? Это д-дурно, даже иноверцы имеют законы, запрещающие отнимать жизнь у невинного. Ты же никак не хотел говорить правду, п-позволить спасти едва не загубленную тобой жизнь. И что мне оставалось делать? Я не отрицаю того, что эти методы с-страшны, жестоки и безжалостны, но, скажи мне, о какой жалости к преступнику может идти речь, если умирает жертва? Я понимаю, что это почти невозможно, но все же попытайся п-представить, что речь идет не о тебе, а о ком-то постороннем. Что некто, например, похитил ребенка и держит его где-то, дожидаясь условленной по особым книгам ночи, чтобы умертвить его ради своих целей. Если этот некто не х-хочет отвечать, а в это время где-то, неизвестно где, невинная кроха едва жива от страха? Даже если предать казни такого человека, ребенок-то все равно погибнет – некому будет его освободить, п-потому что никто не знает, где он находится. Кроме обвиняемого. К-который молчит. Разве ты не скажешь, что трижды необходимо вытаскивать из него признание щипцами?
Снова смех, похожий на плач…
– Да… вынужден признать…
– Вот так-то.
Молчание. Напряженное. Долгое.
– Отец…
– Да?
– Вы говорили, я могу спросить, что захочу?..
– Разумеется.
Молчание…
– А если обвинение ложно?..
– Понимаю тебя… Но ведь в т-твоем случае это не так.
– Но если бы было так? Тогда вы сами убили бы невинного человека, разве нет? Хорошо, пусть, да, я признался и повторю: я виновен. Это уже… это уже ясно… Но откуда вам было знать, что это так! Посмотрите вокруг – неужели вы думаете, что эти сотни, тысячи казненных – все до единого виноваты в том, что им приписывают?! Один только донос ничего не доказывает! И признание под пыткой ничего не доказывает! Вчера я сознался бы даже, что убил собственных родителей!
Молчание. Выдохся. Мало сил. И страх. Почти ужас, что – перебрал…
– Не бойся. Ты действительно можешь г-говорить, что угодно; я ведь обещал… Что касается тысяч – конечно, нет. Я так не думаю.
– Тогда… зачем!
– Не того спрашиваешь, сын мой. Я над этим не властен, и это не моя вина. А что до т-тебя – не в доносе дело, хотя именно с него все и началось. Я просто знал, что ты это сделал.
– Но… – почти шепот, – откуда?..
– Я скажу, откуда. В тебе есть особая с-сила, а я чувствую людей, обладающих ею. Вот и все.
Молчание. Тишина – недоверчивая. Тишина – потрясенная. Тишина – испуганная…
– Значит… поэтому первые два допроса проводили только двое судей… и потом они призвали вас, чтобы…
– Да. Не ты один п-помнишь о тысячах осужденных невинно. Мои братья тоже заподозрили простой донос из злобы или зависти. Тебя спрашивали, есть ли у тебя друзья, которые могли бы рискнуть ради тебя жизнью или репутацией; если бы т-такие нашлись, их вызвали бы в качестве свидетелей, чтобы услышать, что скажут те, кто не боится и не станет наговаривать на тебя. Говорю это, чтобы обелить в т-твоих глазах тех, кого ты для себя уже счел извергами. Чтобы не совершить ужасной ошибки, они обратились ко мне. Я чувствовал, как в тебе вздрагивает дарованная тебе сила, когда спрашивал о совершенном тобой. П-потому я знал, что ты – лжешь.
– Дарованная?..
– Кто-то рождается с серыми глазами. Кто-то одарен мощным т-телом, сильнее прочих людей. Кому-то Бог дал дар складывать стихи. Кому-то Он дает способность творить то, что не могут делать д-другие люди. Ты этот дар применил во зло.
Молчание…
– Вы не похожи на инквизитора, отец…
Усмехнулся. Не выдержал.
– Конечно, я не похож, потому что я и есть инквизитор. А те, о к-ком ты спрашивал меня, похожи. Но ими не являются. Их наказание найдет их еще – в этой жизни или в с-следующей…
– Вы… могли тогда сказать об этом…
– О том, на что я с-способен? И что тогда? Ты признался бы сразу?
Молчание.
– Вот видишь. И я об этом сказал. Я ведь говорил тебе: я знаю, что т-ты это сделал. Ты меня не слышал. Ненавидеть меня ты можешь, я это понимаю. Мы просто люди, и некоторые чувства в нас сильны, и благие, и дурные, но теперь ты можешь сказать, что поступал… неверно? Теперь – можешь с-сказать, что ты был глубоко неправ, когда отказывался говорить со мной? Когда я не угрожаю тебе ни болью, ни смертью, теперь – ты согласишься, что прав был я?
Молчание…
– Тогда ты ненавидел свою жертву, ты д-думал – зачем я буду позволять им прекращать ее мучения, если из-за нее так мучаюсь я! Ты ведь тогда так и думал – «из-за нее», хотя это просто нелогично, не с-соотносится со здравым смыслом. Было?
Молчание.
Шепот:
– Да…
– Сначала была надежда – спасут. Я з-знаю. Потом, уже без надежды на помощь, маленький шанс на то, что тебе поверят, ничего не добившись, если немного потерпеть… Да?
Шепота нет. Кивок и болезненный стон.
Да. Было…
– А потом… Ведь нельзя под такой п-пыткой убедительно оправдываться, если не убедить самого себя в том, что чист, если не притворяться от души; и даже были моменты, к-когда ты верил самому себе, и в каждом крике была неподдельная искренность… Было?
– Было…
Было…
– Так скажи мне теперь: к-кто был прав все это время? Ты перенес столько страданий – за что? Помнишь, о чем я спрашивал?
Еле слышно:
– Еще бы…
– Хотя бы теперь ты можешь с-сказать, что заставляло тебя хранить молчание, когда стало ясно, что тебе не поверят, что никто тебя не станет с-спасать? Что, кроме гордости, ничем не оправданной?
– Не знаю…
– Ничего. И гордость хороша, но в разумных пределах. Не тогда, когда она губит тебя п-просто так. И тело, и душу. Хорошо умирать с гордо поднятой головой, когда ты отстаиваешь честь или жизнь, к-когда жертвуешь собою за любовь к ближнему… да к любому живому существу, хоть к цыпленку, но не тогда, когда смерть приходит потому лишь, что ты ошибся и не желаешь из гордости признать это. С-скажи, разве я не прав?
– Вы правы…
– И разве тогда я был не прав? После всего, что ты уже понял, – разве и тогда я был н-не прав?
Молчание. Почти неслышно:
– Тогда я был неправ…
– Хорошо, что ты это понял. Пусть х-хотя бы сейчас. Все еще можно исправить; ты просто оказался рядом не с т-тем человеком, и вся твоя вина не в том, что ты не такой, как множество людей, а лишь в том, что совершил и намеревался совершить преступление. За это ты п-понес уже наказание; ты раскаялся, ты осознал свою ошибку, и всего, что ты перенес, при этом довольно.
Молчание. Тишина. И беззвучные слезы.
Как знакомо…
– Почему ты плачешь?
– Не знаю. Может, я действительно хочу раскаяться в том, что сделал. А может, я просто жалею, что не встретил вас раньше, отец. Лет двадцать назад…
– Это п-почти одно и то же.
– Нет. Это не одно и то же…
– Почему?
Молчание.
Не переспрашивать. Сегодня он имеет право не отвечать.
Пусть молчит. Сегодня – как хочет.
Минута. Долгая. Они часто бывают долгими – минуты…
Слабо:
– Я едва избежал смерти, когда мне было семь… Знаете, как это страшно, когда тебе семь лет, ты не такой, как все, когда родителей убивают за то, что сделал ты сам, сделал невольно, бесконтрольно? За случайные шалости… Разбившийся кувшин… Опрокинувшаяся корзинка с зерном… Упавшая на пол ложка… А потом – никогда не смогу вспомнить, что я тогда о себе наговорил. Этого хватило бы, наверное, обвиняемых для трех… Обошлось… всего лишь порка, пока жгли мать и отца. Чтобы я видел. А ведь их убили из-за меня. За то, что я сделал. Я до сего дня не позволял себе думать об этом. Их убил я…
– Их убила людская глупость.
Не то смех, не то стон…
– Нет… Я…
Тишина.
Тишина…
– Но тогда…
Тишина…
– Я тогда решил, что со мной никто и никогда ничего подобного сделать не сможет. Так долго и быстро я никогда не бежал. Сквозь лес. Через поля. В обход деревень. Пока не упал. Я бы умер, если бы не Эльза. Сейчас я думаю, что это, может, было бы лучше…
– Этого ни т-тебе, ни мне знать не дано.
– Может, вы и правы… Бог или Дьявол распорядились так, что я встретил именно ее, отец?
– Не знаю.
Взгляд – бескрайнее изумление.
– Я это слышу от инквизитора?
– Да.
Молчание.
Пусть.
Пусть учится думать – правильно.
Вздох и закрывшиеся глаза.
– Встретил именно ее… Пусть они там живут себе по законам, которые себе сочинили, а мы будем жить так, как хотим мы. Это сразу стало моим единственным правилом в жизни. Пусть они живут, как хотят… Если им так уж необходимо извергать нас из своего общества – пусть; значит, так тому и быть. Значит, и их законы не для нас. Любые. Если им так надо поставить нас вне своих законов – хорошо, пусть будет так. Значит, и по отношению к ним их законы мы соблюдать не обязаны…
Молчание.
Долгие минуты. Сколько их прошло, минут? Пять. Или шесть.
Разучился отсчитывать минуты. Давно не приходилось…
– Оказалось, что это доходное дело, вы знаете? Когда одному продал целебную мазь, а другого свел в могилу по просьбе родственников…
– Знаю.
– Со временем уже становится все равно, на кого наложить убивающее заклятье. На старого развратника, на молодую красавицу… на ненужного ребенка-наследника…
– И т-такое было?
– Да…
Снова смех – теперь похожий на смех.
– Странно, так легко я в этом сознался… Было.
Было…
– Это как работа наемника, только риска меньше…
Смех затих, и улыбка стала гримасой.
– То есть, мне так казалось. Поначалу. Потом становится понятно, что риск несравнимо больше, но это затягивает, вы были правы, отец. Только – скажите, разве не виноваты в этом те, кто преследует всех непохожих? Что же им потом удивляться, что непохожим доставляет удовольствие власть над ними – пусть она и не столь явная, пусть тайная, пусть никому не видимая?.. Заставить одного из них корчиться от рези в желудке, умирать от головной боли – за нас, за всех… Или похитить чьего-нибудь ребенка и продать… Пусть они знают, каково это, когда несчастье случается с близкими, а ты думаешь – за что?.. Пусть… Это в самом деле большое наслаждение. Когда смотришь на ликующую толпу, только что с упоением рассматривающую очередную казнь, когда видишь, как каждый из них доволен тем, что – вот они, идут, победители, такие сильные… как стадо быков. Без рассудка, зато – с силой… После этого просто нельзя не изготовить куколку местного судьи… Да, и это тоже я. Это будет в протоколе?
– Нет. Я же обещал.
– Вы странный. Почему я никак не могу возненавидеть вас снова, как ненавидел всего несколько минут назад?.. Еще в одном вы были правы. Минута – это много…
Молчание.
Тишина, за которой слышно, как в коридоре топают чьи-то сапоги.
Охрана.
Знакомо…
– Эльза так и не… признала себя неправой?
Вздох.
– Нет.
– Ее завтра казнят?
– Да.
– Зачем вы это сделаете? Ведь вы поддержите их – тех, кто убивает непохожих, которые не сделали и не сделают им дурного… Да и не только; вы поддержите тех, кто убивает вовсе невинных, вы им поможете этим; зачем?
– А что, п-по-твоему, с ней надо сделать? Содержать ее в тюрьме всю оставшуюся жизнь? П-понимаю, что эта женщина для тебя почти родная, но вспомни, о чем мы говорили, и скажи – что надо сделать? Разве ты поручишься, что она не сможет освободиться из заключения? Пусть не теперь, а через год, три, десять? И к-какой она выйдет оттуда? Насколько более озлобленной?..
Молчание.
– Да… Понимаю…
– Она слишком стара, с-слишком долго жила с ненавистью, чтобы суметь измениться.
– Ее… – красноречивый взгляд, без слов, немой вопрос… – Да?
– Да.
– Зачем… Вам-то это зачем? Ведь надо просто исполнить необходимость, просто обезопасить ваше общество от нее, так сделайте это проще! Дайте умереть в камере…
Молчание.
– Знаю, что н-не у тебя искать понимания, но… Кроме тех, кто никогда не сотворит зла, кроме тех, кто не может творить зла, тех, кто не имеют возможности, не умеют – есть и те, кто умеют, могут, с-сын мой. Но боятся. Потому что однажды… или не однажды… видели, как умирают те, кто пойман за руку. Пусть это и покажется жестоким, но пусть видят. Ты даже не представляешь, сколько из них лишь п-поэтому живут тихо, никому не причиняя вреда.
– Вы это тоже знаете?
– Да.
Молчание.
– Все равно жестоко…
Миг тишины.
– Да…
Молчание…
– Завтра?
– Да.
Молчание.
И коричневые от крови зубы на искусанных губах.
– Вам…
Молчание…
– Вам и не только вам, отец… будет лучше, если я буду с ней…
Осторожно:
– В каком смысле?
– В том же, что и она, – все более решительно, но с каждым словом тише.
– Почему тебе п-пришла в голову эта мысль? Ты хочешь умереть?
– Нет.
Глаза закрыты. Лицо мокрое от сукровицы и слез.
– Нет, отец, я не хочу. Я как никогда хочу жить, но никому от этого лучше не станет. Вы обещали, что я могу сказать все, что угодно; прошу, не перебивайте, или… или я испугаюсь и не сумею договорить… Вы правы. Вы и были правы, а я был неправ, и, поняв это, я чувствую себя… не знаю… Я бы мог сказать, что чувствую себя родившимся заново, но так нельзя сказать о человеке, который несет на себе такой груз вины и ненависти, как я. Да, я раскаиваюсь в том, что делал. Перед вами признаю это – как перед Богом. Да, я уже не могу ненавидеть вас так, как еще вот только что ненавидел, но избавиться от ненависти целиком не могу. Из-за вас – это из-за вас, и вы не можете этого не признать – я предал женщину, которая с детства заменяла мне мать. Что бы там она ни делала, кем бы она ни была – она любила меня и заботилась обо мне. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не Эльза. Вы поведете ее на смерть, вы провели ее через то, через что прошел я; помня, что это такое, я не могу… просто все забыть – не могу. Мне жаль, что я не встретил вас двадцать лет назад, но теперь я буду ненавидеть вас… и почитать. Но ненависть – она сильнее, отец. Поэтому рано или поздно я убью вас. А потом и себя, потому что жить с таким разладом мыслей не в моих силах. На такую пытку, отец, меня не хватит… Поэтому, если вы не хотите погубить и свою душу, и мою, и души тех, кого, возможно, вам еще удастся отвратить от зла удачнее, чем меня – вам лучше позволить мне умереть сейчас. Пока еще я что-то понимаю и в состоянии отвечать за себя. Иначе – два выхода. Или тот, о котором я сказал только что, или – я просто покончу с собой. Если вы действительно имеете ко мне хоть каплю сострадания, вы поведете меня завтра вместе с Эльзой. Вину перед людьми, вы сказали, я искупил на вашем допросе? Дайте искупить вину перед моей второй матерью. Она тоже человек… Вот я это и сказал.
Глаза закрыты. Лицо мокрое от сукровицы и…
И все.
– Теперь мне уже не отступить, да?
Молчание. Тяжелое.
И секунды тоже могут быть бесконечными…
– Нет. Только к-когда записи дела будут переданы властям.
– Тогда сделайте это побыстрее, отец. Я не хочу иметь возможности передумать.
Молчание.
Секунды длиной в бесконечность.
– Ты уверен в том, что говоришь?
– Как никогда…
Молчание. Минута молчания…
– Хорошо.
Вздох.
– Ну, вот и все. Пусть будет так… – глаза открыты. Лицо мокрое от сукровицы… Взгляд блестящий и больной. – Вам придется уйти, чтобы сделать это?
– Да. Ты х-хочешь, чтобы я ушел?
– Я хотел бы, чтобы вы остались и поговорили еще со мной. Вы ведь можете вернуться потом?
– Конечно.
– И вы будете со мной?
– Если хочешь.
– Всю ночь?
– Всю ночь.
* * *
Пять лет назад.
Дознание по делу обвиняемого в похищении младенца, намерении убийства и угрозах убийством посредством заключения договора с потусторонними силами. Обвиняемый: Альберт Майнц, профессор литературы. Шестой допрос (без применения пытки)
– С какой целью и где вы содержите похищенного ребенка?
– Я не д-делал ничего подобного… Я н-невиновен…
Природа зверя
…omnis enim natura bestiarum et volucrum et serpentium etiam ceterorum domantur et domita sunt a natura humana.[3]
Пролог
– Храни Господь курьерскую службу.
Голос помощника был охрипшим и каким-то мутным – высокий стоячий ворот, кожа которого задубела на морозе, глушил слова, плохо выпуская их вовне. Уже подступающий февраль в этом году тотчас дал понять, что решил обосноваться всерьез и надолго, одаряя род людской всеми прелестями, каковых в Германии не было видано уже давно – ветром, перемешанным со льдом, стужей, от которой в буквальном смысле на лету замерзают вороны, и почти не прекращающимся снегом, творящим едва проходимые сугробы даже посреди дороги и ломающим древесные ветви.
На восхваление курьерам Курт не ответил – сие славословие произносилось уже не в первый раз за время их пути, и в эту минуту наверняка еще не один и не двое говорили примерно то же самое на ином краю страны; и, разумеется, благодарствие вознести было за что. Года три назад кто-то из курьеров, кому надоело морозить себя на ветру и выставлять под дожди и снега, при посредстве сметливого кожевенника вообразил и создал некоего ублюдка фельдъегерской куртки, дорожного плаща и купеческого камзола. Родившееся из сего смешения исчадие, без изысков поименованное фельдроком[4], выгодно отличалось воротом, в застегнутом виде закрывавшим лицо по самые скулы, пристяжным капюшоном, что лишало необходимости навешивать на себя мешающий движениям плащ, и удлиненными полами, закрывающими ноги до самой середины сапог, по каковой причине, сидя в седле, можно было не беспокоиться о коленях, выставленных под дождь или, как теперь, хлесткий снег. Зимний вариант, кроме того, предполагал меховой подбой, которому в нынешнем путешествии досталось не меньше благих слов, нежели выдумщику из курьерского отделения.
Экипировавшемуся подобным образом упомянутому курьеру позавидовали сперва собратья по должности, но довольно скоро сие творение воспаленного рассудка взяли на вооружение и многие действующие следователи. Как и большинство из тех дознавателей, кто еще не обзавелся ни домом, ни, собственно, постоянным местом службы, располагающим к приобретению такового, и проводил довольно много времени в пути, Курт оказался в числе первых из них. Кроме того, жизнь показала, что даже при некоторой оседлости всякое расследование грозило в любой самый нежданный момент обернуться тем, что возникнет необходимость сорваться в путь тотчас, не имея времени не только на сборы, но и хотя бы на то, чтобы обернуться в сторону покинутого временного пристанища. Плодить гардеробы при таком распорядке бытия было не с руки, и Курт предпочел потратить немалые, надо сказать, деньги на приобретение сего наряда in omnem eventum vitae[5], в коем было и не совестно пройтись по центральным улицам любого города, и вполне сподручно пуститься в путь или ввязаться в драку. Помощник, тяжко вздохнув, последовал его примеру, зная на собственном опыте, что любые невзгоды и внезапности, настигающие его начальство, достаются в не меньшей мере и ему самому, причем сполна.
Лошадям приходилось куда хуже – тех грела лишь попона да еще разве что седалища всадников; на темных ресницах нависла изморозь, грустные карие глаза слезились от ветра и мороза, и ноги с облепившими шерсть комьями снега переступали тяжко и неуклюже. Отдых был нужен им уже давно; кроме скверной погоды и долгого пути, жизнь несчастным животным невыносимо портил и немалый вес несомого – наверняка, если взгромоздить на одну чашу весов одного из седоков, а на другую нацепленное на него снаряжение, включая кольчугу под фельдроком, оружие и дорожную сумку, обе чаши уравновесились бы. В иное время кони несли бы этот немалый скарб без особенных усилий, однако холод усугублял усталость, обращая ее в изнеможение.
– Храни Господь курьерскую службу, – повторил помощник, не скрывая раздражения, – и покарай тебя.