Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото Козлов Петр
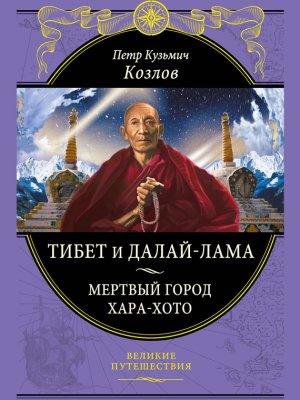
Как женщины гордятся своими бусами и серебром, так одинаково, если не больше, гордятся мужчины своими воинскими доспехами, в особенности ружьем и саблей, на украшение которых серебром и цветными камнями тратится немало денег. Боевым видом, молодечеством, удалью в Амдо, как и вообще в Центральной Азии, главным образом и оцениваются достоинства людей, способных быть начальниками или предводителями. Резвые кони с хорошим убранством уже издали привлекают внимание придорожного населения или каравана.
Пестрый, темно-синий, красный, желтый наряд, иногда с леопардовой оторочкой у груди, очень красит гордых амдоских всадников, в особенности чиновников, перед которыми местные простолюдины смиренно и низко склоняют головы.
В позднейшее время нельзя не отметить особенного, резко бросающегося в глаза явления европейского оружия, все больше и больше проникающего в среду амдосцев. Те многие обитатели Амдо, которых мы встречали или в дороге, или у себя на биваке, часто бывали вооружены именно магазинными винтовками, содержащимися в образцовом порядке, с приделанными к ним сошками для более меткой стрельбы, в особенности в долинах по зверям, как это всегда устраивают центральноазиатцы у своих примитивных фитильных самопалов. Амдосцы с гордостью показывали нам их магазинки, в свою очередь прося и нас показать им русскую винтовку. Разборку и сборку европейских ружей амдосцы усвоили прекрасно, и всякого рода манипуляции с ними они проделывают с замечательною ловкостью и уменьем. Сидя дома, от скуки амдосец берет ружье, холит, нежит и ласкает его, словно мать свое любимое детище. Патроны или заряды туземцы берегут с замечательною выдержанностью.
Нетрудно допустить, с какою завистью амдосцы посматривали на наш караван, на наши вьюки, на наше однообразное вооружение. Я положительно убежден, что ничто другое не соблазнило, не толкнуло амдосцев решительно броситься на нас, как только наши винтовки, прелесть и превосходное качество которых они уже успели оценить по своим ружьям европейских образцов. Недаром же китайцы так сильно протестовали против моего намерения двинуться в Амдо: им хорошо была известна страсть этих кочевых обитателей убивать и грабить; они согласились со мною лишь тогда, когда я выдал им новую подписку, что могущие встретиться в Амдо неприятности и беды я беру на свою ответственность.
Амдо справедливо занимает выдающееся место в истории буддизма: оно дало великих проповедников и ученых. Имя Цзонхавы как реформатора буддизма, основателя господствующей секты гэлуг-на, известно не одним только буддистам, которые для совершенствования в познаниях из Амдо направляются в Тибет, Лхасу или Таши-люмбо.
Везде в Амдо, где только имеются красивые и приветливые и вместе с тем уютные уголки, устроены кумирни или монастыри, а при этих последних – нередко и управления начальников, и дома их приближенных. При монастырях же очень часто имеют квартиры и торговцы-китайцы, которые, впрочем, при таких больших центрах группируются в отдельные колонии.
Главнейшие монастыри в Амдо – Гумбум и Лавран, насчитывающие в своих обширных храмах и многочисленных постройках тысячи лам, исповедывающих, главным образом, учение Цзонхавы, или так называемого желтого толка.
После некоторого отступления перейдем к прерванному рассказу о самом путешествии.
Прежде всего мы поставили себе задачу: посетить тангутское княжество Луцца, познакомиться с его воинственным предводителем Лу-хомбо.
Мой облегченный караван[280] распростился с зимовкою шестого января и ходко направился на пересечение оазиса прямо к ущелью речки Ранэн-жаццон. Здесь нас обступили знакомые серо-желтые высокие горные скаты, сжимавшие узкое ущелье. Горячие ключи Чи-чю были на этот раз безлюдны, хотя температура их по-прежнему оставалась очень высокой (+85°С). Первую ночь мы провели под прикрытием летней палатки в приветливом местечке между селением Ранэн-жаццон и кумирней Рнэн-гомба, среди зарослей высокого, достигавшего человеческого роста дэрэсуна (Lasiagrostis splendens).
Крайне сухой прозрачный воздух делал ночное небо особеннно глубоким, звезды искрились ярко, а красавец Сатурн заметно выделялся на темном фоне своим необыкновенным сиянием. Соседний монастырь, казалось, уже погрузился в дремоту, но наш лагерь долго оживлялся голосами русских, китайцев и тангутов-подводчиков; яркий костер привлекал компанию обогреться [на воздухе было –17°С] и побеседовать об окружающей местности.
С зарею следующего дня караван снялся и пошел в прежнем южном направлении с целью выбраться из глубокой впадины общей долины Хуан-хэ на прилежащее плато. Так как верховья речек и ручьев, впадающих в Желтую реку справа, образовали много ледяных каскадов, то мы принуждены были идти в обход этих неудобств и цепляться по страшной крутизне глинистых или лёссовых обрывов, прежде нежели поднялись на перевал Нара, или Риала, что значит «перевалить». Отсюда ясно обрисовывалась в тумане глубокая горная падь – брешь, сделанная в массиве ниже Гуй-дуя могучей Желтой рекой. В отдалении виднелся северный альпийский хребет, словно восточное[281] продолжение Южно-Куку-норских гор, а на юге вздымался величественный Джахар.
Вершины гор белели снежным покровом; кое-где, по террасам прилежащих высот, рядом с жалким подобием хлебных полей темнели банаги кочевых тангутов, а высоко, в увядших, мерзлых альпах паслись табуны лошадей и стада баранов и черных домашних яков.
Грязные ветхие палатки тангутов обычно внутри делятся на две половины: правую – мужскую и левую – женскую; в центре располагается очаг. По краям вдоль полотняных стен складываются кожаные мешки с чюрой, или сухим творогом, зерном и прочими припасами; там же лежат и вьючные седла. Прямо на земляном полу расстилаются засаленные войлоки и овчины, заменяющие туземцам постели. Подле богатых палаток нередко устраивается загородка – загон для баранов, бдительно охраняемых свирепыми собаками.
Следуя постепенно вверх по речке Чин-чю, мы вскоре вступили на луговое плато, носящее характер кукунорских степей. Волны увалов, отливая волнистым оттенком превосходных кормовых трав, тянулись бесконечными грядами с северо-запада на юго-восток. Местами они встречались и переплетались с целой системой песчаных барханов, надвигавшихся с северо-запада, из пустыни Магэтан, начинающейся почти от самого хребта Джупар. Барханы имели преимущественно северо-восточное – юго-западное простирание, круто обрываясь рыхлыми склонами к юго-востоку и представляя твердые пологие скаты с наветренной стороны. Соприкасаясь с горами, пески незаметным образом сглаживали холмистый рельеф плато и иногда достигали сотни футов высоты [до 30 м].
Из оазиса Гуй-дуя в княжество Луцца ведут три дороги. Восточная следует по высоким горам, западная тянется через унылые пески Магэтан, а средняя, которую избрала экспедиция, извивается среди мягких холмов и долин, минуя многочисленные речки[282] с ледяными накипями в горах и захватывая лишь незначительный рукав песков шириною около шестидесяти верст. По словам тантутов, в летнее время этот пустынный переход крайне тяжел и утомителен, так как присутствие раскаленных песков сильно повышает общую температуру окружающего воздуха.
Чем дальше мы продвигались на юго-юго-запад, тем больше казалось, что горы теснее обступали наш караван; вершины попутных холмов открывали новые долины, речки и новые горизонты. Оставив позади речку Ца-нага, откуда мы любовались темной высотой Чачан-кэ на западе, караван вскоре поднялся на перевал Ртыга-нига. Серебристо-белые вершины Джахар на юго-востоке и грандиозный хребет Джупар на юге обрисовывались все с большей ясностью. Спускаясь с перевала, мы обогнули щелевые выступы и пошли на пересечение волнистого лугового пространства к речке Гомын-гзюн, убегавшей в сторону впадины Хуан-хэ по узкой глубокой балке.
Экспедиция держалась юго-западного направления, обычно пристраиваясь на ночлег в соседстве тангутских стойбищ. Во время пути караван сопровождался кавалькадой всадников, подгонявших упрямых яков – наших новых вьючных животных, заменивших усталых лошадей и мулов.
По мере углубления внутрь неведомой дикой страны туземное население становилось все более и более своенравным и дерзким. Чувствовалась повышенная атмосфера. Накануне буддийского нового года подводчики, отправленные с нами по приказанию гуйдуйского тин-гуаня и получившие деньги вперед, заявили мне, что они хотят возвратиться домой, и просили отпустить их животных. Не успели мои спутники с помощью китайца-переводчика нанять новых яков у ближайших тангутов, чинивших по этому поводу нам всевозможные препятствия, как подводчики, бросив нас на произвол судьбы, скрылись.
Ночь под Новый год была облачная и тихая; лишь изредка разносился громкий лай свирепых тангутских псов, стороживших покой своих хозяев. Мы спали чутко, не раздеваясь, с оружием в руках, вверяя бивак бдительности двух часовых.
Наутро девятого января со стороны стойбищ кочевников слышались звуки раковин и прочих молитвенных атрибутов; подле банагов зажигались костры и совершались молебствия, причем мужчины и женщины делали земные поклоны, обернувшись лицом к востоку, к трем священным девственным вершинам: Амнэ-джагыр, Гига-амнэ-консым и Джахар.
Наш путь за рекою Мдурци-чю пролегал по ущелью, обставленному крутыми склонами; справа густо поросла карагана, будучи основательно засыпана песком, а слева расстилались отличные кормовые луга, орошаемые тремя ручьями. Пески, проникавшие также и на дорогу, нагревались солнцем до +15,2°С, несмотря на полуясное небо и температуру воздуха в тени, не превышавшую –1,6°С. Перевал Дорци-нига, поднятый так же высоко, как Ладин-лин[283] и увенчанный красивым обо, встретил нас неприветливо – крепким южным ветром, с силою бившим в лицо. Горизонт долгое время оставался закрыт нагроможденными в беспорядке высотами, и только перейдя на второстепенную по сравнению с Дорци-нига вершину, мы увидели широкую долину Монра[284] и вышеописанные пески Магэтан.
В окрестностях перевала экспедиция столкнулась с туземным разъездом, следовавшим куда-то с заводными конями. Тангуты с важным деловым видом осведомились о том, кто мы такие, а затем, ретировавшись в сторону, пропустили наш караван мимо себя, тщательно рассматривая каждое животное.
Становилось уже темно, когда мы разбили палатки, устроившись снова рядом с кочевьем тангутов в урочище Тун-нчи между речкою Лончен-чю, выбегающей из гор Юла, и песками. Обитатели банагов, кажется, все перебывали на биваке под предлогом продажи аргала, молока и проч. Не желая идти против местного обычая, мы принимали без всякого удовольствия угрюмых неопрятных гостей, неизменно угощая их традиционным чаем.
Погода между тем установилась довольно благоприятная; днем было тепло и тихо, воздух оставался прозрачным, а ночью, при морозе в –20°С, наблюдался лишь слабый ветерок, тянувший с гор. Караван продвигался успешно и надеялся в самом скором времени достичь тангутского княжества Луцца, где предполагалась первая от оазиса Гуй-дуя дневка.
Состоящая приблизительно из сотни банагов, ставка луццаского управителя лежит в урочище Шаныг[285], в превосходной пастбищной долине [южнее сухого русла речки Мон-чю], поперек которой экспедиция шла целый день, держа направление на известную группу черных палаток.
Тангутский князь делит свои владения на четыре хошуна, причем каждый хошун, насчитывающий до двухсот пятидесяти человек населения, управляется бэйсе.
Подъезжая к вышеупомянутому урочищу, мы повстречали немногочисленную, но весьма нарядную группу туземцев, одетых в праздничные костюмы и вооруженных саблями и даже винтовками.
Вблизи княжеской ставки нас встретили сначала сын князя – молодой красивый амдосец, выехавший вперед с княжеской дворней и почтительно взявший за повод мою лошадь, и сам Лу-хомбо или Рачжа, как его называют окрестные обитатели. Он появился в сопровождении нескольких женщин, одетых в цветные, разукрашенные лентами, бирюзою и раковинами шубы. Несмотря на семидесятитрехлетний возраст, крепкий мускулистый с несколькими глубокими шрамами на голове и теле, которое старик иногда обнажал, спуская шубу с правой руки, Лу-хомбо производил впечатление сильного, закаленного в боях воина, а может быть, и просто разбойника. После обычных приветствий мы вошли в обширную, сравнительно чистую палатку, где уже было готово обычное угощение – чай со свежим, только что поджаренным на бараньем сале, печеньем. В мужской половине банага, аккуратно застланной ковриками, мы разместились по старшинству: я сел у самой печи vis а vis с главою дома. Хозяин приветливо предложил мне отведать местного напитка, прося не стесняться и закусить как следует. Молодой князь то и дело брал с печи котелок и подливал мне чаю, прибавляя к нему кусочки хлеба.
Приняв угощение, я пожелал выбрать место для лагеря экспедиции; старик вместе с сыном тоже направились со мною и помогли разрешить этот вопрос. Мы остановились на открытой площадке, залегавшей саженях в ста от княжеской ставки и отделявшейся от нее длинным невысоким увалом, протянувшимся поперек долины. Тем временем подошел и караван. По окончании первых необходимых работ по развьючке животных и установке бивака оба князя попросили меня отпустить всех моих спутников на чашку чая после дороги. Все, казалось, шло самым лучшим образом, тем более, что при экспедиции следовал официальный китайский переводчик из Сининского управления, снабженный всякого рода бумагами для оказания нам содействия со стороны амдосцев.
Угостив русских молодцов, сановные тангуты направились в наш лагерь и положительно его осадили. Все наши гости оказались большими любителями выпить и без всякого стеснения заставили меня наполнять ежеминутно опоражнивавшиеся чарки крепчайшим спиртом, взятым для этой цели из запасов экспедиции[286]. Этот напиток очень понравился князьям, и они в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы рук. Вначале я было попробовал предложить дикарям-номадам коньяку, но напрасно, коньяк, по их отзывам, «напиток женский»! В своих деловых беседах Лу-хомбо оказался, к сожалению, очень несговорчивым. Несмотря на все мои доводы, он требовал от экспедиции одну из лучших винтовок как дань за право следования каравана через его владения; за вьючных животных и проводников князь просил особую и тоже очень высокую плату. Предложенным мною револьвером он пренебрег и даже назвал оружие «детским».
Наугощавшись спиртом всласть, тангуты стали пьянеть, и я уже предвидел некоторые могущие возникнуть осложнения, неизбежные при всяком нервном возбуждении, как совершенно неожиданно меня выручила старушка-княгиня. Эта маленькая тщедушная женщина пришла как раз вовремя и без труда увела захмелевшего супруга, проронившего мне невнятно по дороге: «Завтра будем говорить о делах, о вашем дальнейшем пути, а сегодня я жду подарков». Подарки, действительно, князь частью уже получил, а частью они были направлены вслед за ним.
Два дня шли бесплодные переговоры, не приведшие ни к какому положительному результату. Для Лу-хомбо всего предлагаемого нами – и новых подарков, и самой высокой платы за животных, и проводников было недостаточно; он стоял на своем: «Подарите вашу русскую винтовку и ящик патронов, тогда я выпущу вас из своих владений!». Когда и на эту комбинацию, скрепя сердце, я вынужден был согласиться, тогда старый князь оказал: «Сейчас придет к вам мой сын, посмотрит еще раз ваше ружье, а я ухожу домой». Явился сын, гордо и надменно вошедший в казачью палатку, где и принялся за самый внимательный осмотр нашей магазинки. В конце концов он с прежней надменностью заявил: «Ваше ружье скверное, оно ничего не стоит» – и ушел.
Наш лагерь, до той поры оживленный различными зрителями, бесцеремонно забиравшимися даже в палатку, понемногу опустел; в нем остались лишь те немногие луццасцы, которые не могли отличить своей собственности от чужой и которые чуть не на наших глазах стащили все аптечные бинты и марлю.
Старый князь собрал совет старшин – опытных, видавших всякие виды разбойников; на этом совете, как выяснилось впоследствии, и было решено уничтожить нас, чтобы воспользоваться всем нашим оружием и пр. Мы не допускали мысли, что на нас готовится предательское нападение и тем более не могли знать, что Лу-хомбо одобрил на совете предложение сына и прочей молодежи напасть на нас глухою ночью, перебить горсточку русских, воспользоваться их самым ценным добром, а китайцу-переводчику, ночевавшему всегда в княжеской палатке, затем заявить, как нам стало ясно на другой день после безуспешной атаки, что нападавшие были не их однохошунцы, а обитатели соседнего аймака, их отъявленные враги, нагрянувшие в Луцца с целью отомстить луццасцам за своих убитых товарищей, но случайно напавшие на русских.
К вечеру одиннадцатого января 1909 года настроение членов экспедиции сделалось крайне нервным; со стороны княжеской ставки слышался подозрительный топот конских ног; по вершинам прилежащих холмов разъезжали лихие всадники, громко перекликавшиеся в ночной тиши высокими вибрирующими голосами. В ожидании чего-то недоброго мы решили не раздеваться и спать в полной боевой готовности, с оружием в руках.
На следующий день наши отношения с тангутами еще более обострились. Столковаться с ними мирным путем, по-видимому, не представлялось возможности. Ничто не могло их удовлетворить; стоило нам согласиться на запрашиваемые туземцами несуразные цены, как они тотчас придумывали новые и уже совершенно неприемлемые требования.
От сининского переводчика мы узнали, что князь согласился распорядиться подводами на завтрашний день на условиях самых последних, то есть по баснословно дорогой цене за каждое отдельное животное и за каждого из пятнадцати проводников, тогда как в сущности мы нуждались только в одном, но нам навязывали их непременно пятнадцать человек, якобы один-два не в состоянии будут возвратиться домой живыми и не ограбленными. О ружье и патронах более не упоминалось.
Сумерки погасли скоро; на землю спустилась темная облачная ночь, особенно памятная всем нам, странникам, ночь на тринадцатое января. Со стороны княжеской ставки было как-то необыкновенно тихо. На этот раз мы не делали никаких приготовлений, рассчитывая спать с некоторым комфортом – раздевшись и лишь положив винтовки рядом с собою. Мне долго не спалось. Громкий неистовый лай собак не смолкал ни на минуту. Чутко прислушиваясь ко всему, я уносился мыслью к далекой родине, к теплому родному очагу. Не успел я забыться в мечтах, как вдруг внезапный винтовочный выстрел снова поднял всех нас на ноги. Было двенадцать с половиной часов ночи. Бдительный часовой, гренадер Санакоев, тотчас крикнул: «Нападение, вставайте!» и открыл огонь по удалявшимся двум всадникам – туземному разъезду, произведшему первый выстрел.
Прошла всего минута или две, и мы выскочили из палаток, конечно, кто в чем был, с ружьями в руках, но уже никого не видели, слышен был только резкий топот копыт быстро скакавших корней. Едва мы успели одеться, полностью вооружиться и встать в боевую линию, как с той же западной стороны, куда ускакал разъезд, заслышали новый топот копыт, постепенно усиливающийся, и вместе с тем завидели черное пятно, выроставшее по мере приближения тангутов к нашему лагерю. Темная январская ночь была единственная свидетельница всего того, что произошло между маленькою горстью русских и сотенным отрядом диких номадов, мчавшихся в карьер с пиками наперевес на маленький лагерь иностранцев, открывших огонь шагов на 400–500 навстречу атаковавшим. Огонь восьми наших винтовок описывал непрерывную огненную змейку, ярко сверкавшую в темноте ночи.
Разбойники не выдержали, не доскакали какой-нибудь сотни шагов, вероятно, и того менее, круто повернули в северную сторону и тотчас скрылись в глубокой лощине. Однако гулкий топот копыт по сухой промерзшей почве долго слышался в тишине. Все описанное произошло так быстро, так стремительно, что вначале казалось каким-то таинственным призраком; это был какой-то дикий вихрь или ураган, промчавшийся бог весть откуда и куда. Не стой мы в полной боевой готовности навстречу этому грозному урагану, ничто не спасло бы нас от стремительности разбойников – их пик и сабель. Действительно, если бы разбойники не выслали разъезда снять нашего часового и тем самым не подняли бы нас на ноги, их план, наверно, удался бы, их атака в темноте ночи сделала бы свое дело!
Но рок судил иначе. И как мне не верить в мою путеводную счастливую звездочку! Едва мы успели опомниться от всего происшедшего, как со стороны ставки князя услышали выкрики Лу-хомбо и его сына: «Что случилось, не перерубили ли русских наши соседи – враги[287]? Какой сильный огонь!» и пр. Так потом передавал нам сининский переводчик, от страха потерявший голову. Чтобы скорее удовлетворить любопытство, старик-князь прислал в наш лагерь своего сына, который был крайне удивлен, что мы все целы и невредимы, стоим в полном боевом порядке и ждем новой атаки. Теперь равнина огласилась дикими криками, пальбой вдали и чем-то зловещим, продержавшим всех нас под ружьем порядочное время. Мы уже больше не верили этим негодяям и стали с этой, чуть не роковой ночи спать не раздеваясь в объятиях с ружьем и патронами в течение всей зимней экскурсии.
Туземцы как будто избегали нас. Любопытные совсем не посещали экспедиционный бивак, и мы, наконец, были избавлены от постоянных зрителей. Только один весьма симпатичный лама, с которым мы уже ранее успели подружиться, прибежал ко мне в большом волнении и не знал, как выразить свое сочувствие и радость по поводу победы русских. В неудержимом порыве молодой тангут схватил мою руку и крепко прижал ее к своему сердцу. Это своеобразное выражение симпатии тронуло меня до глубины души. Утром тринадцатого января, я поздравил моих молодцов-спутников старшими или младшими унтер-офицерами или урядниками и пояснил им положение, в котором мы неожиданно очутились. Явился Лу-хомбо, также похваливший всех нас за молодецки отбитую атаку.
Я в шутливом тоне спросил князя, не его ли подчиненные вздумали сыграть с нами такую злую шутку? На это гордый старик ответил: «Собственной рукой зарублю, а если окажется раненым, то и заколю того, кто осмелился бы из моих людей принимать участие в набеге!». Лу-хомбо рассвирепел, гневные глаза властного старика метали искры, он нервно вздрагивал и машинально повертывал на голове свою лисью «атаманскую» шапку, порою даже сбрасывал рукав с правого плеча, обнажая спину, зарубцеванные раны; старый воин видывал виды! Теперь я стал верить, что Лу-хомбо никогда никому не давал даже обычных подарков, как он мне об этом заявил в первый день нашего знакомства, но сам со всех брал столько, сколько хотел. Кажется, в первый раз князю пришлось сознаться в своем бессилии.
Чтобы не навлечь на себя еще больших подозрений и не дать нам узнать об убитых и раненых, о чем мы узнали только через несколько дней и переходов, луццаский князь поторопился сплавить экспедицию, назначив в начальники проводников своего сына. Перед отъездом Лу-хомбо самым хладнокровным образом пригласил меня и моего спутника Четыркина откушать чаю в дорогу. Мы приняли приглашение с большой неохотой, но все-таки не сочли удобным отказаться. Сидя в княжеской палатке и беседуя с хозяевами, нам обоим приходилось зорко следить за тангутами, которые в любой момент могли схватить оружие, расставленное всюду вдоль бортов палатки, и покончить с двумя неосторожными русскими. Чай и печенье мы также вкушали с большой осмотрительностью, опасаясь обычной здесь предательской отравы. Легко представить себе, как нудно и долго тянулись последние часы, проведенные у коварного вождя разбойничьего хошуна. Старая княгиня, несмотря на всю натянутость отношений с ее супругом, рассыпалась передо мною в любезностях и не постеснялась выпросить у нас несколько кусочков сахару.
От доставки экспедиции в монастырь Рарчжа-гомба, как я этого желал, луццасцы отказались наотрез, мотивируя свое нежелание высоким снеговым хребтом на пути, но вероятнее всего, боязнью нголоков, таких же разбойников, как и они сами, которые давно грозят Лу-хомбо набегом «за прежние давние грехи старого волка». Князь продиктовал наш длинный, окружный маршрут своему сыну, с наказом передать его зятю старика, обязанному затем доставить экспедицию с тем же наказом в линию кругового пути, залегавшего в районе монастырей Рарчжа-гомба – Лавран.
Подобный удлиненный и круговой маршрут, придуманный князем Луцца в целях доставить заработок родным и знакомым старшинам, был полезен и для нас, так как давал возможность познакомиться с самым интересным, неведомым уголком Амдоского нагорья. Правда, это исследование стоило нам очень дорого в физическом, нравственном и материальном отношениях. До прихода в монастырь Лавран мы ложились спать не раздеваясь и не расставаясь с ружьем; ночные караулы держали самые строгие, самые усиленные; при малочисленности участников зимней экскурсии на часах приходилось стоять всем нам через ночь в продолжение пяти-шести морозных часов, а на другой день следовать в дороге со всякого рода наблюдениями и сборами коллекций[288], на высоте, на три-четыре версты превышающей Петроград. Нервы наши были напряжены до крайности.
Много времени прошло с тех пор, но зимнюю экскурсию в Амдо я помню как сейчас и живо чувствую ее кошмарный ужас, словно переживаю снова самое путешествие в этой угрюмой, неприветливой стране. Вместе с тем Амдоское нагорье всегда будит во мне чувства глубокой благодарности и нежной дружеской привязанности к моим спутникам – избранникам русского народа, с которыми только и можно совершать такие подвиги. Надеюсь, за последнее выражение простит мне читатель, в крайнем случае тот, который сам хоть немного вкусил прелести в странствованиях по диким странам Центральной Азии.
Дальнейший путь по нагорью. – Новые хошуны и их управители. – Зимние путевые невзгоды и лишения. – Враждебное отношение амдосцев к экспедиции. – Их стремление вызвать повод к вооруженному столкновению. – Стрельба по разбойникам. – Криводушие ламы – старшего проводника. – Новые зимние невзгоды. – Неожиданная встреча с отрядом амдосцев: счастливое избежание кровопролития. – Кгарма – начальник хошуна Чэма. – Страсть амдосцев к спиртным напиткам. – Характеристика пути и движение каравана. – Прощание с Кгармой. – Во владениях Гуань-сю-Дунчжуба. – Углубление долин и появление кустарников и более пышных луговых трав. – Живая картинка под перевалом Кисэр-ла. Крутые меры, по отношению Дунчжуба. – Приход экспедиции в монастырь Лавран.
Тринадцатое января – день выступления отряда из урочища Шаныг – был для нас всех радостным и приятным днем. Приведенные к лагерю с раннего утра вьючные животные скоро были готовы к отправлению, и, распрощавшись с князем, мы двинулись в юго-юго-западном направлении в сторону перевала Амнэ-рычон. На вершине, вблизи живописной группы обо, одетой лентами и шерстяными нитями, четверо тангутов благоговейно совершали свои обычные молитвы.
Спускаясь к юго-западу, дорога огибала незначительные седловины гор, шла наперерез болота бачин и терялась в обширной кормной долине Ба, обставленной высокими кряжами, с которых (главным образом с полуденной стороны) стремительно сбегали три многоводные речки – Ба-чю, до одной сажени шириною, Чэга-гол, до двух – трех сажен, и Нэсэ-чю, до трех – пяти сажен шириною[289]. На юге в значительном отдалении белели снеговые вершины двух горных цепей – Сэрчим-нэга и Лапмын-нэга, вытянутых в широтном направлении. За этой скалистой стеною в самом диком и неприступном уголке Амдоского нагорья, окруженный разбойничьим племенем нголоков, прячется таинственный монастырь Рарчжа-гомба. Мне говорили, что монастырь расположен на величественном холме, с трех сторон омываемом змееобразным течением Хуан-хэ. В Рарчжа-гомба нам так и не удалось побывать.
Довольно густое и весьма зажиточное население с многочисленными стадами баранов, яков и табунами лошадей группировалось к западу от нашего пути, в ложбинах горных отрогов.
Пышные луговые пространства отписываемой долины сразу напомнили мне кукунорские степи. Здесь так же, как и там, встречались норы тарабаганов и пищух; нередко у дороги показывались зайцы, и даже осторожные лисицы иногда позволяли любоваться собою. Крылатые хищники – Buteo и Gennaia – по-прежнему преследовали грызунов. Борьба за существование и постоянное стремление сильнейшего одержать верх над более слабым – принципы, господствующие в мире животном, имели широкое применение и в окружавшей нас дикой, своенравной общине людей; почти ежедневно мы имели случай наблюдать двигавшиеся в разных направлениях вооруженные отряды нголоков, спешивших расправиться то с одним, то с другим враждебным племенем. В этот день мы таким образом встретили пятнадцать человек прекрасно вооруженных грабителей, следовавших из княжества Луцца на восток с целью напасть на подобных им разбойников, учинивших недавно самосуд над их однохошунцем-конокрадом.
В течение всего первого перехода от урочища Шаныг экспедицию сопровождал сильный юго-западный ветер, вздымавший облака пыли и постепенно превратившийся в бурю. Животная жизнь как-то сразу притихла; все обитатели степи скрылись по своим норам; с подветренной стороны одного маленького бугорка я заметил сидящего насупившись светлогрудого Buteo, остроумно спасавшегося таким образом от непогоды. С трудом осилив еще несколько верст, мы решили последовать примеру птицы и, остановившись ранее обыкновенного в урочище Батцы-ту[290] по соседству со стойбищем сына Лу-хомбо – Луань-гоу-женя, прибегнуть к единственной защите путешественников – неизменной палатке.
Более теплые, приветливые дни сменялись почти всегда холодными нудными ночами, не дававшими ни нравственного, ни физического отдыха. Стоишь, бывало, на дежурстве у бивака в самую глухую полночь, сжимаешь винтовку закоченелыми руками, прислушиваешься и чутко ловишь малейший шорох. В спящей природе абсолютная тишина; звезды и планеты горят ярко, и в течение долгих часов невольно наблюдаешь их правильный и вечный путь по небу. В северо-западной части горизонта пылает алое зарево – это степной пожар то вспыхивает, то потухает, порою причудливо освещая облака, порою поднимаясь на седловины горных кряжей и рисуя воображению действующие вулканы. У ног прыгают грызуны; в соседних холмах кричит заяц, и изредка издает свои глухие ноющие звуки филин. Если невдалеке кочуют тангуты, то до слуха очень отчетливо доносится неистовый лай собак и дикие выкрики туземной стражи, бдительно охраняющей покой своего родного стойбища. Томительно тянется время; отстояв, наконец, положенные пять-шесть часов, торопишься в палатку отдохнуть перед следующим переходом, но лютый двадцатиградусный мороз дает себя чувствовать: постель холодна, как лед, и никакое одеяло не может согреть закоченевшие члены. Так усталый и сонный ежишься до самого утра и забываешься лишь на один-два часа, после того как дежурный казак немного согреет палатку походной печью.
Южнее долины Ба дорога раздвоилась; с сожалением отказавшись от интересного в естественно-историческом и этнографическом отношениях пути на Рарчжа-гомба, мы избрали юго-восточное (затем восточное и северо-восточное) направление к монастырю Лавран, надеясь таким образом успешнее освободиться от тяжелых разбойничьих сетей.
Четырнадцатого января, пользуясь любезным содействием молодого грабителя Луань-гоу-женя, экспедиция благополучно прибыла в хошун зятя Лу-хомбо – Хор-хон-женя. Родственники быстро обменялись несколькими теплыми словами, и в результате наш новый знакомый потребовал еще более высокую и несуразную плату за животных и проводников, чем стянувший с нас втридорога Луань-гоу-жень. Приходилось покоряться обстоятельствам; пока другого выхода не было. Зять Лу-хомбо охотно навещал нас на биваке, постоянно выпрашивая разные подачки, беседуя о текущих событиях. Но никто из членов экспедиции не допускался в его палатки.
Однажды он даже проговорился и рассказал нам о том, как луццаский князь принимал самое деятельное участие в организации предательского нападения на экспедицию и как в этой стычке сильно пострадал самый лучший и храбрейший тангутский отряд. При этом Хор-хон-жень заметил: «Хорошо, что русские не были зачинщиками кровавого столкновения, иначе мы все восстали бы против них, – и, помолчав, добавил, – прошу вас милостиво относиться к тангутам моего хошуна, они вам не сделали ничего дурного. Прежде чем применять вооруженную силу, старайтесь всегда угадать, с кем вы имеете дело, а для этого достаточно окликнуть подозрительного человека словом «аро», то есть приятель; если он повторит ваше приветствие – вы можете спокойно продолжать ваш путь, если же он промолчит – стреляйте без промедления». Суровый и краткий, но вместе с тем справедливый наказ, о котором мы не раз потом вспоминали, как вспоминали и некоторых амдоских вождей, отличавшихся известным благородством.
Дни шли за днями, а экспедиция все глубже уходила в дикий, пустынный горный лабиринт, из которого, казалось, нет выхода. С перевала Джэму-лацци, круто сбегавшего к югу, за ближайшими второстепенными высотами снова открылись виденные ранее серебристые, матовые, белоснежные Сэрчим-нэга и Лапмын-нэга. Внизу блестела Ркачюн-чю, стремительно несшая свои прозрачные воды по каменистому, круто падающему ложу с юго-востока на северо-запад.
Ркачюн-чю – типичная горная речка, имеющая не более одного фута [0,3 м]глубины, при трех – пяти саженях ширины, заключена в сравнительно неглубокой долине (не превышающей сто – двести саженей [400 м] ширины), обставленной крутыми берегами, изрезанными приветливыми ущельями и оврагами. Прекрасные альпийские луга спускаются почти до самой воды, где их местами сменяют заросли курильского чая (Роtentilla fruticosa), дающие приют мелким пташкам, вроде рыжебрюхой горихвостки (Ruticilla erythrogastra) [Phoenicurus erythrogastra] и других. При нашем приближении с речки поднялась пара крякв, а белогрудная оляпка (Cinclus cashmeriensis) продолжала исследовать прозрачную воду, с писком пролетая вниз или вверх по течению.
В урочище Ркачюн-джун ледяные забереги речки были довольно основательных размеров, а еще выше они сомкнулись в одну сплошную массу, оставив нас снова без свежей воды.
Экспедиция исследовала долину Ркачюн-чю на протяжении десяти верст к юго-востоку, а затем, повернув вдоль одного из ее притоков, остановилась в урочище Всилун, поднятом выше 12600 футов [3800 м] над уровнем моря – это в долине. В одном из боковых ущелий мы отметили маленькую походную кумирню, принадлежавшую гэгэну, кочевавшему здесь же по соседству в сопровождении немногочисленного штата лам и богомольцев.
Население, состоявшее преимущественно из тангутов и редких разрозненных групп нголоков, по-прежнему проявляло хищнические инстинкты по отношению к европейцам и их богатому вооружению. Вымогая от нас всеми способами серебро и всячески выпрашивая хоть одну винтовку, туземцы ухитрялись плутовать еще иным способом – они скрывали более легкую, прямую дорогу на Лавран и вели усталый караван зигзагами, заставляя иногда проделывать совершенно излишние боковые петли. Китайцы-переводчики – прирожденные трусы – не решались точно передавать моих резких и решительных слов туземцам, и те, приписывая нашу уступчивость слабости, с каждым днем становились более и более дерзкими. Мое терпение приходило к концу, а между тем расстояние до Лаврана, казавшегося нам обетованною землею, сокращалось необыкновенно медленно. Лучшими показателями нашего постепенного движения к югу был вышеупомянутый отдаленный хребет Сэр-чим и Лапмын-нэга, названный тангутами на этот раз иначе, а именно Цза-сура.
С каждого следующего перевала могучая цепь обрисовывалась все с большей отчетливостью. Наконец, поднявшись к вершине горного прохода Птыг-чори, насчитывающего 13 730 футов [4184 м] над океаном, члены экспедиции увидели, что их отделяет от альпийското хребта лишь неширокая (одна-две версты) долина. Гребень Цза-сура обнаруживал оголенные, резкие в своих очертаниях скалы и утесы, кое-где обильно засыпанные снегом; безжизненный однообразный ландшафт верхнего пояса несколько ниже сменялся альпийскими лугами, по которым сбегали быстрые шумные речки, впадая в более крупную артерию – реку Кда-чю. Долина, с кочковатым дном и пасущимися на ней антилопами ада (Procapra picticauda), очень напоминала нагорные равнины Тибета, где только вместо домашних яков бродят огромные дикие их собратья (Bos grunniens)[291].
Лишь перевалив мягкое луговое плато Джандэль (собственно платообразный перевал) и выступив на вершину перевала Хамыр, нам открылись на далеком востоке-северо-востоке две цепи гор, указывавшие истинное лавранское направление.
Сумерки застали экспедицию в холодном неуютном урочище Ары-тава, в двух верстах от Хамыра, по соседству с тангутским стойбищем. Присутствие человека, как везде в Центральной Азии, привлекало многочисленных воронов-санитаров, круживших над темными банагами. К вечеру стал падать снег, достигший вскоре трех дюймов [7 см] глубины и сильно изменивший пейзаж. Над биваком с оживленным криком пролетела стайка чечеток; изредка слышался приятный голос Melanocorypha maxima. Но нам не суждено было долго наслаждаться тихим уединением. Каким-то чутьем узнавшие о прибытии русских, туземцы тотчас поспешили к нашим палаткам со своими вечными расспросами и бесцеремонным любопытством.
Украшенные по обыкновению длинными лентами, свешивающимися по спине[292], женщины тащили на руках грудных младенцев, а более взрослые дети сами бежали к нам, и вся эта публика без всякого стеснения залезала в палатки, выпрашивала сахар и никогда не упускала случая своровать все, что попадало под руку. Так, например, у меня украли нагайку, у некоторых из моих спутников отрезали стремена, а у китайцев стащили уздечки. Когда же китайский тунши в досаде замахнулся на одного из воров кнутом, откуда-то немедленно с криком вынырнул вооруженный всадник – отец вора, как оказалось впоследствии, со стягом у седла, и стал угрожать саблей. Еле-еле успокоили его благоразумные собратья, а подоспевшая супруга совсем привела озверевшего разбойника в чувство, ударив его несколько раз стягом по голове.
Нахальный вид и задор, светившиеся в глазах каждого взрослого тангута, раздражали участников экспедиции до последней степени, а стремление нарочно толкнуть или задеть вас рождало желание не задумываясь жестоко отомстить разбойникам.
Глава туземцев – довольно важный лама – не отличался высокой нравственностью и так же, как и прочие монахи, уже не говоря про мирян, любил вино и смертоносное оружие больше всего на свете. Считаясь со вкусами и взглядами этих плутов, мы старались расположить их к себе соответствующими подарками, многозначительно показывая им между прочим прекрасный редкий портрет Далай-ламы и бумагу цин-цая, служившую нам в виде охранного листа. Но все наши старания не достигали цели: повторяю, и здесь вместо одного-двух проводников экспедиции навязывали целый отряд в пятнадцать человек с платою каждому по одному лану серебра в день. Подобная нелепость объяснялась самым простым и наивным образом: разбойники доказывали, что они недавно совершили набег на обитателей попутных хошунов, несколько человек убили и угнали табун лошадей. Боясь мести, они якобы не решались путешествовать в одиночку и пускались в путь только группами не менее десяти всадников.
Утро девятнадцатого января расцвело бледное и туманное. Экспедиционные животные с трудом шагали по высохшим или, вернее, замерзшим кочкам шириков. Однообразие унылой картины несколько оживлялось изящными антилопами ада, появлявшимися то здесь, то там и развлекавшими нас своими легкими прыжками.
Огибая подножья гор, мы заметили следовавший навстречу каравану тангутский разъезд. Увидев нас, он свернул в сторону, но затем, ловко воспользовавшись прикрытием вздымавшегося на пути увала, снова поскакал к нам, думая украдкой пробраться к путникам.
Сопровождавший наш караван лама в страхе торопил нас немедленно открыть стрельбу по разбойникам, что мы, убедившись в их предательском маневре, не замедлили сделать. Четыркин и Полютов тотчас поднялись на ближайший увал – пригорок – и на расстоянии восьмисот шагов одновременно выстрелили по три раза, в результате чего убили лошадь и подстрелили двух тангутов.
Не прошло и нескольких минут, как разъезд нагнал нас и, вступив в переговоры, выставил нам жестокое обвинение в ранении ни в чем неповинных товарищей. Предатель-лама целиком отрекся от своих слов о необходимости стрелять по негодяям, и пришлось употребить все усилия, чтобы исчерпать инцидент мирным путем. В конце концов за убитую лошадь было отдано два лучших коня, а раненым людям подарена порядочная сумма на лечение. Переговоры несколько раз прерывались злобными выступлениями туземцев, которые ежеминутно грозили перейти в рукопашную схватку.
На душе у всех было смутно и тяжело; погода вполне гармонировала с настроением: пронизывающий ветер пробивал одежду насквозь, а упорный густой снег слепил глаза.
Туземцы-проводники все более и более проявляли свои хищнические наклонности. Двое из них, приблизившись ко мне сзади, несколько раз прицеливались в меня пиками, выбирая для изменнического удара лишь более удобный момент. К счастью, гренадер Демиденко вовремя заметил опасность и предупредил роковое несчастье.
В сумерках путешественники остановились в долине Дэг-зачжа, в урочище Нэрык-тон поблизости прекрасного ключа. Кругом завывала вьюга, и мокрый аргал – наше единственное топливо – долгое время не разгорался, лишая нас живительного тепла.
Вдали на косогоре показался всадник; он долго неподвижно стоял, глядя на нас, а потом исчез за холмом, мелькнув на фоне бледного неба странным силуэтом. «Да это не человек, а большой волк», – промолвил один из нас, будучи вооружен биноклем, и все посмеялись своей ошибке. Нервное возбуждение мешало спокойному сну, да и вся обстановка мало способствовала отдыху. Наши враги – тангуты, не скрывавшие своей ненависти к чужеземцам, устраивались на ночь рядом с экспедиционными палатками, и волей-неволей мы не смыкали глаз. Спали только наиболее усталые, спали тогда, когда от сильного переутомления притуплялись все чувства и страх смерти, призрак которой не раз витал над нами, исчезал сам собою, уступая место полному безразличию. Наша всегдашняя союзница луна не изменила нам и в эту тревожную ночь. С ее помощью и благодаря открытой позиции, которая всегда выбиралась для ночлега, трое часовых могли надеяться вовремя предупредить всякое нападение.
Долина Дэг-зачжа открылась нам со всею ясностью лишь с рассветом следующего утра; от незамерзающих ключей поднимался густой пар, но в общем воздух был прозрачнее обыкновенного, и день обещал быть ясным. Расступившись по сторонам на семь – десять верст к северу и югу и дав место кочковатому ширику, возвышались холмы, одетые лишь луговой растительностью при полном отсутствии не только леса, но даже кустарников.
Речка Вдэ-чю или Рзэ-чю, течению которой мы следовали от самого перевала Хамыр, жмется к южному краю долины, образуя благодаря своему медленному течению многочисленные и самые неожиданные извилины. Корытообразное русло этой речки, шириною в пятнадцать – двадцать сажен [30–40 м], имеет мягкое черное илистое дно и обставлено возвышенными, до трех – четырех футов [0,9–1,2 м], обрывистыми берегами. В урочище Рзэт мощным движением к востоку Вдэ-чю прорывает гряды холмов и, оставив Дэг-зачжи, устремляется в соседнюю долину Натон, носящую прежний кочковатый характер.
Чем выше поднималось солнце, тем чувствительнее оно жгло лицо. В тени температура не превышала –9,4°С, но несмотря на это горячие лучи оживляли заснувших было насекомых, и вскоре мы увидели мух, бойко летавших около каравана животных. В воздухе царила полная тишина, лишь звонкие приятные голоса больших жаворонков радостно долетали с высоты. К востоку и западу, насколько хватало глаз, тянулась пересеченная местность без признаков человеческого жилья. Впрочем, среди отдаленных шириков кое-где пестрели темные точки домашнего скота, пасшегося в полном согласии с антилопами ада. Только глядя на эти стада, становилось очевидным недалекое присутствие корчевий номадов.
Сделав крутой поворот, дорога обогнула увал, за которым действительно тотчас обнаружилась стоявшая в прикрытии, в урочище Саголыгэ, группа тангутских банагов.
Не успели мы остановить и связать караван, как от разбойничьего стойбища немедленно отделилось несколько десятков с ног до головы вооруженных всадников, стремительно понесшихся на нас в атаку. Справа на отличном скакуне выделялся начальник отряда, по-видимому, ловкий наездник. Нападение было совершенно неожиданным. В следующую минуту с нашей стороны выступило несколько проводников-туземцев, догадливо решившихся встать между тангутами и русскими, дабы предотвратить кровопролитие. Произошло невольное замешательство. Тангуты придержали коней и в ожидании выстроились в ряд, гордо подняв пики частоколом.
Я осведомился, с кем имею дело, и получил ответ, что собравшиеся негодяи представляют из себя эскорт одного из гэгэнов; сейчас они выехали к нам навстречу, якобы для того, чтобы узнать намерение русских. Не доверяя ни одному слову предателей, я предложил им выделить из своей среды двух-трех человек – старших тангутов для беседы со мною. На мое предложение не замедлил откликнуться сам начальник большого, в двести пятьдесят палаток, хошуна Чэма по имени Кгарма – человек китайского типа, в больших очках, явившийся к нам на белой лошади в сопровождении своего красавца-сына и приближенного советника. Пригласив гостей в палатку, мы угостили их спиртом, до которого все оказались большими охотниками[293], и поднесли им подарки. Старший чиновник получил кусок парчи, сын его – охотничий нож, советник – красную флягу «царского пороха», а отсутствовавшей супруге старика я просил передать кирпич чая.
Но ни подарки, ни угощение не смягчают разбойничьих нравов. Сказав похвальное слово по поводу подарков и принеся мнимое уверение в дружбе, тангуты кончили тем, что взяли с нас за продовольствие, животных и проводников еще более недобросовестную плату, чем их предшественники. Выяснилось, что и здесь, как вообще всюду на Амдоском нагорье, отдельные хошуны живут в непримиримой вражде друг с другом из-за постоянных обоюдных грабежей и убийств. Такие «добрососедские» отношения тангутов между собою, конечно, весьма плачевно отражались на нашем маршруте, который в зависимости от этого часто претерпевал самые различные изменения.
Все же я могу сказать, что из всех тангутских вождей наиболее симпатичным до конца оставался именно наш новый знакомый – Кгарма, проведший экспедицию через все свои владения вплоть до следующего разбойничьего стана – Гуань-ею-Дунчжуб. Не упуская личной выгоды, он все-таки сочувствовал экспедиции и во всем, исключая денег, охотно шел на уступки. Весьма разумный от природы и бывалый вояка, Кгарма был интереснейшим собеседником, с которым я не раз забывался по вечерам в длинных разговорах. Наше оружие не переставало восхищать влиятельного тангута и, хвастая своей относительно меткой стрельбой, он часто просил членов экспедиции, в свою очередь, показать свое искусство.
Мы всегда охотно исполняли подобные просьбы, так как репутация отличных стрелков наилучшим образом гарантировала нашу безопасность.
Упорно и настойчиво двигалась незначительная горсточка людей, следуя отчасти пешком, отчасти верхом на лошадях или яках вслед за кучкою темных быков, издающих свое оригинальное хрюканье и задевающих вьюк за вьюк. В непосредственной близости к каравану гарцуют на отличных конях вооруженные разбойники. Этот эскорт не внушает к себе ни малейшего доверия, но делает вид, что охраняет русских. В сомнительных местах он поднимается на прилежащие вершины, зорко всматривается в даль и предупреждает об опасности, готовя, может быть, в то же самое время сам еще более страшную ловушку. Иногда совершенно неожиданно разъезд пускается в карьер и, проскакав известное расстояние, останавливается для совещания и чаепития.
Сначала все тихо кругом и видны одни силуэты тангутов, раскладывающих костер; потом вдруг среди общего безмолвия гор сразу раздаются резкие пронзительные крики, приводящие новичков в жуткий ужас. Молодежь невольно вздрагивает в седле и хватается за оружие. Но это ложная тревога – тангуты сварили чай и, брызгая по сторонам горячей влагой, кричат просительную молитву к богу гор, вымаливая благословение на предстоящий путь. А ночи, действительно, страшные ночи. Сколько, сколько раз, систематически, туземцы готовили нам Варфоломеевскую ночь[294]. Во время ночных дежурств я сам часто наблюдал большие разъезды разбойников, которые, остановившись в отдалении, часами смотрели на наш бивак, следя за часовыми и как бы не решаясь напасть. Измучив дежурных томительным бесплодным ожиданием, разбойники внезапно вскакивали в седла и быстро исчезали, теряясь в глубоком мраке.
Двадцать первого января экспедиция выступила после обеда и направилась вдоль по обширной долине Натон, лежащей также на значительной абсолютной высоте. Вдали, как на северо-востоке, так и на юго-западе, вздымались засыпанные снегом внушительные горные массивы, создававшие величественное впечатление. Дно долины по-прежнему было испещрено характерными для всех высокогорных долин Тибета болотистыми кочками мотошириков. Пернатый мир вносил мало разнообразия в монотонность окружающего: лишь изредка пролетит, бывало, изящный лунь, промчится быстрым полетом сокол (Gennaia [Falco] или Tinnuneulus [Cerchneis]) и вновь опять кругом все затихает в чуткой дремоте, прерываемой одними нежными голосами жаворонков – Melanocoryphoides maxima [Zvlelanacorypha maxima] et Otocorys elwesi elwesi [Eremofila alpestris].
В шести-семи верстах к северо-востоку от урочища Саголыгэ караван пересек большую дорогу из Куку-нора в Сун-пан-тин южнее Лаврана и, переправившись по льду через прихотливо-извилистую речку, остановился лагерем на берегу Рзэ-чю подле холма Джясы-лапци, сделав в этот день маленький шестнадцативерстный переход.
Путешественники с нескрываемым нетерпением, повторяю, словно обетованной земли, ожидали монастыря Лаврана. Время тянулось бесконечно долго, холмы вырастали за холмами, с вершин перевалов открывались новые горы, долины и речки. Казалось, им не будет конца. Караван следовал более или менее вдоль по течению Рзэ-чю, и только в месте ее слияния с небольшим притоком Чун-чю мы с сожалением расстались с приветливой и интересной в научном отношении речкой, продолжая путь на восток. Только с ближайших холмов мы наконец увидели суровые запорошенные снегом складки хребта, отделявшего нас от Лаврана.
Приблизившись к хошуну Гуань-сю-Дунчжуба с юго-западной окраины его, наш «приятель» Кгарма направился для личных предварительных переговоров со своим родственником – хошунным начальником, а караван расположился на ночевку в урочище Хур-мару.
Теперь до монастыря Лаврана оставалось всего лишь четыре перехода, проходящих частью в области горных цепей Цзэ-ког и другой – безымянной цепи, с перевалом Кисэр-ла, лежащим также поперек нашего пути, а частью в области междугорных мягких долин рек и речек системы Хуан-хэ.
Давно мы уже не видели солнышка! Дни за днями неизменно расцветали пасмурные, облачные; слегка подернутый туманом окрестный воздух не позволял производить наблюдений общегеографического характера в желательных размерах. Наши работы главным образом сосредоточивались на ведении путевого дневника, вычерчивании съемки и метеорологических и астрономических наблюдениях. Коллекции, за исключением геологической, росли очень медленно, так как природа спала крепким сном. Одни только четвероногие и пернатые хищники прекрасно чувствовали себя среди суровых гор. По ночам к биваку нередко подходили украдкой голодные волки, которых приходилось отпугивать выстрелами. Бородатые ягнятники, белые и бурые грифы и орлы-беркуты наблюдались почти ежедневно над вершинами, убеленными снегом.
В боковых падях, иногда укрытых низкорослым кустарником и защищенных от холодных ветров, прекрасно зимовала кабарга, а из птиц – земляные вьюрки, сойки (Pseudopodoces humilis) и ушастые жаворонки. Выше – в скалистых частях ущелий – находили себе убежище строгие улары (Tetraogallus tibetanus Przewalskii). Холод и довольно обильный в горах снег не мешали, однако, жизни пробиваться понемногу наружу. Так, например, двадцать четвертого января у обрывистого берега речки под дерном мои спутники были обрадованы находкою первых жуков.
По ночам в нашем неприспособленном к климату летнем жилище бывало довольно неуютно; все с сожалением вспоминали удобную теплую юрту, но никто не роптал на судьбу, так как тут же, рядом, туземцы-подводчики, в сущности такие же люди, как и мы, являли удивительный пример стойкости и выносливости, живя просто под открытым небом. Эти закаленные жизнью обитатели Амдоского нагорья даже в самые большие морозы не изменяли своей привычке и в пылу горячего спора сбрасывали с правого плеча стеснявшие их движения одежды.
Установив связь с Гуань-сю-Дунчжубом, наш спутник и, по его собственным заверениям, преданный друг Кгарма стал собираться в обратный путь. На прощанье он выпросил у меня еще подарок в награду за то, что экспедиция благополучно и без лишних уклонений от прямого маршрута прибыла в Хурмару[295]. По удовлетворении хитрого тангута я занялся переговорами с местным хошунным начальником; Гуань-сю держал себя весьма учтиво, при встрече всегда вежливо склонял свою могучую фигуру и выставлял руки с поднятыми кверху большими пальцами, говоря: «Хомбо, дэму-ина!». Деликатное обращение не помешало ему, однако, отказать путешественникам в их скромной просьбе: доставить экспедицию непосредственно в монастырь Лавран. Дунчжуб сознался, что в этом буддийском центре как раз находится та купеческая фирма, члена которой он недавно зарубил своими руками. В виду этого разбойник соглашался проводить нас всего лишь до некоего бэйсэ[296], кочующего в расстоянии одного перехода от Лаврана.
Двадцать пятого января с раннего утра начались работы по вьючке быков; в присутствии целой толпы туземцев наш караван быстро сформировался и бодро зашагал вдоль гор, глубже и глубже проникая в хребет Цзэ-ког и держа строго северо-восточное направление.
Густая кустарниковая растительность караганы на полуденных склонах массива сменялась хорошими кормными лугами, отливавшими красивым золотистым оттенком.
Главная седловина Цзэ-кога, известная под названием Санэга-нэга, не открыла нам широких горизонтов, заслонявшихся системою второстепенных высот. На перевале дул сильный пронизывающий ветер, где-то в стороне слышались звонкие голоса клушиц; по кустам перелетали щеврицы и Pruriella rubeculoides; тибетские улары порядочным выводком кормились на солнечном пригреве, а высоко в небе плавно носились грифы и бородатый ягнятник.
Спускаться с перевала пришлось по крутому каменистому, засыпанному снегом ущелью. Торная дорога указывала на существование постоянного движения между стойбищами, расположенными к северо-востоку и юго-западу от хребта. Местами наше внимание сосредоточивалось на следах недавнего пребывания номадов. На плоских, свободных от снега лужайках темнели вытоптанные, лишенные травы площадки, где прежде стояли палатки или банаги тангутов; всюду валялся аргал, изредка попадались и кости животных, а однажды я нашел даже каменное орудие – особого рода колотушку с рукояткой для вбивания в землю шеронов.
В течение двух первых дней пути экспедиция следовала среди довольно сложной системы горных гряд и отдельных высот; кочевое население по-прежнему оставалось воинственным, и приходилось быть настороже.
Двадцать шестого января под перевалом Кисэр-ла, когда путешественники мирно отдыхали за чашкой чая, среди полной тишины вдруг раздались странные вибрирующие звуки. Стоило лишь оглянуться на соседнюю вершину, как нашим глазам представилась группа конных тангутов, стоявших в полной боевой готовности. Наши подводчики тотчас ухватились за свои фитильные ружья, но Гуань-сю предупредил кровопролитие, вовремя крикнув: «Стой! Это свои». Столь простой и бесхитростный возглас возымел свое действие: грабители тотчас потеряли воинственный вид, повесили за плечи свои самопалы и вмиг исчезли за косогором.
На следующей стоянке, в урочище Самарин-гдо, где три ущелья, сливаясь в одно, образуют значительное расширение долины, мы вновь имели маленькое столкновенье с туземцами. На этот раз нас потревожили свои же проводники, которые самым дерзким, вызывающим образом стали требовать немедленной уплаты денег за нанятых животных. Только после выдачи мошенникам большого ямба[297] серебра в отряде экспедиции снова воцарилась обычная тишина.
Вступив на берег речки Чернар-ганды, мы уже не покидали ее течения до самого Лаврана, где она, значительно увеличенная в размерах слиянием с многоводными притоками, известна под именем Сан-чу. По мере продвижения на восток Чернар-ганды описывала довольно характерную излучину сначала к северу, а потом к югу; окружающие горы становились мягче, речка все более освобождалась ото льда, и шум воды как-то особенно отрадно отдавался в душе каждого из нас. На северо-западе, высоко доминируя над соседними высотами, отчетливо обрисовывались две острые и одна плоская вершины священных гор Рарчжа-лацци, привлекающих в летнее время буддистов-паломников[298]. Справа ближайшие гряды холмов были объяты пламенем. Пышные прошлогодние травы вспыхивали ярким костром, и огонь, перебегая змейками, разрастался в сплошной пожар.
Среди многочисленных кустарников и высокой древесной растительности замечалось необычайное для зимнего времени оживление. Красные и голубые фазаны (Phasianus decollatus Strauchi [Ph. strauchi], Crossoptilon auritum), чечевицы, горные чечетки, поползни, овсянки, альпийские синицы (Poecile affinis [Parus atricapillus]) и краснохвостки были здесь, по-видимому, привычными гостями или, вернее, постоянными обитателями. Над быстрыми водами Чернар-ганды с веселым криком проносились серые кулики-серпоклювы и изящная оляпка (Cinclus с. cashmeriensis). Казалось, природа оживала с каждым часом нашего движения. Повернув согласно изгибу речки к юго-востоку, экспедиция поднялась на высокий обрывистый берег, откуда открылись очаровательные виды на всю долину. Могу представить себе этот уголок летом, в июне месяце, когда Чернар-ганды с ее сетью серебристых рукавов тонет в сплошной зелени трав, кустарников и деревьев, откуда льются сотни голосов пернатых. Синее небо, яркое солнце дополняют прелесть Чернарской долины.
Наконец настало и двадцать восьмое января – день, когда мы должны были увидеть Лавран. По мере приближения к этому монастырю наш Дунчжуб становился все мрачнее. Утром означенного дня он совсем раскапризничался и объявил, что дальше нас не поведет. Никакие уговоры и угрозы не помогали. Я понял, что пришло время действовать энергично, решительно, без всякого стеснения. Потребовав к себе Дунчжуба, я неожиданно схватил его за шиворот и, приставив к его виску дуло револьвера, потребовал немедленного выступления каравана. Хошунный начальник вмиг смирился. Не прошло и одной минуты, как уже послышался его грозный окрик туземцам: «Вьючьте, живо!». Через полчаса мы уже бодро шли вниз по прихотливо извивающейся к юго-востоку речке, вырвавшейся наконец из сжимавших ее горных отрогов, которые расступились, в особенности в восточном направлении; несколько к югу-востоку тянулись отроги массивного хребта Рдюк-ка-гэгэ-нэга, известного под общим названием Джавли-сантут. От подножья этого массива вниз по долине Тана стремительно неслась речка, сливавшаяся впоследствии с Чернар-ганды.
Послав китайского тунши и переводчика экспедиции Полютова налегке в виде авангарда в Лавран и поручив им разыскать там наш транспорт[299], экспедиция повернула на северо-восток, обогнула каменистый выступ и снова стала углубляться в горы. По правому берегу Сан-чу в ту и другую сторону передвигались туземные караваны. Вот показались и селения, окруженные пашнями. В бинокль можно было различить стада рогатого скота и баранов, пасшихся поблизости, а также собак и даже кур. Все эти признаки культуры с величайшею радостью воспринимались сильно утомленными путниками.
Не доходя Лаврана, слева над ущельем, высоко прилепившись в скалах, красовался миниатюрный монастырь Жамьян-шадбы – летняя резиденция главного местного хутухты. Его окружал хвойный лес, группами стоявший по склонам ущелья, где свободно и безбоязненно держатся кабарга, лисицы, зайцы, горделивые голубые фазаны отдельными выводками спокойно расхаживают, разрывая рыхлую землю и мирно переговариваясь между собою, нисколько не чуждаясь человека. Здесь запрещена всякая охота, жизнь во всех ее проявлениях охраняется монахами, которые в этом тихом уединении научаются познавать великие истины буддийской религии.
Несколько поодаль, за выступающим в долину каменистым мысом, начинаются уже постройки монастыря Лаврана. Слева, у подножья обнаженных гор, расположены более древние храмы, а по набережной речки Сан-чу – позднейшие.
Переводчик Полютов и местный старшина торговой колонии – купец дунганин по имени Ма-чан-шань приветствовали вступление экспедиции в монастырь и, передав нам довольно обильную почту из России, проводили усталый караван до торгового подворья, где в отдельном симпатичном домике мы нашли весь наш багаж в самом образцовом порядке. Здесь, среди гостеприимных, радушных дунган, русские путешественники впервые после долгого периода непрестанного нравственного напряжения почувствовали себя уютно и непринужденно.
Прежде всего все принялись за письма. Среди радостных сообщений о большом интересе, вызванном в ученом мире нашим общим детищем Хара-Хото, была и грустная весть: умер один из славных представителей Географического общества – Александр Васильевич Григорьев. Этот человек великой душой, глубоким умом, искренней теплой дружбой всегда поддерживал и вдохновлял на новые подвиги всех нас – русских исследователей. Тесно сроднившись с Географическим обществом, он жил всецело его интересами, а потому каждый успех ученой экспедиции радовал и умилял его, доставляя нравственное удовлетворение. Во всем обаятельном величии встал передо мною светлый образ незабвенного Александра Васильевича; к нему одному неслись все мои стремления; словно завороженный его духом, я чувствовал себя в тесном общении с ним – моим несравненным другом, преждевременно отошедшим в вечность. Тяжело было свыкнуться с мыслью о невозвратимой утрате такого благороднейшего человека.
Наутро следующего дня мы не без удовольствия простились со своими амдоскими подводчиками и, проводив их, почувствовали даже некоторое облегчение. Суровый богатырь Дунчжуб при расставании неожиданно растрогался и, поднеся мне на память хадак, произнес: «Уважаю тебя, пэмбу [начальник], за то, что сумел властно заставить меня вести экспедицию в Лавран; приказание бесстрашного энергичного начальника приятно и исполнить».
Тихо, безмятежно потекли дни пребывания экспедиции в буддийской обители. Все интересовало нас, везде мы находили много любопытного для наблюдений. Но больше всего, конечно, нас занимала великая буддийская святыня Лавран, к описанию которой теперь мы и приступим.
Историческое прошлое Лаврана. – Жамьян-шадба. – Местоположение монастыря. – Отношение лам и простого народа к европейцам. – Настоятель Лаврана гэгэн Жамьян-шадба. – Прочие гэгэны: Гунтан-цан, Гоман-цан и общий состав лам монастыря Лаврана. – Пестрота паломников и соседство торговой колонии. – Военная охрана монастыря. – Храмы и школы Лаврана. – Учащиеся ламы. – Одиночные кельи – ритод. – Лавранская живопись.
В1648 году вблизи нынешнего Лаврана, пишет Б. Б. Барадийн[300],в местности Гангья тан в одной кочующей бедной тангутской семье родился мальчик, которому впоследствии суждено было не только основать нынешний Лавран, но и сделаться величайшим ученым-мыслителем во всей новейшей истории тибетского буддизма, под именем Кунчэн Жамьян-шадба.
Первоначальную грамоту мальчик изучил у одного тангута-мирянина и затем уже юношей отправился с котомкой в Лхасу. В этом отношении он был одним из тибетских Ломоносовых, которые всегда стремились к своей Москве – Лхасе.
В Лхасе молодой человек поступил в цакидскую, т. е. философскую школу Гоман-дацан в монастыре Брайбуне. Здесь он вскоре обнаружил выдающиеся способности и обратил на себя внимание Далай-ламы V Великого. Он почти весь свой век прожил в Лхасе. Он составил новые учебники своей школы вместо старых, составленных ламой Кунчэн-Чойнжуном, и был избран ректором Гоман-дацана.
Литературно-ученая деятельность Жамьян-шадбы послужила и причиной выдающегося положения, которое впоследствии заняла гоманская школа среди прочих цанидских школ в Лхасе.
Среди своих современников Жамьян-шадба как ученый философ и проповедник буддизма не имел никого равного себе, и популярность его была так велика в Лхасе, что общественное мнение дало ему титул Кончэн Жамьян-шадба-доржэ, т. е. «Всеведущий алмаз, возбуждающий улыбку у бога мудрости Манчжушри». Собственное его имя было Агванцзондуй.
Жамьян-шадба вернулся на родину уже стариком и поселился вблизи нынешнего Лаврана в одной из горных обителей – в ритод-гома, чтобы остаток своей жизни прожить в суровом обиходе отшельника. Великий ученый, сделавшись теперь отшельником, систематизировал свои знания, созерцая среди тишины и величия горной природы; а кругом его мирной обители царствовала идиллия пастушеской жизни его соплеменников-тангутов да немногочисленных элетов с их князем Хонцо-ваном.
Наконец в 1710 году Жамьян-шадба ознаменовал свою религиозную деятельность основанием будущего Лаврана. Навстречу его желанию упомянутый элетский князь не только уступил местечко, занимаемое ныне Лавраном, и переместил свою ставку в сторону, но и деятельно помог великому ученому заложить монастырь.
Сначала Жамьян-шадбе был построен маленький дом Лавран, что значит дом ламы, и монастырь впоследствии стал называться Лавран-даши-кьил.
Жамьян-шадба умер в 1722 году, и Лавран не успел еще развиться в большой монастырь. Основатель успел только построить небольшой соборный храм, основать цаннидскую и гьудскую школы буддизма и устроить немногочисленные домики для монашеской общины.
Лавран особенно обязан своим возвышением двум лицам: второму Жамьян-шадбе – Жигмэд-вамбо (перерожденец первого), человеку весьма деятельного и практического ума, и его ученику Гунтан Дамби-донмэ, который своими высокоталантливыми сочинениями по философии буддизма и преподавательской деятельностью поставил лавранскую школу цаннида в блестящее положение в ряду прочих школ в других монастырях. В это время и монгольские ламы, затем и буряты (со второй половины минувшего столетия) во множестве стали посещать Лавран, так что в настоящее время духовное влияние Лаврана на всю Монголию и на бурят во всяком случае не уступает самой Лхасе.
Монастырь Лавран[301] лежит на высоте 9985 футов [3040 м] над уровнем моря, у самой границы земледельческой культуры, и представляет из себя религиозный просветительный и экономический центр Амдоското нагорья. Здесь путешественник может встретить тангутов, нголоков, тибетцев, монголов, являющихся сюда в качестве богомольцев, а также дунган и китайцев – в качестве всякого рода торговцев. Соответственно различию национальностей, замечается удивительно пестрое разнообразие костюмов. Особенно изысканно наряжаются женщины-тангутки, вкусившие зачатки цивилизации путем кровного союза с более культурными дунганами. Эти дамы носят цветные шубы, прекрасные лисьи шапки с красными кистями и свои национальные спинные украшения в виде лент, унизанных золочеными и серебряными безделушками. Кольца с каменьями и большие массивные серьги, которыми также не пренебрегают мужчины, дополняют оригинальный наряд.
Живя в торговой колонии, члены экспедиции имели возможность ежедневно наблюдать прибытие и отправление купеческих караванов. В Лавран привозились мануфактурные и металлические изделия, пригонялся в огромном количестве скот[302], а в Лань-чжоу-фу, Хэ-чжоу, Пекин и Сычуань отправлялись: шерсть, шкуры животных, мерлушки и вообще всякого рода пушнина. Между прочим, сычуаньские китайцы нередко рассказывали нам о богатой природе своего родного, далекого южного края и еще сильнее разжигали в нас желание увидеть заветную страну, куда, повторяю, в свое время так стремился мой покойный учитель Пржевальский. В тихом молитвенном приюте присутствие торговцев, группирующихся частью в непосредственной близости к монастырю, а частью в соседних селениях, вносит в мирную жизнь богомольцев некоторую дисгармонию и немало соблазнов. Вместе с тем успешный товарообмен, несомненно, увеличивает популярность Лаврана как средоточия жизни и деятельности края – население обогащается, обитель процветает.
Ламы, как более культурный элемент тангутского населения, относятся к европейцам подозрительно, с опасением, что европейцы могут затронуть их личные интересы, тогда как простой народ сам по себе смотрит на европейцев совершенно безразлично, проявляя лишь простое любопытство к иноземцам. Однако следует заметить, что в народе есть одно общенациональное поверье, что восхождение на господствующие в местности высоты дает преимущество этому человеку властвовать над окрестными людьми. Общественное мнение смотрит на восхождение частного человека на запретные вершины, как на преступное стремление нарушить свое равенство с окрестным населением и господствовать над ним.
При вражде общин каждая из них старается завладеть наиболее высокой вершиной гор на территории вражеской общины и воздвигнуть там свои военные флаги лундта, а враждебная окрестная община с суеверным страхом старается уничтожить воздвигнутые врагами флаги.
«Поэтому понятно, что народ может высказать решительный протест путешественникам-европейцам, когда им часто приходится производить свои измерительные работы на вершинах гор. И если эти вершины принадлежат к числу запретных, народ может открыть враждебные действия против европейцев-путешественников, видя в их поступках покушение на свою независимость и свободу»[303].
В настоящее время общий состав братии монастыря Лаврана исчисляется в три тысячи человек при восемнадцати больших и тридцати малых гэгэнах, не считая второстепенных перерожденцев, число которых также простирается до пятидесяти.
Сам глава Лаврана – Жамьян-шадба состоит в четвертом перерождении, высоко почитается верующими и имеет как в светских, так и в духовных делах решающий голос[304]. Он является автором многих мелких сочинений по разным отделам буддизма и считается примерным аскетом и созерцателем. В обоих лавранских, роскошно обставленных покоях он проживает редко, предпочитая проводить уединенную жизнь в своих красивых кельях, разбросанных там и сям в окрестностях Лаврана среди богатой горной природы.
После Жамьян-шадбы самым важным гэгэном в Лавране является Гунтан-цан – перерожденец одного из наместников Цзонхавы в Лхасе. Затем следует Гоман-цан, перерожденец одного из ректоров гоманской школы в Лхасе. Этот престарелый гэгэн считается выдающимся ученым и проповедником во всем Лавране и пользуется большой популярностью наравне с Жамьян-шадбой.
Перерожденцы в Лавране избираются по указанию Жамьян-шадбы.
Гэгэн Гунтан-цан является ближайшим помощником настоятеля, в особенности в делах светского характера. Он, между прочим, ведает охраною Лаврана, издавна поставленной на должную высоту. Охрана состоит из пятисот дисциплинированных воинов, вооруженных вперемешку европейскими винтовками, саблями, пиками и самодельными кремневыми или даже фитильными ружьями. Этим отрядом, расквартированным в ближайшем к Лаврану селении, командуют два интеллигентных офицера, имеющие звания лавран-нэрва.
Кроме таких перворазрядных войск, в распоряжении Гунтан-цана находятся запасные солдаты – тангуты, тибеты, нголоки окрестных мест, обязанные спешить на помощь монастырю в экстренных случаях.
Благодаря постоянной заботе о Лавране, все драгоценности почитаемой буддийской святыни находятся в полной безопасности и не пострадали даже при таком стихийном бедствии, каким явилось для всех культурных уголков Монголии и Северо-восточного Тибета дунганское восстание. Многочисленные храмы монастыря богаты роскошными бурханами, прекрасной тибетской и даже индийской, нередко старинной работы.
Пользуясь любезным разрешением Гунтан-цана, члены экспедиции осмотрели некоторые из более замечательных храмов.
Цокчэ-дукан – главный соборный храм Лаврана, поддерживаемый 165 колоннами, замечателен полным собранием так называемых «Тысячи бурханов» и золотым изображением Лондул-ламы – третьего Ванчиндаши-лхуньбо. Не менее наряден самый важный лхакан в Лавране – Сэрдун-чэмо, храм Майтреи, который принадлежит перерожденцам Жамьян-шадбы и стоит на северо-западном краю монастыря. Храм имеет золотую кровлю в китайском стиле. Внутри храма находится большая статуя бодисатвы Майтреи[305]. Как и все лхаканы, Сэрдун-чэмо имеет стенные картины. На внутренней стене налево от входной двери находится громадная рукописная надпись на полотне. Надпись эта излагает на тибетском языке историю храма и описание священных реликвий, находящихся в храме.
Между прочим здесь перечисляются те священные предметы культа, которые вложены вовнутрь самой статуи. В числе этих предметов упоминается как самая сокровенная из вложенных реликвий – санскритская рукопись на пальмовых листах, сочинение учителя Буддапалиты о философии средины. Из подарков богдыхана в этом храме находится знаменитый Гончжур[306]. Чжово-лхакан основан лишь в 1908 году и является хранилищем единственной в своем роде святыни – золотого изображения будды, по преданию побывавшего в руках самого бессмертного учителя. Будда восседает в маленькой пагоде, расположенной над головою бурхана Шакьямуни в центре Чжово-лхакан. Эта драгоценность долгое время хранилась в Индии, а затем в Лхасе, откуда была доставлена в Лавран основателем его – Жамьян-шадба.
Из остальных восемнадцати главных храмов следует упомянуть еще Гьудба-дукан, школу тантры – символики буддизма; в этом храме выделяются изображения Арьябало, Цзонхавы и будды.
Затем следуют Манба-дукан – школа медицины; Кьэдор-дукан – школа системы символики Хэваджры, и громадный Чортэн или Гуетан – субурган, символизирующий сердце будды. Внутри он обставлен статуями и изображениями. Здесь же помещается большое собрание тибетских и индийских книг и рукописей, а еще больше священных реликвий.
Джапын-басэн-дукан – очень нарядное новое здание, окаймленное садом, где в летнее время ламы устраивают религиозные беседы.
Долма-лхакан – храм тибетской архитектуры, построен лишь недавно и стоит рядом с большим белым субурганом значительной древности. Этому субургану приписывают особое мистическое значение, и молящиеся, в особенности люди, совершившие много злых деяний, с необыкновенным усердием по нескольку раз обходят его кругом, творя молитвы и земные поклоны.
Наконец храмы: Бурхан, известный печатанием книг религиозного содержания; Боин-зэт-лхакан, гордящийся своей научной индийской и тибетской библиотекой, и Чойбзэн-тобкан, представляющий музей старинного оружия (огнестрельного и холодного) и чучел представителей местной фауны.
При личных покоях настоятелей Жамьян-шадбы устроено нечто вроде казначейства, где хранится все монастырское золото, серебро и драгоценные камни. Там же разложены разные реликвии – одежды и чашки Далай-ламы с первого до седьмого перерождения; плеть богдо-хана, золотая книга, которую ламы выносят к народу при торжественных богослужениях, и даже окаменелость в виде рыбы, найденная в горах и тоже почитаемая буддистами священной за свое непонятное и таинственное в представлении номадов, происхождение.
Как центр культурно-просветительной деятельности края Лавран имеет четыре школы – гьудская, дуйнкорская, кьэдорская и манбинская – среднего образования и одну – цаннидскую – высшего, своего рода духовную академию. Слушателями являются представители всех упомянутых выше народностей, а лекторами или профессорами – преимущественно тибетцы или местные уроженцы.
Молодые учащиеся ламы помещаются в маленьких одиночных кельях, ютящихся рядом с монастырем по скату гор наподобие отшельнических ритод Восточного Тибета. В настоящее время тибетская наука в Лавране не развивается, а, скорее, падает. Как прежде, так и теперь все окончившие курс местной академии направляются на несколько лет в Лхасу, чтобы там пополнить пробел своих знаний и получить высшую ученую степень.
В общем Лавран производит впечатление очень богатого монастыря, в котором знаток и любитель буддизма найдет исключительные по красоте и редкости бурханы. По-видимому, покровители и почитатели Лаврана не только воинственны и горды, но также тщеславны и благочестивы, так как, бывая в Лхасе и других молитвенных центрах Тибета, они отовсюду привозят дары, служащие к украшению родной обители. В самом монастыре, при доме монгольского чиновника цин-вана, также есть мастерские, где отливаются металлические бурханы, но местная работа, конечно, значительно ниже тибетской, и в особенности индийской по своему качеству.
Многочисленные ламы занимаются, кроме того, иконописью, и летом можно наблюдать художников, усердно работающих в уединенных уголках прямо на лоне природы.
Заслуженная известность монастыря Лаврана. – Посещение Лаврана Г. Н. Потаниным и другими исследователями. – Ученый паломник Барадийн. – Праздник в монастыре Лавране: 14 февраля, 15 апреля, или весенний праздник поста и молитвы, осенний – 25 октября, торжественное молебствие – лычжа и другие. – Животная жизнь окрестных лесов. – Погода. – Дальнейший путь.
Пользуясь большим обаянием среди буддистов Южной Монголии и Северо-восточного Тибета, монастырь Лавран всегда манил к себе и европейских исследователей. Начиная с 1885 г., когда его впервые посетил Г. Н. Потанин[307], здесь побывали и французские, и немецкие, и английские путешественники. Наиболее ценное и подробное описание амдоской святыни нам дал, однако, не европеец, а бурят – Б. Б. Барадийн, закончивший высшее образование в Петербурге. Выйдя из университета и получив духовную и материальную поддержку Академии наук и Географического общества, этот молодой талантливый буддист отправился в Лавран, где пробыл целый год (1906), в деталях изучая быт и склад жизни монастыря и подвизающейся в нем братии[308].
Как во всех буддийских монастырях, в Лавране в году бывает несколько торжественных праздников, объединяющих очень большое количество молящихся. Нифудун-чю цунг-чю, день смерти первого Жамьян-шадбы, чествуется четырнадцатого февраля. День пятнадцатого апреля известен под именем весеннего праздника поста и молитвы, соответственно которому бывает такой же осенний праздник двадцать пятого октября. Седьмого июля – в память двух истекших веков с основания Лаврана[309]– также совершается торжественное молебствие, лычжа; и, наконец, пятый праздник Молэы или «Народный» заканчивает собою цикл годовых торжеств.
Ко времени празднования Нифудун-чю цунг-чю в Лавран собралось несколько десятков тысяч паломников. В храмах шли деятельные приготовления.
Накануне знаменательного дня четырнадцатого февраля члены экспедиции были разбужены на рассвете криком: «Вставайте скорее, посмотрите, как изгоняется из монастыря бес в образе человека!». Торопливо поднявшись с постелей, мы вышли на улицу и застали там довольно оригинальную картину: одетый и раскрашенный наподобие клоуна молодой тангут держал в правой руке большую волосяную кисть и, помахивая ею из стороны в сторону, выпрашивал у окружающей публики милостыню. Правая половина лица этого так называемого беса или по-монгольски «цзолика»[310] была выкрашена в белый цвет, левая же – в черный.
Соответственно этому и меховой халат его, вывернутый шерстью кверху, имел двоякую раскраску. Рядом с цзоликом шел человек, несший на спине мешок с многочисленными чохами, сыпавшимися со всех сторон, как из рога изобилия. Приблизившись к окраине монастыря, кто-то из присутствовавших выстрелил несколько раз в воздух, и тотчас загудели голоса многотысячной толпы, сливаясь в какой-то дикий вопль, перекатывавшийся от одного края долины к другому. В то же самое время над монастырем среди облака пыли блеснуло яркое пламя, пылавшее вокруг исполинского чучела цзолика. Прошло несколько минут, соломенный бес сгорел. Странный раскрашенный лама продвигался вперед; поднявшись по горной дороге, он исчез за ближайшим увалом, и тотчас стихло кругом.
Так, по верованию буддистов, в лице одного человека, принявшего на себя символически грехи всей обители, изгоняется из священного места все нечистое, злое, искусительное. Играющий роль беса лама раскрашивается в черный и белый цвета для того, чтобы всякий мог наглядно представить себе, как под влиянием неисчислимых прегрешений одна сторона или часть человека (темная) умирает, другая же на некоторое время еще остается жить. Цзолик обязуется покинуть монастырь навсегда и получает в награду за такое самопожертвование ямб серебра весом в пятьдесят лан; обыкновенно еще столько же изгнанник собирает добровольными пожертвованиями[311].
Полюбовавшись оригинальной церемонией издали, нам захотелось подойти ближе к шествию, и в сопровождении одного приезжего китайского чиновника из Хэ-чжоу и четырех кавалеристов мы присоединились к монахам. Сначала нас приняли довольно дружелюбно: по-видимому, мы вызвали только любопытство, но вскоре послышались раздраженные возгласы: «Орус-орус», и откуда-то полетели камни. Еще минута, и нас окружили злобные, дерзкие лица, с угрозой наседавшие на горсточку иностранцев. «Надо их изрубить», посоветовал кто-то, и тотчас в толпе произошло движение. Мигом оценив создавшееся положение, члены экспедиции быстрым поворотом ринулись в сторону и, пользуясь персеченной местностью, удалились к дому, следуя вдоль подножья круто ниспадавших холмов[312].
Четырнадцатого февраля на самой заре со стороны монастыря понеслись звуки могучих молитвенных барабанов, бубнов и раковин. К восьми часам утра по улицам Лаврана уже двигалась величественная стройная буддийская процессия. Впереди на золотой парче несли золотую тибетскую книгу, драгоценный камень и все прочие реликвии, которыми гордится обитель. Над морем голов гордо колыхались зонты и разные значки, что вместе с пестрыми тангутскими одеждами и ярко-красными плащами лам составляло оживленное нарядное зрелище. Совершив полный круг, шествие возвратилось к храмам, вблизи которых развевались большие красно-желтые (в шашку) флаги. После молебствия, изредка прерывавшегося боем молитвенных барабанов и звуками труб, толпа мирно разошлась по домам.
По миновании Нифудун-чю Лавран с каждым днем стал заметно пустеть. Из проезжих амдосцев оставались еще только те, которые не успели покончить с своими торговыми делами.
Русская экспедиция встретила в Лавране самый радушный прием. За отсутствием настоятеля нас любезно пригласил к себе заместитель Жамьян-шадбы – гэгэн Гунтан-цан, нголок по происхождению, в обычное время ведающий всеми светскими делами монастыря, симпатичный шестидесятилетний старик чисто библейского типа внешности. С первого знакомства у меня с Гунтан-цаном установились самые искренние, дружественные отношения и я без всякого труда получил разрешение посещать и изучать буддийские храмы[313]. В ответ на подарки, в особенности же те, которые он так хотел получить и получил, старец прислал мне несколько хороших металлических и иконописных бурханов, маленькое худрэ, два интересных гау и две «золотые книги»[314].
После долгого пребывания в степи или горах, после привольной походной жизни в лавранских торговых помещениях казалось скверно – душно и пыльно; по нескольку дней кряду мы не могли отделаться от беспричинных головных болей, кашля и какой-то тяжести в груди.
Знакомясь с буддийским молитвенным центром, мы не забывали и лесистых ущелий окрестных гор, куда в хорошие дни постоянно совершались охотничьи экскурсии и собирались семена и стволики древесных и кустарниковых представителей местной флоры и образцы горных пород.
В еловых лесах, произрастающих по северным скатам, сбегающих к долине Сан-чу, были замечены и добыты следующие птицы: зеленый франколин (Ithaginis sinensis sinensis [I. sinensis – фазан]), пестрая кустарница (Ianthocincla maxima), гималайский клест (Loxia himalayana), поползень Пржевальского (Sitta przewalskii [S. leucopsis Przewalskii]), пищуха-сверчок (Certhia familiaris Bianchii), альпийская синица (Poecile affinis [Parus articapilltts affinis]), синичка изящная (Lophobasileus elegans), синица хохлатая (Periparus beawani [Parus rufonuchalis]), синица долгохвостая (Acredula calva), горный вьюрок (Fringillauda nemoricola) и красивые красные вьюрки (Carpodacus dubius [G. thura] et C. pulcherrimus). Самыми обыкновенными обитателями здешних лесов являются: сорока (Pica р. bactriana [Pica pica]), голубая сорока (Cyanopolius cyanus [Cyanoca cianea], Pterrorhinus davidi, Troehalopteron ellioti, Spermolegus fulvescens [Prunella fulvescens], Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra], Cia godlewskii [Emberiza cia], крапивник, а вдоль речек – кулик серпоклюв (Ibidorrhynchus struthersi), водяная оляпка (Cinlus cashmeriensis [Cinclus с. cashmeriensis]) и большой крохаль (Mergus merganser).
Из млекопитающих наша коллекция обогатилась лишь кабаргой собственной охоты и парой шкурок интересной кошки, добытых на местном базаре.
Чтобы подышать свежим воздухом, я часто уходил или в ближайшие горы, или же просто поднимался на плоскую кровлю нашего дома, откуда открывался красивый вид вверх и вниз по лавранской долине. Особенно хорошо было здесь в солнечное время, при тихом прозрачном воздухе и мягкой синеве неба, в которой гордо описывали круги царственные хищники – грифы, ягнятники и орлы. Внизу с шумом катилась прозрачная речка по сплошному галечному руслу. Северные склоны гор темнели хвойным лесом, южные, в особенности в верхнем поясе, – желтели прошлогодними травами. Эти травы теперь местные амдоски срезали серпами и довольно большими вязанками сносили вниз на базарную площадку.
Погода не очень баловала нас; почти весь февраль простоял ветреный, пыльный; только по ночам небо становилось яснее, и дышалось легче и свободнее; из-за постоянной пыльной завесы, омрачавшей воздух, вначале нечего было и думать о фотографических снимках. Днем в редкие проблески тишины и лазури на солнечном пригреве проглядывало весеннее настроение: ручьи журчали веселее, воробьи перекликались громче обыкновенного, черные вороны проявляли стремление к гнездению и летали с веточками в клювах, а по крышам нежились на солнышке голуби и заклятые враги их – кошки.
Настала пора собираться в дорогу и нам.
Я предполагал направить главный караван прямой дорогой в Лань-чжоу-фу, а сам во главе маленького разъезда решил несколько отклониться в северо-западную сторону, с тем чтобы повидаться с Далай-ламою, который это время пребывал в Гумбуме.
Пятнадцатого февраля я сделал прощальные визиты одной местной аристократке – вдове тибетского чиновника – и Гунтан-цану, с которым мы расстались друзьями.
На следующий день я уже начал паломничество к Далай-ламе кратчайшей дорогой в знакомый читателю монастырь Гумбум.
Вступление. – Сборы в обратный путь. – Разделение экспедиции: я следую налегке в Гумбум к Далай-ламе, главный караван – в Лань-чжоу-фу. – Общая характеристика моего пути до городка Сюань-фуа-тин. – Речки Сечен-чю и Чжан-гагун. – Красивое место у горбатого моста. – Городок Сюань-фуа-тин. – Долина Хуан-хэ; переправа через эту реку и дальнейший путь. – Городок Баян-рун. – До Гумбума остается три перехода. – Характер этого горного пути. – Альпийский хребет Кычан-шань. – Дорога полна паломниками. – Приход в Гумбум.
По пути из Лхасы в Пекин, на большой паломнической дороге неподалеку от глубоких вод Куку-нора приютился один из знаменитых буддийских монастырей – Гумбум. Занимая в географическом отношении выгодное положение, Гумбум нередко посещался, как продолжает посещаться и теперь, далекими знатными паломниками, подолгу останавливающимися в нем с целью отдыха и пополнения снаряжения и продовольственных средств, необходимых для дальнейшего пути.
Несколько иначе, в глубине Амдоского нагорья, расположен другой не менее знаменитый и богатый буддийский же монастырь Лавран, ревниво оберегаемый воинственным населением кочевых тангутов. Лавран счастливее Гумбума по отношению сохранности своих богатых храмов и ценностей от урагана магометанской инсургенции.
При взгляде на карту Центральной Азии, в частности на Амдоское нагорье, мы видим, что Гумбум и Лавран расположены по северо-западной – юго-восточной диагонали в расстоянии двухсот пятидесяти верст, и что оба эти монастыря находятся в бассейне Желтой реки: Гумбум – в области левого берега, в складках окраинных гор, ограничивающих Хуан-хэ с севера, Лавран – в области правого берега, в горах, непосредственно окаймляющих Желтую реку с юга. Это словно два брата, оспаривающих между собою духовную славу и преимущество и зорко наблюдающих друг за другом.
Во время пребывания экспедиции в Лавране мы узнали от местных обитателей, что в монастырь Гумбум прибыл буддийский первосвященник – Далай-лама и расположился в нем на отдых и для совершения богослужения впредь до наступления лета. Глава Тибета следовал из Пекина в Тибет – в Лхасу.
Не свидеться с Далай-ламой, не закрепить с ним прежнего знакомства, не посмотреть на правителя Тибета после его долгого пребывания в Монголии и Китае, по моему крайнему разумению, было бы не простительно, к тому же я имел к Далай-ламе немало поручений. Я решил налегке поехать в Гумбум, а караван отправить прямым путем в Лань-чжоу-фу, где он должен был ожидать моего прибытия.
Кроме меня, в личный состав разъезда в Гумбум вошел переводчик экспедиции Полютов. Старшина торговой слободы Лаврана Ма-чан-шань нанял для нас трех вьючных мулов при двух погонщиках верхом на лошадях; я и мой спутник имели своих лошадей. В законченном виде наш маленький караван составился из четырех человек и семи животных: трех вьючных мулов и четырех верховых лошадей.
Пятнадцатое февраля было кануном дня нашего выступления в Гумбум, поэтому приют экспедиции с утра до вечера был занят нашими здешними знакомыми, преимущественно ламами различных рангов, притом как местными, так одинаково и выходцами из Тибета и Монголии и даже нашего Забайкалья; все эти славные люди приходили прощаться – сказать несколько приветственных слов и пожеланий в дорогу.
Наконец мы готовы. Наш маршрут: через городок Сюань-фуа-тин, монастырь Гумбум, Синин – Лань-чжоу-фу.
Шестнадцатого февраля после раннего завтрака наш маленький разъезд выступил в дорогу: все было обстоятельно налажено, осмотрено. Солнце значительно поднялось над вершинами гор и красиво озарило долину Сан-чу и окаймляющие ее горные скаты. Хвойный лес отливал стальной синевой, скрывая в своей гуще много интересного и поучительного. Монастырские золоченые кровли и их украшения – ганчжиры – ослепляли искристым прерывающимся блеском лучей, особенно сильно игравших на новом металлическом убранстве субургана (книгохранилища).
Оставив Лавран, мы вскоре скрылись в одном из ущелий северных гор, круто поднимаясь по галечнику к перевалу. Нас сопровождали Ма-чан-шань с оруженосцем и четверо лихих кавалеристов из монастырского гарнизона. Вблизи перевала я уговорил старшину возвратиться домой к своим занятиям, так как на следующий день ему предстояли новые хлопоты по отправлению моего главного каравана в Лань-чжоу-фу. Ма-чан-шань смиренно повиновался, сошел с лошади, разостлал коврик и, пригласив меня сесть, вручил мне бронзовое изображение известной «Сандальной» статуи будды, находившейся в Пекине. Это подношение сопровождалось лучшими пожеланиями в дорогу. Со своей стороны я одарил Ма-чан-шаня еще накануне, выразив ему благодарность за беспокойство и наше пользование его удобным помещением. Казалось, Ма-чан-шань был очень доволен экспедицией. Мы продолжали подниматься, а он еще долго стоял у заворота ущелья, помахивая шляпой. «Отличный человек, – проронил со вздохом мой спутник Полютов, – он только и заботился о наших интересах, стараясь всеми силами угодить начальнику экспедиции».
На вершине перевала Накцэб-ла, имеющего значительную абсолютную высоту, крутой продолжительный подъем и короткий пологий спуск на плато, мы временно, как всегда, остановились, поправили вьюки и опять направились тем же северным курсом. В эту сторону уходило типичное амдоское плато с поперечными горными грядами, выраставшими по мере удаления к западу. Между гор располагались пастбищные долины с речками, стремившимися в бассейн лавранской Сан-чу. По одной из таких речек – Гонзя-чзямба-чю – мы спускались, по другой – Чзямба-чю – поднимались.
Размытые горные кряжи и береговые скалы слагались из кристаллических пород. Свой тибетский эскорт мы отпустили, пройдя за перевал верст пять не более, чему лавранские воины были несказанно рады: тотчас оживились и быстрым галопом понеслись восвояси.
Оставшись только с подводчиками, мы начали расспрашивать их о нашей дороге и ближайшем городке Сюань-фуа-тине, находившемся в девяносто с лишком верстах, которые следовало пройти в три дня, или перехода. У нашей дороги никакого жилья не замечалось, но по сторонам, в большем или меньшем расстоянии, виднелись стада баранов и яков, принадлежавших тангутам, скрыто ютившимся своими стойбищами в крайне пересеченной местности.
Следуя долиною речки Чзямба-чю, я видел вдали – в северо-восточном направлении – небольшую кумирню Джяхыр-гомба, обитаемую, как говорят, тридцатью ламами. Рядом с этой кумирней темнел лесок из ели, словно тангутский банаг, за который вначале я его и принял[315].
Первый наш ночлег[316] пришелся на высоком месте вблизи горных массивов, на берегу холодной речки, окаймленной прошлогодней травой и низкорослым кустарником. Подводчики всю ночь поочередно не спали, то и дело раздавались их выкрики: «Кто там (подразумевается у наарканенных лошадей) идет? Я вижу!». Говорят, такой уловкой удается иногда действительно остановить вора, который в таком случае откликнется обычной фразой: «Свой! Иду к тебе».
На следующий день мы были в пути очень рано и в теневом холодном воздухе, к тому же при резком встречном ветре, порядком мерзли; отдохнувшие животные подвигались ходко. Подводчики зорко всматривались во все стороны и старательно призывали нас к вниманию и готовности: «Не успеете оглянуться, как наскочат тангуты!». Для их успокоения мы ехали держась плотной кучей, с винтовками за плечами.
Общий характер местности оставался прежним: мы шли по луговому нагорью, богатому родниковыми водами, и постепенно втягивались в горы, а затем благополучно достигли и вершины перевала Сечен-ла. Отсюда к северу горы круто обрывались, будучи изборождены глубокими каменистыми ущельями, по дну которых по мере опускания вниз нагромождались серые валуны в хаотическом беспорядке, до крайности стеснявшие движение каравана. Здесь дорога вообще очень трудная – крутая, крепкая. Мы спускались по ущелью Сечен-чю, словно в темную бездонную пропасть.
По сторонам залегали дикие девственные уголки с густым пышным кустарником, на фоне которого там и сям приятно выделялись большие или меньшие группы елей. Еще красивее громоздились серые скалы или стояли особняком великаны-отторженцы с зеленоватым мхом и лишаями. Горную тишину старались пробудить многочисленные ручьи, иногда с шумом низвергавшиеся по крутизнам и обвалам.
Из млекопитающих в описываемых горах водится кабарга, за которой в наше здесь следование охотились местные тангуты, применяя облавный способ; а из птиц нами отмечены следующие: фазан (Phasianus decollatus Strauchi), красный вьюрок (Carpodacus), несколько видов краснохвостов (Ruticilla), красивые и вертлявые кустарницы (Pterorrhinus davidi et Trochalopteron ellioti), многочисленные синицы, овсянки, завирушки и др., словом, фауна этих гор много напоминает таковую Восточного Нань-шаня.
Спустившись вниз около пятнадцати верст, ущелье вдруг расширилось, превратилось в долину; горы раздвинулись, понизились, и вскоре показалась кумирня Мартун-гомба с белыми домиками, группировавшимися вокруг небольшого храма, живописно расположенного на довольно крутом скате, заросшем густым осиновым лесом. Немного поодаль обнаружилась другая кумирня – Сечен-гомба, расположенная на другом – левом берегу речки.
Вокруг того и другого монастыря располагались пашни, грубо, неумело обработанные, в особенности в сравнении с образцовой обработкой китайцев.
Ниже Сечен-гомба селения встречались нередко, пока не сузилась долина и не заперлась окончательно крутыми обрывистыми берегами. Падение русла опять увеличилось, появились каскады, однако стоявшие подо льдом, и наша тропинка довольно часто перемещалась с одного берега на другой. Подножье гор выглядело весьма печальным и унылым и при ветре всегда давало массу пыли, омрачавшей горизонт; голубая окраска неба и прозрачный воздух остались в горах.
Речка Сечен-чю привела нас в селение Конь-эмень, насчитывавшее в это время свыше ста глинобитных домов и около пятисот человек жителей магометан – трудолюбивых дунган или саларов[317]. В этом селении имеется старинная мечеть[318],во главе которой стоит, как известно всему населению, заслуженный ахун. Вблизи мечети расположен мазар с красивыми резными окнами, построенный, как говорят, в память двух подвижников – мулл. Конь-эмень населен исключительно земледельцами, возделывающими пшеницу. Дома-фермы окружены садами, состоящими преимущественно из персиковых и абрикосовых деревьев; в небольшом количестве имеются также яблони и груши. Летом здесь жарко, еще жарче, конечно, в долине самой Желтой реки, к которой мы теперь и приближались.
По словам местных жителей, в ближайших окрестностях Конь-эменя покоятся залежи золота, но почему-то они не разрабатываются.
Мы ночевали в доме старшины селения: вечером и утром деревенская тишина нарушалась громким призывом на молитву с вершины минарета, откуда местный мулла возглашал: «Аллах акбер! Аллах акбер!».
Сегодня третий день нашего движения от Лаврана, сегодня мы должны прибыть в город Сюань-фуа-тин. Выступаем по обыкновению рано – едва забрезжит утро. К сожалению, пыльная дымка кладет мертвый отпечаток на все окружающее. В воздухе тихо, тепло. Мы следуем постепенно вниз среди густого населения дунган и оседлых тангутов. Дорога проходит то по береговым террасам, то по дну галечного русла. По бокам стоят высокие и низкие обрывы из плотных красно-бурых глин.
Вскоре затем речка Сечен-чю сливается с пришедшей с востока речкой Читай-богоу, образуя в дальнейшем течении речку Чжан-гагун. Отсюда открывается вид на грандиозный прорыв, который сделала своим величавым шествием знаменитая река Китая – Хуан-хэ. Это в северном направлении, тогда как к югу выделяются матовой белизной вершины Амнэ-чунак.
Еще ниже, ближе к Желтой реке, караван проходит очень красивым местом: слева стоит обособленный кряж все тех же плотных, словно конгломератных, глин, а посредине – картинно переброшен через Чжан-гагун горбатый мост, за которым наш путь тотчас меняет северо-восточное направление на северо-западное и после пересечения нескольких второстепенных отрогов вступает в долину главной реки. Пройдя вверх по правому берегу этой последней еще около семи верст, мы достигаем городка Сюань-фуа-тина (войдя в восточные ворота, а выйдя в западные – одной и той же улицы), у верхней окраины которого и находим себе помещение на ночь.






