Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото Козлов Петр
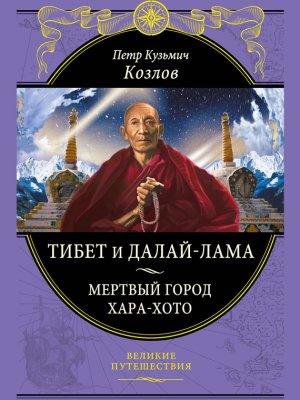
Подобно Гуй-дую, городок Сюань-фуа-тин расположен на правом берегу верхней Хуан-хэ, вдоль ее течения, и подобно всем городам в Китае обнесен стеной. По-нашему это даже не городок, а маленькое селение, состоящее всего из одной проезжей улицы с несколькими десятками домов и двумя-тремя лавками, обслуживающими местное население.
К югу в горах живописно выделялась китайская мяо – молельня с хэшеном, или священником во главе.
Характер Желтой реки и ее долины в общем сильно походил на таковой в гуйдуйском районе, по крайней мере мне лично это сравнение сразу пришло в голову. И здесь долина простирается в ширину от двух до трех верст, будучи окаймлена серыми безжизненными горами; и здесь берега то низкие, то возвышенные, в особенности в сужениях реки, где они к тому же часто очень высоки – в несколько сот футов – и затейливо обмыты или обдуты ветром, оставляя для дороги или тропинки узкий гребень или головоломный карниз; и здесь серое галечное ложе реки простирается до ста или ста пятидесяти, редко двухсот саженей в ширину. В настоящий ранневесенний период воды в реке было немного, и в широких местах ее каменистое русло было обнажено на значительные расстояния. Другое дело летом, когда Хуан-хэ иногда выходит из берегов: ее бурливое, стремительное движение действительно величаво, «без меры в ширину, без конца в длину» грозно шумит серыми волнами.
Выше Сюань-фуа-тина, в семи с половиною верстах, находится урочище Имам-джон с лодочной переправой путников с одного берега Желтой реки на другой. Небольших лодок здесь две; перевозчиками являются пятнадцать человек дунган – обитателей ближайшего селения. Сама переправа производится довольно скоро, скорее, нежели в Гуй-дуе.
За переправой мы еще проследовали вверх по Хуан-хэ, ее левому берегу, двенадцать верст, прежде нежели свернули к северу[319], в ущелье речки Гораццон-хотан, по которой и поднялись до небольшого – в тринадцать дворов – селения Лоцзы-сангын, где и заночевали. По мере того как мы поднимались к северу, нам открывалась долина Хуан-хэ во всей своей прелести. Всюду виднелись пашни, а на них трудолюбивый китайский земледелец, чуть не в первый раз[320] в нынешнюю весну выехавший в поле с сохой. Началась весна: ручьи громко журчали; из пролетных птиц появился черноухий коршун (Milvus melanotis. [Milvus migrans lineatus]), а из неотмеченных ранее оседлых – бледный вьюрок (Carpodacus stoliczkae [С. synoicus]).
В глубине долины группа из нескольких елочек обнаруживала присутствие небольшой, небогатой тангутской кумирни Думино-гомба, красиво приютившейся под защитой бурых обрывов; говорят, она основана около двадцати лет тому назад и находится в ведении перерожденца с братией в сорок человек, исповедующих учение красного толка.
К западо-северо-западу тянулись горы, в которых, по словам местных жителей, водятся каменные бараны, или аргали.
Утро следующего дня, двадцатого февраля, было пасмурное, серое, омраченное пыльной дымкой, сквозь которую вначале ничего не было видно далее ста сажен. Мы шли в прежнем северном направлении, которое словно преграждалось плоским массивом, прикрытым луговой растительностью, за которым невдалеке находился городок Баян-рун, отстоявший в двадцати пяти верстах от нашей последней стоянки. Весь этот путь был крайне трудный для движения каравана по причине многочисленных балок и карнизов с песчано-глинисто-лессовым грунтом. Там и сям стояли горные гряды с затейливыми по очертаниям профилями; также порою на востоке и западе виднелись своеобразные отложения лёссовых толщ, сопровождающих течение Хуан-хэ. Большую половину пути мы шли к перевалу Лонзы-кунту-поу, и меньшую – в долину речки Баян-рун-Хотон. Сам перевал – плоский, мягкий, одетый пашнями, словно шашками. Здесь прохладнее – еще не пашут, а лишь разрыхляют удобрение, лежавшее в небольших, будто навозных кучках. Дорога по обе стороны перевала была прикрыта ледяной коркой.
Тут на перевале мы вновь видели одинокого, низко пролетавшего коршуна, а высоко в небе парили снежные грифы и бородатые ягнятники; реже – гордые красавцы орлы-беркуты.
Небольшой городок Баян-рун, в котором мы ночевали, красиво расположен на высоте и имеет закругленные у ворот стены. Смешанное из китайцев, дунган, тангутов и метисов население, включая и пригород, исчисляется в одну тысячу душ обоего пола. В завершение можно отметить небольшой в сто человек китайский гарнизон, изредка производивший ученье.
Теперь до монастыря Гумбума оставалось три перехода, или, что то же самое, два ночлега. Первый ночлег приходился в городке Цзаба, второй в селении Савана, в котором к прежнему смешанному населению еще прибавились далды[321], отличающиеся своим оригинальным костюмом, в особенности среди женщин. На всем протяжении до Гумбума, как и до Лаврана, залегает горная, крайне пересеченная местность. Приблизительно в середине пути встает поперечный альпийский хребет, восточное продолжение скалистого массива, с перевалом Ладин-лин, отделяющим Синин от Гуй-дуя. В то время как в долинах или второстепенных горах обитало земледельческое население, в альпийском хребте ютились номады.
Погода все время стояла непостоянная с преобладающей облачностью, ветром от северной части горизонта и пыльной дымкой, наиболее сгущенной в области главных долин.
Остановимся несколько подробнее на описании этой последней части маршрута в направлении монастыря Гумбума.
Мы следовали долиною безымянной речки, впадающей в Хуан-хэ. Слева тянулись второстепенные горы под названием Кучу; справа высился альпийский хребет Кычан-шань. В первых горах и прилежащих к ним долинах, повторяю, ютились земледельцы, в ущельях же альпийского хребта – скотоводы. Там и сям прятались небольшие кумирни, из которых Дыдя-гомба располагалась на полудороге, с населением в двадцать – тридцать человек – лам. Эта кумирня белела у подножья красных песчаниковых обрывов, поросших еловым лесом. Напротив Дыдя-гомба красовалось лесистое ущелье. В этой местности мы встретили несколько стаек каменных воробьев (Petronia petronia).
Вскоре затем мы перевалили невысокий кряж Санто-яху, за которым в попутном селении Картя имели часовой отдых.
Теперь чаще нежели прежде попадались на полях сеялки, разбивавшие комья земли, а по дороге в Гумбум – всякого рода паломники, нередко следовавшие вместе с детьми, которых или тащили за спиною, или вели за руки.
В наблюдениях всякого рода незаметным образом мы достигли городка Цзаба, в который вступили при открытом действии театра – его сцены, привлекшей внимание всего окрестного населения. Цзаба – маленький, оживленный пригородом городок, населен саларами, китайцами, метисами – всего в двести шестьдесят семейств.
На следующий день, давдцать второго февраля, мы в пути так же рано, как и прежде, с зарей. Слоистые облака убегали к юго-западу. Китайцы проснулись и спешили на поля с животными, навьюченными корзинами с удобрением.
Впереди величаво стоял хребет с вершинами, запорошенными снегом. Мы подвигались ходко. Блеснули солнечные лучи и полилась на землю весенняя радостная песнь полевого жаворонка.
К восьми часам утра мы уже поднялись на вершину перевала Чин-са-по, увенчанного обо, на сооружение которого пошло немало камей, собранных у дорог. Впереди к северо-востоку вздымалась вторая скалистая цепь; в том же направлении убегало ущелье, также обставленное скалистыми боками.
Главный хребет выглядел темным, потому что его луговой покров был сожжен так называемым степным пожаром. На южном скате хребта отделилась дорога в Гуй-дуй, красиво извивавшаяся по подножью гор, а на северном – в Синин, сопровождавшая течение речки Чин-са-гоу. Мы уклонились на северо-запад, пересекая ряд боковых увалов, главным из которых справедливо признается Ню-синь-шань, и временно направились по речке Чи-дя-гоу-дцзэ, а затем и по другим речкам, залегавшим среди соседних увалов.
На этом крайне пересеченном, трудном пути мы наблюдали немало полевых жаворонков, сорок, готовивших гнезда, алашанскую краснохвостку (Ruticilla alashanica [Phoenicurus alaschanica]), чеккана (Pratincola maura [P. torquata maura]), оригинальных, крайне оживленных весной водяных оляпок (Cinchis cashmeriensis [Cinchis с. cashmeriensis]) и немногих других мелких птичек, державшихся или по горам, или по долинам их речек. В лазурной высоте по-прежнему гордо парил царственный орел-беркут.
Селение Савана, или Саван – небольшое (пятнадцать дворов) и состоит из смешанного населения земледельцев.
Последний переход к Гумбуму показался нам особенно долгим, несмотря на то что он был еще более оживлен паломниками и еще более привлекателен видом северного склона только что пересеченного нами хребта. В придорожных селениях толпилось множество народа, частью занятого полевыми работами, частью праздного, с котомками за плечами стремившегося в ту или другую сторону от Гумбума.
Вот и вид на Сининскую долину с красными глинами и песчаниками, а вот и последние высоты, открывшие вид на буддийскую обитель – Гумбум.
В сером воздухе высоко сеткой мелькала большая стая галок.
Еще томительных полчаса – и наш караван уже шагал подле монастырских храмов и восьми белых субурганов и вскоре достиг подворья знакомого гэгэна Чжаяк, где мы нашли отличный приют на целых две недели.
Опять в монастыре Гумбуме. – Помещение Далай-ламы. – Две недели в гостях у Далай-ламы: официальное свидание с правителем Тибета; речь Далай-ламы; мое впечатление от новой встречи; последующие дни и времяпрепровождение у Далай-ламы; его походная обстановка; личный секретарь Далай-ламы – Намган; занятие фотографией; беседы о событиях в Италии; географический атлас; благословение молящихся; прощание с Далай-ламой; прощание с его свитой, с лейб-медиком эмчи-хамбо. – Через Синин в Лань-чжоу-фу. – Заметка о пройденной местности.
Далай-лама проживал в особняке богатого тибетца на западной окраине монастыря, на скате западных высот, откуда открывался вид почти на весь Гумбум и на отдаленные цепи гор, замыкавшие горизонт с юга. Как и все солидные тибетские дома, этот дом был обнесен высокой глинобитной стеной, с парадным входом, охраняемым тибетскими парными часовыми.
По приходе в Гумбум, двадцать второго февраля[322],я поспешил дать знать о себе далайламской канцелярии, которая не замедлила поставить меня в известность, что на следующий день уже назначена аудиенция у его святейшества.
Как и прежде в Урге, так и теперь здесь, первое мое свидание с Далай-ламой носило официальный характер. Прежде всего сопровождать меня в далайламский лаврэн – духовный покой – явился нарядный тибетец-чиновник со свитой в три человека, в сообществе с которыми я и Полютов направились пешком, медленно поднимаясь в гору. Через четверть часа мы уже были у цели: миновали парных часовых, отдавших мне честь, и вошли во двор, застланный, или вымощенный каменными плитами. Едва мы сделали несколько шагов по направлению высокого лаврэна, как по ступеням его широкой лестницы навстречу нам спустился молодой человек по имени Намган, коротко остриженный, в красных одеждах и, изящно поклонившись, предложил нам подняться наверх дома.
Здесь, очевидно, нас ожидали, так как на столиках стояло угощение в виде хлебцев, печений, сухарей, сахара и других китайских сластей. Едва мы сели каждый за свой столик по чинам, как нам подали чаю, откушав которого мы проследовали еще через ряд комнат, прежде нежели вошли в приемную к самому Далай-ламе. И здесь приемная правителя Тибета напоминала буддийскую молельню, в которой на почетном месте, словно на престоле, восседал тибетский первосвященник в парадном одеянии. Подойдя к Далай-ламе и почтительно поклонившись, мы обменялись хадаками. Затем Далай-лама улыбнулся и подал мне руку чисто по-европейски. После взаимных приветствий и осведомлении о дороге мы перешли к беседе о моем путешествии. Правитель Тибета очень интересовался нашим плаванием в прошлом году по озеру Куку-нору, но еще больше, кажется, развалинами Хара-Хото и всем тем, что нами было там найдено.
«Теперь мы уже с вами встречаемся второй раз, – заметил Далай-лама: – наше первое свидание было в Урге около четырех лет тому назад. Когда же и где мы встретимся вновь? Я надеюсь, что вы приедете ко мне в Лхасу, где для вас, путешественника-исследователя, найдется много интересного и поучительного. Приезжайте, я вас прошу, надеюсь, не будете жалеть потраченного времени на такое большое путешествие. Вы объехали много стран, много видели и много написали. Но самое главное еще впереди – я буду ждать вас в Лхасу, а потом вы сделаете не одну, а несколько экскурсий в окрестности, по радиусам от столицы Тибета, где имеются дикие девственные уголки как в отношении природы, так равно и населения. Мне самому, – продолжал Далай-лама, – будет весьма приятно и интересно видеть вас после таких поездок и ознакомиться с вашими съемками, сборами коллекций, фотографическими видами и типами и лично выслушать ваш доклад о путешествии. У меня имеется большое желание перевести на тибетский язык труды по Тибету европейских путешественников. Ваше живое слово мои секретари должны будут занести в первую очередь и тем самым положить начало историко-географическим трудам по Центральному Тибету».
В заключение Далай-лама сказал: «Не торопитесь с отъездом, ибо вам никто не будет указывать в этом отношении и ни от кого другого, как только от вас самих, будет зависеть, выехать раньше или позже на несколько дней. Мы будем видеться ежедневно, мне необходимо о многом поговорить с вами».
Во время наших разговоров мы пили чай, наливаемый из общего большого серебряного чайника. Во всем чувствовалась приятная непринужденность, объяснить которую можно было обоюдным искренним желанием свидеться.
На следующий день я прибыл к Далай-ламе с утра; теперь исчезла всякая официальность: я видел тибетского первосвященника в самой простой, симпатичной обстановке. Мне было разрешено обойти все далайламские помещения, видеть его рабочий кабинет, говорить с его министрами, приближенными.
Теперь среди обстановки Далай-ламы то и дело попадались европейские предметы. В одной из комнат висело на стенах до семи всевозможных лучших биноклей, в другой – отмечено почти столько же фотографических аппаратов, состоявших в ведении секретаря Далай-ламы, знакомого нам Намгана.
Далай-лама очень интересовался фотографией вообще и просил меня обучить Намгана разным фотографическим приемам: снимкам, проявлению и печатанию, равно уменью обращаться со всякими большими и малыми, простыми и сложными аппаратами.
После занятий фотографией я обыкновенно беседовал с приближенными Далай-ламы или бывал приглашаем к нему самому, где запросто просиживал подолгу. Как-то раз Далай-лама спросил меня, часто ли я получаю письма из России, когда получил в последний раз и какие в Европе новости. Случайно по приезде в Гумбум я на другой же день имел удовольствие благодаря заботам сининских властей получить ряд писем и газет, в которых самою большою новостью отмечалось мессинское землетрясение, где, между прочим, итальянцы воздавали честь и славу русским морякам, с самозабвением спасавшим несчастных жителей и их имущество. Живое описание подобного стихийного бедствия поразило тибетского владыку.
Беседуя на эту тему, Далай-лама пригласил меня в свою библиотеку и подал мне большой немецкий географический атлас с просьбой указать на нем место катастрофы в Италии. Перелистывая затем атлас, я во многих местах его видел пометки, сделанные чернилами или, точнее, тушью, на тибетском языке. Оказывается, это перевод географических названий. Такой же заметкой снабжено было и место землетрясения в Италии.
Иногда я и мой спутник Намган гуляли в окрестностях Гумбума, поднимаясь на высшие точки и делая всякого рода дополнительные снимки, а затем по возвращении в лаврэн опять возились с проявлением и печатанием. Однажды, просматривая оттиски фотографий, разложенные на террасе, я невольно взглянул вниз на портик храма и увидел как Далай-лама благословлял молящихся. Благословение это заключалось в том, что тибетский первосвященник маленьким молитвенным флажком касался головы тибетцев или монголов, подходивших поочередно. Кстати сказать, по случаю пребывания Далай-ламы в Гумбуме молящихся было великое множество.
Обычно принято, если Далай-лама гуляет у себя по кровле или на террасе, то все служащие, равно все проходящие мимо, не должны останавливаться и глазеть, а стараться как можно скорее незаметным образом скрыться.
Из дома-лаврэна Далай-ламы, царящего над всем монастырем, открывался дивный вид на отдаленные южные цепи гор, откуда по направлению к наблюдателю сбегают лучшие альпийские пастбища для многочисленных здешних стад баранов или другого скота.
При расставании Далай-лама произнес следующее: «Спасибо вам за ваш приезд ко мне – вы дали мне возможность послушать вас и получить ответы на мои многие пытливые вопросы. Передайте России чувства моего восхищения и признательности к этой великой и богатой стране. Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь также будет присылать ко мне своих путешественников-исследователей для более широкого ознакомления как с моей горной природой, так и с моим многочисленным населением».
После официальной, торжественно обставленной, прощальной аудиенции меня пригласили в знакомое мне помещение Намгана. Здесь был предложен мне обычный чай, как вдруг совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, появился Далай-лама в самой простой непринужденной обстановке, к которой я так привык в последнее время. Мы приветливо раскланялись и сели друг против друга. Далай-лама повел вновь рассказ о России, восхищаясь ее техникой, машинами, инструментами, а равно и вооружением русской армии, начиная от револьвера системы «Наган» (с которым, между прочим, Далай-лама был хорошо знаком по экземпляру, полученному им на память от русской экспедиции) до крепостных или морских дальнобойных орудий собственного производства. Затем Далай-лама сказал: «Не забудьте привезти для меня лучшей русской желтой суконной ткани, вроде сукна вашего (парадного) костюма». Я в ответ поклонился Далай-ламе и его поручение занес в памятную книжку. Заметив это, Далай-лама произнес: «Это хорошо; кстати запишите и второе мое поручение о высылке из Петербурга на мое имя фотографических снимков вашего путешествия!».
Последнее прощание было самое трогательное: сам собою этикет отошел в сторону. Я понял душу Далай-ламы и поверил в искренность его милого приглашения в его Лхасу!
Вскоре после этого мы расстались и с министрами Далай-ламы, и с его двором вообще; мне сделалось очень грустно, с одной стороны, с другой же – я чувствовал себя счастливым. Грустное чувство овладевало мною все сильнее и сильнее, потому, главным образом, что я не мог, не имел возможности теперь же примкнуть к свите Далай-ламы, чтобы направиться в сердце Тибета вместе с его верховным хозяином.
Вслед за мной были посланы подарки Далай-ламы, состоявшие из золотого песка, буддийских бронзовых статуэток и даров местной тибетской природы – шкур и шкурок пушных зверей и тибетской шерстяной ткани цвета бордо.
На следующий день, седьмого марта в девять часов утра, как было условлено накануне, ко мне пожаловал эмчи-хамбо с дополнительными телеграфными поручениями от его святейшества и со своим личным приветом в дорогу. Как водится при расставании, лейб-медик поднес мне на память шелковый хадак в сопровождении тибетских «драгоценных» пилюль и чайной чашечки, но что самое главное – эмчи-хамбо не пожалел для меня интересной тибетской астрономической карты.
Мой спутник также не был обойден вниманием эмчи-хамбо, от которого он получил в дар хадак, золотую монету и толикую дозу «универсального лекарства», со словами: «Все это дарю тебе в силу моих самых лучших отношений к твоему начальнику, которого прошу беречь в еще далекой и трудной вашей дороге!».
Про эмчи-хамбо вообще говорят, что этот человек с «большой головой» – медик и высший математик, и что он стремится попасть в Россию, чтобы не только познакомиться, но и изучить европейскую медицину и европейскую практическую астрономию.
В последний раз крепко пожимая мне руку, эмчи-хамбо спросил: «Когда и при каких обстоятельствах мы вновь увидимся с вами?». Я показал рукой по направлению Лхасы, в ответ на что мой собеседник уверенно кивнул головой несколько раз.
Остальная часть дня прошла в различных хлопотах по сборам в обратный путь через Синин в Лань-чжоу-фу к заждавшемуся экспедиционному каравану, от которого мы были отделены теперь неделей времени, или расстоянием в двести семьдесят верст.
Ранним утром восьмого марта наш обновленный караван, состоявший из трех вьючных лоцз, или мулов, и пяти верховых лошадей успешно направился к северо-востоку. Покатая местность в эту сторону еще более способствовала скорейшему движению.
На окраинных холмах мы остановились, чтобы полюбоваться на Гумбум, быть может, в последний раз! Ведь мы прощались с колыбелью реформатора буддизма Цзонхавы. В память этого великого и, с точки зрения буддистов, святого человека в Гумбуме, повторяю, красуется храм «Золотой субурган», вечно оживленный молящимися, а его кровля днем почти всегда горит блеском золотых солнечных лучей.
Знакомый путь до Синина мы прошли в пять-шесть часов времени. По дороге обогнали очень нарядный, богатый верблюжий караван, принадлежавший Ачжя-гэгэну; это был его передовой транспорт, отправлявшийся в Пекин. И здесь на полях повсюду работали китайцы под одну и ту же весеннюю песнь жаворонков.
Как всегда, в Синине мы остановились в торговом доме Цань-тай-мао, где знакомые китайцы успели приготовить для нас кое-какие этнографические предметы.
Десятого марта наш караван оставил и Синин. Погода испортилась: в лицо нам дул пронизывающий ветер с мокрым снегом и дождем вместе[323].К счастью, такое неприятное состояние продолжалось недолго: облака поредели, показались участки голубого неба. На полях сеяли пшеницу; там и сям вокруг земледельцев бродили группы серых журавлей (Grus grus).
Из Сого-Хото, т. е. из Южной Монголии, направлялась большая вереница довольно хороших верблюдов для далайламских вьюков.
Мы продолжали двигаться вниз по знакомой долине Синин-хэ, общий характер которой оставался прежний: то река выходила на простор долины, то вновь сжималась узким ущельем, с высокими обрывистыми берегами, где спокойное, плавное течение тотчас переходило в грозно-стремительное, и где тишина нарушалась шумом пенящихся вод, прыгавших по валунам.
Везде в населенных пунктах толпились нарядные китайцы и шла непрерывная трескотня всевозможных бомб и петард, до детских хлопушек включительно. Театры более, нежели прежде, были оживлены зрителями придорожных, окрестных городов, поселений.
За городом Лова-ченом мы оставили большую дорогу, отошедшую на север, в Пинь-фань, и стали подниматься на каменистый мыс левого берега, у подножья которого красиво располагались китайский храм и остров с фигурной башенкой. С вершины мыса открывался чудный вид на верхнее течение Сининской реки; вниз же к востоку она словно скрывалась, прячась в глубине узкого ущелья. Вьючная тропа то стлалась внизу, то взбегала наверх, капризно извиваясь по каменистым карнизам.
Пользуясь высокой весенней водой, китайцы сплавляли вниз по течению реки запасы пшеницы, перевозимой на плотах в бычьих шкурах, снятых чулком.
По мере удаления на восток окрестные горы несли более пустынный характер, будучи окрашены в серо-желтый цвет от преобладающего включения в состав их пород глин или классического лёсса.
Ниже слияния Синин-хэ с Тэтунгом река заметно обогатилась и шире катила свои грязные волны. Горы вообще понизились и чаще оставляли берега реки, глубоко бороздившей лёссовую почву.
На береговых обрывах порхали, словно бабочки, краснокрылые стенолазы (Tichodrama muraria), а по нагретой поверхности земли бегали только что проснувшиеся ящерицы.
Достаточно было малейшего ветра, чтобы взбудоражить пыль и ею омрачить воздух; а над караваном или даже отдельным всадником всегда поднималось пыльное облачко, указывавшее направление дороги. Задыхаясь от пыли, люди постоянно чихали, животные фыркали.
Стремясь в Лань-чжоу-фу, мы шли форсированным маршем до сорока верст ежедневно. Наибольшее утомление ощущалось после полудня, когда в значительной мере пригревало солнышко. На предпоследнем своем переходе к резиденции китайского вице-короля мы переправились через реку при помощи баркаса, управляемого партией в пятнадцать человек перевозчиков.
Пятнадцатого марта мы наконец достигли цели!
В этот день мы поднялись с ночлега (в селении Синченна) особенно рано и шли по очень оживленному пути, в буквальном смысле в сплошном облаке тончайшей лёссовой пыли.
Чтобы лучше ориентироваться и меньше задыхаться от пыли, я старался держаться в некотором отдалении от дороги и увереннее заносил свои наблюдения.
В широкой долине Хуан-хэ можно было видеть ее русло, местами дробившееся на части поднимавшимися со дна реки порогами. Справа и слева по-прежнему тянулись безжизненные горы. Река жалась к левому берегу, оставляя широкий простор для земледельческого населения вправо. Через несколько верст движения картина изменилась мы проходили у правого берега Хуан-хэ, где залегал рукав – старица – с замечательно прозрачной водой, на поверхности которой во многих местах еще лежали толщи посиневшего льда. На ближайшей отмели важно расхаживала серебристо-белая красавица цапля (Herodias alba [Ardea alba]), а с соседнего обрыва снялась черноголовая чайка (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus]); вдали вереницей летели большие бакланы (Phalacrocorax carbo).
Насколько хватал глаз, вниз по течению змеилась Хуан-хэ, местами чуть-чуть светлея своими широкими водами.
За правым обрывом, или, точнее, отрогом гор, тотчас выдался мыс, на уступе которого стоял китайский храм, живописно расположенный амфитеатром.
Еще семь-восемь верст – и мы в Лань-чжоу-фу, о котором прежде всего давали знать четыре исторические башни, построенные со стороны мятежного города Хэ-чжоу, населенного дунганами. Наш путь проходил по улице, богатой лесными складами и запруженной, словно винными бурдюками, мешками-шкурами с пшеницей. Другая соседняя улица, еще более многолюдная и оживленная, дала возможность выбраться нам на набережную Хуан-хэ к месту постройки европейскими инженерами постоянного моста.
Тут же в ближайшем постоялом дворе располагались мои спутники в добром здравии и полном благополучии.
Западный Китай и Монголия 1909 г.
Мой приезд в Лань-чжоу-фу и соединение с караваном. – Наш путь в Дын-юань-ин. – Гнездование больдуруков – Пески Тэнгэри. – Характеристика Южной Гоби. – Озерки Ширик-долон. – Колодец Шангын-да-лай. – Вид на хребет Ала-шань. – Приход экспедиции в Дын-юань-ин.
Пятнадцатого марта по возвращении моего разъезда из Гумбума в Лань-чжоу-фу экспедиция вновь слилась воедино, и первый день нашей встречи с остальными товарищами весь прошел в обоюдных расспросах и дружественных разговорах. Главный караван совершил весь путь от Лаврана до Лань-чжоу-фу в шесть переходов, сделав недельную остановку приблизительно на середине пути в Хэ-чжоу.
Город Хэ-чжоу стоит в долине реки Дао-чжа-хэ, в пяти верстах к югу от самой реки, на высоте 6270 футов [1910 м]над морем.
«Хэ-чжоу был разрушен, – пишет Г. Н. Потанин[324],– во время мусульманского восстания; жители вернулись только десять лет назад. Во главе здешнего мятежа, по словам хэчжоуских жителей, стоял Джинса-ахун, имевший пребывание в Синине, родом из Хэ-чжоу. Все постройки в городе новые. Прежде в Хэ-чжоу было много мусульман. В наших книгах встречалось несправедливое утверждение, будто Хэ-чжоу лежит в центре саларского[325] населения; салары живут отсюда к западу около города Сюнь-хуа-тин, и их территория отделена от хэчжоуской котловины высоким хребтом Хара-уда; возле Хэ-чжоу саларских селений нет, но в город салары часто приходят для торговли».
Местность, по которой следовал караван, имела на всем 155-верстном протяжении пересеченный характер, и только благодаря удивительной ловкости и устойчивости на ногах караванных животных – мулов, путешествие по крутым горным тропинкам и каменным кручам обошлось благополучно. В окрестностях Лавранской речки, вплоть до города Хэ-чжоу, мои спутники встречали преимущественно кочевников – тангутов, а далее к северо-востоку началась уже сплошная земледельческая культура; причем дунганское население ухитрялось устраивать свои поля не только по дну долин, но также и по крутым скатам холмов и даже на вершинах гор.
Лань-чжоу-фу – резиденция ганьсуйского вице-короля Цзунду, красуется на правом берегу могучей Хуан-хэ, достигающей в этом месте ста сажен ширины, при двадцати футах глубины в весенний низкий уровень воды. Против верхней части города через Хуан-хэ имеется плавучий мост, рядом с которым европейские инженеры возводят постоянный. По словам местных жителей, не верящих в европейское строительное искусство, новый мост европейцы не устроят, и их дальнейшие попытки в этом направлении так же будут уничтожены высокой летней водой, как были уничтожены основы первых пролетов прошлой зимне-весенней кампании. На противоположной левобережной стороне на холмах ютятся довольно живописные храмы, а вдоль быстрой реки там и сям виднеются гигантские колеса – водочерпалки, снабжающие город и хлебные поля необходимой влагой.
Внушительные солидные стены древнего[326] города вздымаются над самой рекой до десяти сажен [20 м] и вместе с четырьмя оригинальными старинными башнями, поставленными триста лет тому назад на юго-западных доминирующих высотах в защиту от разбойничьего населения Хэ-чжоу, создают впечатление настоящей крепости. Включая и крепостной район, Лань-чжоу-фу имеет всего около десяти верст в окружности и делится на несколько кварталов, из которых северо-западный, более благоустроенный, замечателен тем, что в нем живет Цзун-ду, а следующий, так называемый военный, известен своими многочисленными европейского образца типографиями и мастерскими: столярными, сапожными, стекольными и пр. Тут же выделываются шелковые ткани, далемба и другие материи. Все эти продукты туземного производства, так же, как и более редкие предметы роскоши – бронза, фарфор, наполняют богатые магазины.
В общем же, несмотря на порядочное количество зелени и довольно хороший сад, весь город выглядит грязно и неприятно. Местное шестидесятитысячное китайское население имеет о чистоте лишь слабое понятие, а представителей более культурных европейских наций – миссионеров, специалистов-техников – пока еще слишком мало, чтобы сгладить восточный колорит резиденции вице-короля.
При осмотре местных зданий мы обратили особое внимание на школы. Кроме военного училища для четырехсот юношей пехотинцев и кавалеристов, нам показали еще нечто вроде гимназии, предназначенной для детей чиновников. В этом учебном заведении мы нашли довольно хороший музей с отделами: минералогическим, ботаническим и зоологическим; среди последнего особенно художественно выглядели чучела птиц и витрины с жуками и бабочками.
Закончив необходимые визиты, мы занялись неотложными делами: надо было позаботиться об исполнении всех поручений Далай-ламы и как можно скорее сообщить ему те сведения о Пекине, которые мне удалось добыть по телеграфу. Кроме того, пришлось обстоятельно снарядить посыльного в Вэй-юань-сянь к капитану Напалкову с наказом передать топографу экспедиции, помимо денежного подкрепления, еще предложение возможно полнее исследовать южную Ганьсу и, продолжив маршрут в наименее изученной части страны до Алаша, встретиться там со всем караваном примерно в начале июня месяца.
Интенсивные занятия на биваке часто прерывались приходом торговцев, предлагавших всевозможные редкости старинного китайского искусства, и визитами разных посетителей. Из сановников у нас побывал лишь один губернатор Нэ-тай, а вице-король со своей многочисленной свитой медленно проследовал мимо лагеря и, поздоровавшись с выстроенным по этому случаю экспедиционным отрядом, оставил мне свою визитную карточку.
На берегу Желтой реки так же, как и на ближайшем озерке, останавливались во множестве пролетные пернатые, давшие интересный материал для наблюдения. К двадцать второму марта прилетели уже такие нежные формы птичек, как белые и желтые плиски (Motacilla alba baicalensis, M. leucopsis [M. alba leucopsis] et Budytes citreola), чеккан (Saxicola pleschanka [Oenanthe pleschanka]) и городская и горная ласточки (Hirundo rustica gutturalis et Biblis rupestris), изредка подававшие свой веселый светлый голосок. Весна надвигалась быстро; на солнечном пригреве ползали жуки, летали бабочки и мухи и даже показались проворные ящерицы. Местами травка сильно зазеленела.
Наметив выступление каравана из Лань-чжоу-фу на день Благовещения, мы уже заранее стали готовиться в путь. Надо было подготовить верблюдов, насколько возможно пополнить этнографический отдел экспедиционных коллекций и закончить подробный осмотр города.
В день Благовещения лагерь экспедиции пробудился очень рано. С восходом солнца явился уже и перевозчик с арбами для переправы багажа на левый берег Хуан-хэ. Здесь после чая и легкого завтрака мы завьючили верблюдов, и стройный караван длинной нитью тронулся к далекому, родному северу. Мы взяли направление на Пинь-фань вдоль лёссовых серых холмов[327], временами возвышавшихся справа и слева, точно мрачные безжизненные стены какой-то одной бесконечной траншеи. Тонкая пыль и крайняя сухость воздуха делали переходы в жаркие дни очень тягостными. Зато по ночам спать было прекрасно, так как температура нередко понижалась до 0°С.
Довольно частые встречи с туземными караванами[328] служили путешественникам некоторым развлечением среди всеобщей удручающей мертвенности, а начавшиеся сборы пресмыкающихся [остроголовые ящерицы], насекомых – жуков, мух и первых скромных бабочек-белянок – и птиц занимали все свободное время. Чекканы и полевой и хохлатый жаворонки уже приступили к любовной игре, и в воздухе звонко разносились их оригинальные весенние песни. Красноклювые клушицы и вьюрки (Carpodacus stoliczkae [С. synoicus]) держались пока еще целыми обществами, но проявляли некоторое волнение и особенную жизнерадостность. Сычики разбились на пары и, видимо, готовились к периоду гнездения, и только один красавец краснокрылый стенолаз по-прежнему встречался в одиночку, ничем не выражая своего весеннего настроения.
По мере удаления от Желтой реки недостаток в хорошей питьевой воде чувствовался все острее[329].К востоку от пиньфанской дороги, в долине Питай-гоу, сравнительно густо заселенной земледельцами, население добывало живительную влагу из колодцев глубиною от двенадцати до пятнадцати сажен; но зато и мощность водоносного горизонта иногда достигала – колодезь Да-хулун – семи – десяти футов [2–3 м]. Всюду наблюдалась в большей или меньшей степени борьба человека с природою. В этом смысле китайцы достигли большой виртуозности: этот народ не отступает ни перед какими трудностями и энергично проводит самые тяжелые, Сизифовы работы. Так например, вблизи селения Да-хулун люди извлекают из земных недр подходящую для себя почву и, перенося ее на плечах в особых корзинах, устилают этим плодородным слоем глубиною в три-четыре вершка [13–17 см] огромнейшие поля. Несмотря, однако, на все старания, земля далеко не всегда вознаграждает местных китайцев; об этом свидетельствуют многочисленные покинутые деревни, обвалившиеся колодцы и заброшенные пашни, подавляющие путешественника своею тишиною смерти.
Между тем широкая густонаселенная низина, покрытая серым мелкосопочником, вскоре сменилась более пересеченной, но столь же печальной местностью. По-прежнему кругом царило полное молчание, лишь кое-где по скалам мелькали быстрые, проворные чекканы: Saxicola pleshanka [Oenanthe pleschanka], S. deserti atrigularis [O. deseiti atrogularis], S. isabellina [O. isabellinia]), а по скудным пастбищам изредка пестрели стада баранов. У колодцев, служивших сборным пунктом всех окрестных обитателей, мы наблюдали завирушек, светло-розовых монгольских вьюрков, каменных воробьев и горных голубей. Отдаленный северо-восток, куда медленно подтягивался караван, был заполнен горными кряжами[330], слагавшимися из сланцев и красных или серых песчаников. К северо-северо-западу темнели внушительные формы хребта Шуло-шаня, на юго-западе намечались контуры снеговых вершин общей горной группы, сопровождающей течение Желтой реки справа, а прямо на севере, за бесконечными волнами второстепенных гор, открывалась пустыня, задернутая пыльной дымкой.
Массив Шуло-шань состоит из нескольких самостоятельных гряд, лежащих в северо-западном – юго-восточном направлении, сливающихся на юге в одну цепь, густо поросшую на северном склоне еловым лесом и кустарниками, где находят приют олени и кабарга. В ущельях вблизи ключевых источников ютятся китайцы-скотоводы; тут же по соседству рудокопы занимаются добыванием меди, а несколько далее, в предгорьях, разрабатывается и каменный уголь.
Двадцать девятого марта на уединенном пустынном биваке утро мелькнуло незаметно, и в полдень наши верблюды по-прежнему неутомимо шагали в северо-восточном направлении. Монгол-подводчик Дэлгэр с сыном Дайчжи действовали прекрасно, и мы не могли нахвалиться выносливости и бодрости неизменных «кораблей пустыни». Вновь перед глазами потянулись мелкие каменистые гряды, убранные хармыком, долины, покрытые в верхних частях полынкой, а в нижних разноцветными ирисами. Глаз присмотрелся к окружающему и жаждал новых впечатлений. Каждый родник, оживленный свежей мелкой растительностью, иногда деревьями, преимущественно вязами, а иногда просто густым высоким дэрэсуном, приветствовался большою радостью. Каменисто-песчаное русло высохшей речки привело нас к населенным пунктам – китайской деревне Ца-цзи-шуй и еще ниже – маленькому городку Суань-хоу-пу. Питавшийся арычною водою городок имел традиционную башню, а его порядочные домики, числом сто семьдесят, и лавки свидетельствовали о достаточной зажиточности населения.
Тщательно возделанные пашни зеленели изумрудными всходами, а за ними, на севере, до самых гор расстилалась долина Цхо-еэ-тан, питавшая многочисленные стада домашних верблюдов и крайне доверчивых, смирных антилоп харасульт (Gazella subgutturosa). Кое-где попадались монгольские вьюрки, каменные или горные голуби и оригинальные больдуруки, стайками прилетавшие из песков Тэнгэри полакомиться сульхиром (Agriophyllum gobicum). С напряжением осилив долину Цхо-вэ-тана, караван поднялся на поперечный кряж Гэ-да-шань и взглянул уже наМонголию. Граница внутреннего Китая отмечена здесь Великой стеной, от которой сейчас виден только размытый глинистый вал и несколько башен в пять и более сажен высотою. Еще через несколько верст, вблизи разветвления дорог – влево на Цаган-булак и вправо на Нин-ся, показался обелиск с китайской и маньчжурской надписями, гласившими, что путник отнюдь вступает на территорию алашаньской земли.
Чем дальше на север, тем ровнее становился рельеф местности; травянистый покров бударганы, дэрэсуна и более нежных цветущих форм – сиреневого касатика, белого астрагала и желтой караганы вдали уже пестрел островками желтых песков. Под ногами шныряли ящерицы, ползали жуки и изредка полосатые змеи. Ночью повсюду резвились проворные тушканчики. Вблизи дороги то и дело поднимались больдуруки, для которых наступило время гнездения. Действительно, мы наблюдали этих птиц, гнездящихся в большом количестве у самой дороги; они были заняты откладкой яиц, которые помещались прямо на земле в ямке, даже не всегда выстланной стебельками; яйца одной пары лежали иногда всего в двух-трех саженях от яиц другой пары. Яиц в гнездах было от одного до трех, в последнем случае уже немного насиженных; с пятого апреля все гнезда уже содержали по три яйца, то есть полную кладку. Самки сидели на яйцах очень крепко и покидали гнезда лишь в крайности, убегая и прижимаясь к земле, самцы же срывались обычным порядком, с криком; самки отвлекали внимание собаки от гнезда точь-в-точь, как это делают тетерки.
Редкие монгольские стойбища и разбросанные там и сям плохенькие фанзы китайцев, занимающихся в Юго-восточной Монголии скотоводством (бараны и верблюды) и извозом, вносили мало оживления. Зато на самом пути довольно часто встречались небольшие партии паломников, медленно пробиравшихся на поклонение святыням, с трудом волоча на себе весь свой скарб. Этот трудный подвиг доступен лишь здоровым и сильным людям, тогда как слабейшие нередко погибают от жажды и истощения, не достигнув заветной цели. Одну из таких жертв молитвенного долга – несчастного ламу – члены экспедиции видели уже бездыханным трупом на самом краю дороги.
На этот раз экспедиция следовала восточной, уже знакомой окраиной песков Тэнгэри и с помощью крепких верблюдов осилила ее в семь переходов. Второго апреля с раннего утра путешественники вышли из области травянистых степей и окунулись в настоящую пустыню. Легкие облачка, постоянно набегавшие на солнце, и порывистый ветер освежали атмосферу, не давая ей раскаляться. Бесконечное серо-желтое море, простиравшееся к северу и западу, волновалось округлыми, барханными возвышениями. На гладкой, точно утрамбованной поверхности земли ясно выступали караванные пути, пешеходные тропы, взбегавшие к барханам, увенчанным обо, и даже микроскопические дорожки, проложенные жуками и ящерицами; эти мелкие, едва заметные черточки составляли причудливые узоры и заканчивались обыкновенно у круглых отверстий, куда то и дело исчезали бойкие широкоголовые ящерицы.
К вечеру утомленный однообразием взгляд с радостью остановился на травянистой болотистой полосе, залегающей у колодца Хоир-худук; значительно позеленевший дэрэсун приютил здесь серых журавлей, турпанов и серых гусей; саксаульные сойки перелетали с одного холма на другой; в отдалении звонко разговаривали кулики, кричали чибисы, медленно взмахивая крыльями парили чайки, а там – над окраиной песков – быстро направлялся к западу табун дроф. По мере сгущения сумерек погода заметно портилась, и около полуночи разразилась сильная северо-западная буря; под напором ветра палатка стонала, полотно трепетало и рвалось прочь от земли, а спящих внутри палатки обдавало тонкой пылью, стеснявшей дыханье.
От колодца Хоир-худук до озерка Ширик-долон тянутся пространства, занятые песчаниками, глинами и более твердыми красноватыми или темными породами, где пески нередко сменяются хорошими кормами, создавая более или менее отрадную картину. Вообще я должен сказать, что пустыня Гоби ранней весной вовсе не так мертва, как это принято думать; водоносный горизонт в этой части Центральной Азии находится сравнительно неглубоко и в более низких местах прикрыт песчано-глинистыми пластами от четырех-пяти до десяти-двенадцати футов толщиною. Правда, в большинстве случаев вода не совсем пресная, а солоноватая или известковистая. Самая разнообразная пустынная растительность служит пищей не только верблюдам, но и лошадям и даже баранам, так что монгольское население в ближайшем соседстве с алашаньскими песками может существовать вполне безбедно и не в праве жаловаться на судьбу; лишь в редкие, исключительно засушливые годы жизнь обитателей пустынных мест становится действительно незавидной.
На семи озерках Ширик-долон путешественники нашли «гостей», прибывших ранее экспедиционного каравана. Здесь держались серые гуси, кряковые утки, утки-чирки, целое общество пеганок и несколько пар беспокойных турпанов. По серым зеленым берегам у самой воды бегали и резвились кулички-песочники, улит черныш и серые и желтые плиски, а несколько в стороне – скромные щеврицы. В прилежащих буграх среди кустов скрывались саксаульные сойки, а поодаль неслышным полетом спешил куда-то седой лунь.
После небольшого отдыха у отрадной зелени озерков особенно грустной показалась всем нам необходимость вновь погрузиться в область сыпучих песков. Крепкий ветер за ночь успел замести все следы караванной дороги, и четвертого апреля в течение целого дня верблюдам пришлось идти ощупью, держась вдоль барханов меридионального направления. Люди с напряжением всматривались в окружающее, следя за очертаниями малейших возвышений и каменисто-дресвяных[331] выемок. Наконец на северо-восточном горизонте ясно обозначились контуры седлообразной вершины Лоцзы-шань, у колодца Шангын-далай, а в ближайшей низине мелькнуло отрадное белое пятнышко монастыря Цокто-курэ. По соседству с обителью устроился китайский торговый дом, куда мы тотчас же и направились в надежде найти кое-какие предметы первой необходимости; к сожалению, в магазине не оказалось ничего подходящего; и члены экспедиции ограничились приобретением откормленного барана, которым и полакомились с особенным удовольствием, так как от самого Лань-чжоу-фу приходилось питаться неважным консервированным мясом.
Поздним вечером я вышел из палатки и долго любовался строгим профилем хребта Ала-шаня, говорившего о скором возвращении экспедиции на давно покинутый ею склад и метеорологическую станцию. Кругом было тихо, только откуда-то из темноты доносился лай монгольских собак и своеобразный свист кроншнепа, пролетевшего несколько раз над спящим биваком.
Держась преимущественно северо-восточного направления, караван продолжал ежедневно покрывать от тридцати до пятидесяти верст и успешно оставлял за собою бесконечные песчаные барханы, лога и долины. Наконец седьмого апреля, отдохнув в урочище Тембу, мы вступили в кормную равнину, орошаемую в летнее время водою ущелья Барун-хит, и вскоре увидели приветливый зеленый оазис. Дорога оживилась; по сторонам появились китайские и монгольские постройки оседлых жителей, всходы полей и берега ручьев отливали изумрудом; по лугам паслись стада баранов и табуны лошадей, во всем чувствовалась близость культуры.
Спускаясь с последней перед Дын-юань-ином высоты, мы встретились с европейцами – супругами Магнусен, следовавшими в Пинь-фань для совета с лучшими врачами. Еще полчаса – и путешественники радостно приветствовали своих товарищей на складе, сумевших не только сохранить в образцовом виде все экспедиционное имущество, но и с пользою провести время долгого одиночества: ответственный наблюдатель метеорологической станции гренадер Давыденков вполне оправдал доверие и прекрасно выполнил возложенное на него поручение, за что тут же был произведен мною в старшие унтер-офицеры.
Пребывание в Дын-юань-ине; занятия участников экспедиции; приготовление к новому пустынному переходу и работам в Хара-Хото; погода в Дын-юань-ине; отсутствие двора цин-вана; новый знакомый лама Далай-Цорчжи и сыновья покойного князя Сан-е. – Соловьи-красношейки. – Часть каравана на Ургу и мой разъезд в Хара-Хото. – Сценка у отрадного колодца. – Монастырь Шарцзан-сумэ. – Лама Иши. – Богатая долина Гойцзо. – Приход в Мертвый город. – Новый род и вид тушканчика Salpingotus kozlovi Vinogr.
Итак, после долгого отсутствия, после целого ряда невзгод и лишений экспедиция вновь прибыла из Алаша в Дын-юань-ин и по-прежнему удобно расположилась под гостеприимным кровом соотечественников.
Дни побежали незаметно; я занялся снаряжением тяжелого каравана, предназначенного для прямого путешествия в Ургу, и легкого разъезда, который должен был докончить исследование развалин Хара-Хото. Снова пошла переукладка и пересортировка естественно-исторических и других сборов, причем больше всего хлопот причинили, как всегда, спиртовые коллекции. Мои спутники приготовляли сухари, сушеное мясо, а также посуду – ланхоны – для перевозки воды – все необходимые принадлежности предстоящего трудного похода к Мертвому городу. Можно было сказать наперед, что пустыня неприветливо примет нас и истомит своим сухим горячим дыханием усталых странников. Но перспективы тяжелого труда в раскаленных песках никого не страшили. Сознание важности совершаемого святого дела науки и мысль о скором возвращении на родину придавали новые силы и энергию.
Очень часто в ненастную погоду с утра и до поздних часов я просиживал над писанием деловых писем и составлением отчетов о содеянном. В виде маленького отдыха в таких случаях мне всегда служило занятие фотографией: ланьчжоуские снимки – портреты Цзун-ду, Нэ-тая, которые следовало выслать в Лань-чжоу-фу, и многочисленные виды, а также новые работы, как, например, оригинальное изображение барун-сунитской монголки в национальном костюме, удались прекрасно, и проявление этих пластинок доставляло одно только удовольствие.
Лишь изредка, небольшими урывками удавалось мне, закончив текущие дела, вырваться на свободу и понаблюдать за постепенным развитием алашанской природы; сады были в цвету, сирень уже распустилась, и ласточки веселыми стайками показывались все чаще и чаще. Южный ветер заметно повышал температуру, тогда как северный нередко превращался в настоящую бурю и приносил обильные осадки; вместо прелестного синего неба даль окутывалась тогда каким-то грязно-желтым мрачным саваном, и ночной минимум сплошь и рядом доходил до нуля градусов.
В горах весна началась заметно позднее; девятого апреля сирень все еще не распускалась, тогда как в оазисе она уже успела поблекнуть. По утрам ручьи покрывались тонкой пленкой льда, исчезавшей только после полудня, а самые склоны хребта Ала-шаня хотя и приобрели темную, зеленовато-фиолетовую окраску, но временами тоже белели свежим снегом.
Препараторы не забывали своего дела и довольно много экскурсировали. Орнитологическая коллекция обогатилась интересными экземплярами: дрозда (Oreocichla varia [Turdus dauma aureus]), мухоловки и вальдшнепа, а в маммологическую – поступило два куку-ямана; аргали держатся в северной части гор Алаша и так легко не даются; мы слышали, что для охоты на этих красивых животных местные стрелки собираются обществом и в случае удачи дают возможность алаша-вану отвезти добычу в Пекин китайским князьям в виде наилучшего подарка.
Ясные тихие вечера я целиком проводил за астрономическими наблюдениями, проверяя определение географических координат и время. При этих занятиях нередко присутствовал мой приятель – весьма любознательный и просвещенный лама Далай-Цорчжи-гэгэн из монастыря Далай-Цорчжи сумэ, Барун-сунитов[332]. Он очень интересовался астрономическими инструментами и любил рассматривать в трубу Луну и Юпитер. От Далай-Цорчжи я узнал много любопытных подробностей, касающихся жизни моих друзей – семьи Чжюн-вана и Шакдур-гуна, с которыми я познакомился в Урге во время пребывания там Далай-ламы и, воспользовавшись случаем, передал им мой привет в сопровождении традиционных голубых хадаков. Из прочих алашанских знакомых я обменялся визитами лишь с симпатичными сыновьями покойного брата цин-вана – Сан-е. Молодые люди принимали меня в парадном помещении, обставленном очень уютно на китайский лад, угощали чаем, сластями и занимали приятным разговором, вспоминая великого Пржевальского, который до сих пор живет в их воображении в образе русского богатыря. Сад при доме князей, как всегда, поражал своим художественным планом, количеством цветов и цветущих кустарников. Здесь росли яблони, груши, персики, грецкий орех, сирень, характерно вьющийся Salix и еще некоторые формы древесной и кустарниковой растительности.
Гуляя в свободное от занятий время по городу, ставшему в отсутствии княжеского двора гораздо тише и спокойнее, я любил заходить в китайские магазины старинных вещей, где нередко находил любопытные образцы обихода, одежды и оригинального искусства. Лично для себя мы приобрели несколько так называемых нинсянских ковров, известных своею мягкостью, своеобразным сочетанием красок и красивым рисунком.
В китайских магазинах вы можете очень часто наблюдать певчих птичек: жаворонков и соловьев-красношеек (Calliope tcshebajewi), пением которых наслаждаются не только хозяева, но и посетители или прохожие. За красоту и за пение в особенности ценятся соловьи, которых китайцы держат по одному, по два и более. Днем каждую птичку держат на деревянной рамочке, подвешенной к крыше или к стене дома в тени. К этой рамке птичка прикреплена за низ шейки тесемкой в пол-аршина длиною; иногда птичка улетает с тесемкой, но китаец искусно излавливает ее, подставляя рамочку на протянутой руке. На ночь птичек помещают в большой просторный ящик, закрытый сверху решеткой; в нем имеются удобные приспособления для сиденья и установки кормушек. Китайцы чистят, холят и кормят своих любимцев, а по утрам и вечерам выходят с ними в поле, на гору или в сад и, поместив птичек на открытый воздух, любуются ими по часу и более, не сводя с них глаз. Они очень любят, если зрители хвалят их птичек.
В конце концов Дын-юань-ин начал все-таки порядочно надоедать путешественникам; желание тронуться по направлению к пустыне росло с каждым днем. Закончив все приготовления по снаряжению каравана, мы теперь поджидали только капитана Напалкова, который письмом известил нас о том, что ввиду своего переутомления как в физическом, так и нравственном отношении он торопится в Алаша и далее в Ургу.
Тридцатого апреля мой старший помощник наконец соединился с экспедицией. Выслушав доклад топографа, я оставил на его попечение главные коллекции, а сам налегке в сопровождении нескольких сотрудников выступил к заветному Хара-Хото.
Четвертого мая мои верблюды, числом двадцать один, выстроились стройной вереницей и медленно, но упорно и неутомимо закачались по серо-желтой, песчано-каменистой дороге. Слева, на западе, насколько хватал глаз, простиралась холмистая пустыня, одетая золотисто-зеленым покровом прошлогодних трав, на севере еле намечались вершины Баин-ула, а на востоке островки деревьев, сплетаясь своими густыми вершинами, составляли свежие, яркие живописные группы. Хребет Алашань постепенно терялся из виду. Первый ночлег на берегу ручейка Курэтэ под сенью стройных ивовых деревьев казался путникам особенно отрадным после опротивевшего всем людного пыльного Дын-юань-ина. Здесь нас окружали одни лишь молчаливые песчаные холмы, по которым пугливо перебегали зайцы и песчанки; среди зарослей дэрэсуна паслись осторожные харасульты и скрывались дрофы да больдуруки, а на водопой слетались соловьи-красношейки, варакушки, белые или серые плиски и чекканы. На солнечном пригреве, в самых открытых незащищенных местах нежились серые тонкие змеи и черные узкодлинные мухи с белым пятном на лбу. Все это население, часто довольно обильное, не мешало общему, окружавшему нас покою. Наоборот, оно только дополняло пустынный пейзаж, лаская глаз своими типичными формами.
Южная часть Гоби, Алаша до долины Гойцзо, не имеет того удручающе-монотонного характера, каковой принято приписывать всем пустыням.
Равнина, отличающаяся то песчано-глинистой, то солонцеватой или хрящеватой почвой, пересечена мягкими складками и образует местами широкие понижения[333],принимающие в себя боковые долины, – высохшие русла речек, усыпанные по дну дресвою из красного гранита и украшенные по берегам стройными линиями ильмовых деревьев[334], дэрэсуном, хармыком и другими травянистыми и полукустарниковыми растениями.
Залегающие в поперечном западно-восточном направлении горные гряды: Баин-ула, Дурубульчжин, Хара-ула хотя и безжизненны и бескормны, все же вносят приятнее разнообразие в общую печальную картину.
Абсолютная высота пустыни колеблется от 3500 до 4000 футов [1070–1220 м], причем наивысшие точки горных массивов поднимаются до 5470 футов [1666 м], а котловины с солончаковыми болотами опускаются до 3000 футов [915 м].
Особенной отрадой, особенным приветом веет в области южно-гобийских песков от мелких ручьев и колодцев, встречающихся приблизительно через каждые десять – пятнадцать верст, а иногда и чаще, и видные издалека благодаря островкам яркой зелени. Собирая вокруг себя все живое, вода дает возможность существовать и редким жителям – монголам и китайцам, ютящимся в глинобитных лачугах, юртах и палатках. Сидя иной раз в таком оазисе под тенью высоких тополей и слушая шелест густой листвы, невольно закрываешь глаза и уносишься мыслью далеко, в родные северные леса. А между тем, с приходом каравана все кругом оживает. Туземки чаще обыкновенного приходят поить скот (преимущественно верблюдов и баранов, бродящих целыми днями по скудным пастбищам) и подолгу наблюдают за нами. Там и сям слышатся веселые голоса, смех, а порою и сдержанный шепот.
Вот подходит к биваку молоденькая пятнадцатилетняя здоровая, румяная девушка с удивительно высокой изящной талией. Она боязливо озирается на иностранцев, в особенности на экспедиционную собаку, стремящуюся к колодцу утолить жажду. Живые, быстрые черные глаза пустынницы горят любопытством. Она то устремляет искрящийся взгляд куда-то вдаль, то снова и снова скользит испытующим взором по новым, неведомым ей предметам, по чуждым, странным европейским лицам. Дикарка напрасно ищет ответов на многие вопросы, заполняющие ее сознание, ограниченное лишь узким кругозором.
Не изменяя раз избранному северо-северо-западному направлению, караван то вступал на путь, знакомый нам еще со времени Монголо-Камского путешествия, то плелся по тропе, видевшей экспедицию год тому назад в ее бодром стремлении к югу.
От известного колодца Дурбун-мото путешественники пошли напрямик к кумирне Шарцзан-сумэ, оставив в стороне все прежние маршруты и следуя на пересечение песков Ямалык. Галечные высоты чередовались с песчаными низинами, где барханы, высотою иногда от тридцати до сорока футов [от 9 до 12 м], длинными зигзагами тянулись с севера на юг и с запада на восток, сплетаясь в причудливые, сложные построения.
Монастырь Шарцзан-сумэ виден издалека, так как его свежие чисто-белые постройки блестят на солнце ярким пятном. Отшельники-буддисты избрали для своей обители очень укромный, симпатичный уголок, среди горных складок, в прохладе, вблизи прекрасного колодца чистой пресной воды.
Повернув по буддийскому обычаю большое хурдэ стоявшее, у входа в монастырский двор, мы вошли в ворота и увидели все три храма, выстроенные в ряд, с двумя субурганами по флангам.
Приятно проведя самое жаркое время дня в прохладе буддийского монастыря, мы снова выступили в томительный путь. Прилежащие к Шарцзан-сумэ с севера горы вздымались крутым валом и состояли из полуразрушенного, выветрелого розового гранита, прорезанного жилами глинистого сланца. Каменистый грунт особенно тяжело отзывался на мягких лапах верблюдов, причиняя им немало страданий и заставляя всех нас желать возможно скорейшего переснаряжения каравана.
В обширной долине Шарцзан-ара, граничащей с севера с темно-синим массивом Арыкшан, у колодца Цзагин-худук раскинулась богатая ставка, известная всему Алаша, ламы Иши. Пользуясь дружеским расположением одинокого и весьма симпатичного азиатского креза, я именно у него и предполагал произвести смену усталых животных и проводников. Согласно нашим ожиданиям, Иши с величайшею готовностью откликнулся на нужды экспедиции и взялся доставить ее в Ургу через Хара-Хото. Приветливый лама принял путешественников в своей роскошной ковровой юрте очень любезно, угостил туземными кушаньями, деликатно осведомился, не нужно ли денег экспедиции, и, наконец, выразил мне свое глубочайшее уважение, сказав, что гордится знакомством с русским географом. Беседуя, между прочим, о своем детище – гобийском Мертвом городе, я узнал, что в десяти верстах к востоку от его стен имеется хороший колодец; по словам моего приятеля, в этих местах монголам не раз удавалось находить бронзовые, золоченые бурханы и другие ископаемые предметы, а поэтому Иши советовал мне обратить особенное внимание на восточные окрестности Хара-Хото.
Чем глубже экспедиция проникала в сердце пустыни, тем невыносимее становилась жара. В тени температура нередко поднималась уже до +34°… 37°С, а поверхность песка на солнцепеке накалялась и до 61,2°С. Особенно трудно дышалось в котловинах вблизи солончаковых болот, где всякая вентиляция почти отсутствовала, и нагретый, как будто даже спертый воздух окончательно высушивал в организме последнюю влагу. Даже верблюды и те страдали и, широко открывая могучие пасти, ловили малейшее дуновение ветерка. Странно было наблюдать, как в этот зной некоторые существа, как, например, ящерицы, змеи, жуки и мухи, ни на одну минуту не прекращали своей деятельной жизни и, по-видимому, чувствовали себя прекрасно.
Люди же несколько приободрились только после заката солнца. Ночи в пустыне бывали действительно обаятельные. Свежий прозрачный воздух прохладной струей вливался в усталую грудь; ясное, глубокое небо сияло особенно близкими, особенно яркими звездами, и торжественная чуткая тишина ласкала душу. Сколько раз в пустыне Гоби приходили мне на память грустные и вместе с тем прекрасные строки моего любимого поэта М. Ю. Лермонтова: «Ночь тиха; пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сияньи голубом. Отчего же мне так больно и так трудно».
Во время длительных, тридцати– и более-верстных переходов истомленные ненасытной жаждой, многие из нас находили единственное утешение в тщательном рассматривании горизонта с помощью бинокля.
Среди беспредельного желтого моря каждый островок зелени вызывал у всех живейшую радость, хотя нередко неприветливые растения и даже кое-какие птички – желтые плиски, стрижи – окружали горько-соленые бассейны воды или болота Шара-хулусун, и тогда вместо отдыха нас ожидало разочарование. Зато как мы стали неприхотливы!
Шестнадцатого мая, вступив в котловину Гойцзо и увидев обширные заросли тихо шелестевшего камыша, среди которого блестели полоски прозрачной родниковой воды, нам показалось, что лучше этого человек ничего не может желать. Жадно вдыхали путники особенный сочный и свежий запах влажной растительности, жадно ловили приятные звуки птичьих голосов, долетавших из густых зарослей. Энергичнее других ликовала камышевка (Acrocephalus artmdinaceus orientalis), ни на минуту не прекращая своей оригинальной скрипучей песни. У окраины озерка, при урочище Зуслен, благодушествовала семья серых гусей и кое-какие утки. На берегу степенно разгуливали журавли (Anthropoides virgo) и резвились, гоняясь за мошками и быстро кивая головками, зуйки. Турпаны испуганно носились в воздухе, оглашая окрестность громким криком, а выше их молча и бесшумно парил камышевый лунь.
Долина Гойцзо – самая низкая часть Монголии, отрадный уголок, как бы сдавленный со всех сторон надвигающимися на него песками, всегда наводит на размышление и заставляет задуматься о геологическом прошлом страны. Я лично полагаю, что как Гойцзо, так и продолжение этой котловины к западу – а именно низовье Эцзин-гола, озера Сого-нор и Гашун-нор, представляли из себя еще сравнительно недавно сплошную площадь воды – остаток древнего моря[335].В настоящее время под влиянием сильного зноя пустыни влага этого моря почти вся испарилась, оголив богатое хан-хайскими отложениями дно и оставив лишь в непосредственной близости к источникам крохотные бассейны воды.
Население в котловине Гойцзо несколько гуще, нежели в прочих частях Гоби. На каждом переходе мы встречали монгольские стойбища; верблюды, лошади, овцы и даже кое-какой рогатый скот выглядели недурно и, кажется, вполне довольствовались имеющейся зеленью тростника, тамариска, саксаула, дэрэсуна и редких ильмовых рощ, бог весть каким образом произраставших на отвратительной бугристой солончаковой почве.
Двадцать второго мая, следуя по песчаному плато Куку-илису, то поднимаясь на столовидные возвышения, то опускаясь на дно впадин, мы стали замечать следы древней культуры. По сторонам дороги попадались полуразвалившиеся башни, кое-где намечались осыпавшиеся от времени канавы, когда-то орошавшие хлебные поля. Мы приближались к Хара-Хото. Вот и высокая башня Боро-цончжи, а вот на северо-западе сквозь пыльную дымку еле проглядывают и серые стены Мертвого города.
Утром двадцать второго мая 1909 г., в день прихода экспедиции в Хара-Хото, в четырех-пяти верстах восточнее развалин этого города, в долине с песчаными буграми препараторами был пойман очень интересный маленький тушканчик. Прекрасно сохранившийся в крепком спирту, этот «зверек» при исследовании специалистами оказался новым родом Salpingotus Kozlovi gen. et spec. nov[336][карликовый тушканчик].
Новое посещение Мертвого города. – Бивак экспедиции. – Планомерное ведение раскопок. – Заметки о погоде. – Удручающе мертвенная обстановка. – Потайное молитвенное помещение. – Открытие «знаменитого» субургана; его ценнейшее содержание: книги, образа, статуи, статуэтки и многое другое. – Дальнейшая участь археологических сокровищ экспедиции. – Памятники монгольской письменности. – Отрывок персидской рукописи книги «Семи мудрецов». – С. Ф. Ольденбург: «Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото».
Весь пустынный путь от Дын-юань-ина до Хара-Хото, всего пятьсот пятьдесят верст, экспедиция осилила в девятнадцать дней, нигде не останавливаясь на дневку и нигде не отдыхая.
На этот раз наш бивак устроился не в центре исторических стен города, как прежде, а несколько ближе к его северо-западному углу, подле развалин большой фанзы. Во время нашего отсутствия никто моего детища не навещал: развалины были в том же положении, в каком мы их оставили[337]. Нетронутыми оказались и те предметы, извлеченные нами из-под обломков и мусора, которые мы оставили как лишние.
Рассчитывая провести за раскопками около месяца, я возобновил приятельские отношения с торгоут-бэйлэ, по-прежнему жившим на Эцзин-голе в двадцати с лишком верстах от Хара-Хото, заручился его содействием по найму рабочих-землекопов, а также подрядил торгоутов ежедневно доставлять нам с Эцзин-гола воду и баранов. Повышенная физическая деятельность, увеличение количества ртов в два-три раза требовали того и другого весьма много.
Мертвый город ожил: задвигались люди, застучали инструменты, по воздуху полетела пыль. Ежедневно в полдень к нам приходил караван из ослов с водой и продовольствием с долины Эцзин-гола и привозил нам новости. Порою проведывал нас кто-либо из чиновников торгоут-бэйлэского управления, чтобы в свою очередь знать, как поживают на развалинах русские.
Хотелось и о себе дать знать что-нибудь близким и далеким друзьям и общественным учреждениям. Из Хара-Хото я решил отправить последнюю большую почту с отчетом в Географическое общество и частными письмами в Ургу и Россию.
Не только мои спутники, но и туземные рабочие вскоре прониклись интересом к раскопкам. Мы только и говорили, что о Хара-Хото: вечером – о том, что найдено в течение истекшего дня, утром – что можем найти. По-прежнему мы просыпались с зарей и в сравнительной прохладе вели свои работы; днем отдыхали, а то и пуще – томились от изнурительного жара, так как в тени воздух нагревался до 37°С с лишком, а земная поверхность накалялась солнцем свыше 60°С.
Особенно страдал от духоты мой и без того слабый здоровьем фельдфебель Иванов, который после несчастного случая – тяжкого падения с верблюда – чувствовал себя все время очень неважно и даже внушал серьезные опасения за его жизнь. Пыль и песок, поднимаемые горячим ветром, положительно изнуряли всех.
За все почти месячное время пребывания наше на развалинах пустынного города прошел только один раз сильный дождь, хорошо смочивший землю и встряхнувший застоявшийся воздух оглушительными ударами грома. Маленькие дожди перепадали изредка, им обыкновенно предшествовала северо-западная или юго-западная буря, приносившая вместе с несколькими каплями влаги желтые облака пыли, из-за которых темно-синие дождевые тучи казались грязно-серого цвета. Приближение такого урагана всегда заметно издали по грозному облаку, несущемуся с далекого горизонта и сокрушающему все на своем пути. Сначала по пустыне пробегает вихрь, потом мощным порывом ветра срывается с земли верхний слой почвы и начинает кружиться в воздухе. Юрга пригибается к земле, ее решетчатый остов хрустит, словно кости живого существа, а палатка, надувшаяся, как парус, стремится улететь в пространство; обычно собравшиеся на биваке монголы издают неистовые вопли, теряющиеся в шуме бури, и, вцепившись, что называется, руками и ногами в полотно своего жилища, стремятся спасти его от нападения бога ветра. Это, конечно, удается далеко не всегда.
После такого бурного состояния атмосферы дали быстро проясняются, температура несколько понижается, и странники могут спокойно заняться уборкой своих помещений. Всюду пыль и песок; ни к чему нельзя притронуться, чтобы не запачкать потрескавшиеся от зноя руки. До того времени влажная от испарины одежда просыхает и покрывается твердой коркой соли и мелких частиц песка. Чувствуешь себя усталым и разбитым. Серая безжизненная окрестность усиливает неприятное тяжелое впечатление.
Я всегда радовался при появлении на нашем биваке двух черноухих коршунов (Milvus melanotis), подбиравших отбросы. Эти птицы со всеми нами скоро освоились и смело усаживались в нашем близком соседстве, чуть не выпрашивая подачек. К этому приучили их мои спутники, бросавшие птицам в воздух куски мяса, которые коршуны искусно схватывали. Не любила птиц и постоянно ссорилась с ними наша экспедиционная собака Лянга, – неизменная спутница и друг каравана почти всего нашего путешествия. Эти живые существа – птицы и собака – только и оживляли, только и развлекали наше монотонное житье в Хара-Хото, в особенности в течение первой недели, когда результат раскопок был только непосредственно при большой затрате физического труда.
Сами раскопки производились по заранее составленному плану: монгольская партия рабочих под присмотром моего спутника-бурята систематически исследовала развалины фанз на протяжении немногих улиц Хара-Хото, а иногда пыталась рыть глубокие колодцы в указанных мною местах, русская же партия, помимо раскопок внутри города, производила изыскания и вне харахотоских стен, в близком и далеком расстояниях.
Как прежде, так и теперь попадались предметы домашнего обихода, предметы скромной роскоши, культа, а также письмена, бумаги, металлические и бумажные денежные знаки и пр[338]. Ассигнации мы нашли в развалинах торгового помещения.
Идешь, бывало, медленно по тихим вымершим улицам и смотришь в землю, покрытую мелкой галькой точно узорчатым полом. В глазах пестрит и все сливается в одну серую массу; поднимешь глаза вверх, окинешь взглядом окрестность и вновь идешь, медленно переставляя ноги; вот блеснул интересный черепок, вот бусинка, вот монета, а там дальше – что-то зеленое, какой-то нефритовый предмет. Осторожно откапываешь руками находку и долго любуешься ее оригинальными гранями и странной незнакомой формой. Всякая новая вещица, появившаяся на свет из песчаных недр, вызывает в человеке необыкновенную радость и возбуждает у прочих спутников желание вести раскопки особенно интенсивно.
В этот же период, между прочим, мы натолкнулись на интересное потайное молитвенное помещение, устроенное на северной стене крепости, над третьей с запада фланкирующей башней. По удалении обвалившегося потолка и другого обломочного материала представилась следующая картина: против входа в храмик – полуразвалившийся престол, основания бурханов; на уцелевшей нижней части стенки виднеются фрески с изображением святых и двуголового зеленого попугая[339].
Однообразные, скромные находки стали, наконец, наскучивать нам; энергия ослабевала. Между тем, рекогносцировки для нахождения и сосредоточивания новых раскопок производились, результатом чего и был поставлен на очередь субурган, расположенный вне крепости и отстоящий от западной стены ее в четверти версты, на правом берегу сухого русла.
Вот этот-то «знаменитый» субурган и поглотил затем все наше внимание и время. Он подарил экспедиции большое собрание, целую библиотеку книг, свитков, рукописей, множество, до трехсот, образцов буддийской иконописи, исполненной на холсте, на тонкой шелковой материи и на бумаге. Среди массы книг и образцов живописи, лежавших в субургане в беспорядке, попадались очень интересные металлические идеревянные, высокой и низкой культуры, статуи, клише, модели субурганов и многое другое. Особенно великолепен образ-гобелен как образчик превосходного ткацкого искусства. Ценность находок еще более увеличивается, благодаря редкой сохранности их в крайне сухом климате. Действительно, большинство книг и рукописей, равно и иконопись, поражают своею свежестью, после того как они пролежали в земле несколько веков. Хорошо сохранились не только листы книг, но и бумажные или шелковые, преимущественно синего цвета обложки.
Сколько интереса и своеобразной радости вызывалось при взгляде на тот или другой образ, только что извлеченный из субургана, на ту или иную книгу или на отдельную из найденных статуэток, в особенности бронзовых или золоченых. Таких счастливых минут я никогда не забуду, как не забуду в отдельности сильного впечатления, произведенного на меня и на моих спутников двумя образами китайского письма на сетчатой материи.
Когда мы раскрыли эти образа, перед нами предстали дивные изображения сидящих фигур, утопавших в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святынь веяло чем-то живым, выразительным, целым; мы долго не могли оторваться от созерцания их – так неподражаемо хороши они были. Но стоило только поднять одну из сторон того или другого полотна, как большая часть краски тотчас отделилась, а вместе с нею, как легкий призрак, исчезло все обаяние, и от прежней красоты осталось лишь слабое воспоминание.
Вместе со всем отмеченным богатством в субургане было похоронено, вероятно, духовное лицо, костяк которого покоился в сидячем положении несколько выше пьедестала у северной стены надгробия. Череп от этого скелета был приобщен к нашим коллекциям[340].
Все богатство, собранное в знаменитом субургане: книги, образа, статуи и другие предметы, повторяю, лежало в крайнем беспорядке. Еще в нижней части хранилища намечалась некоторая система: часть глиняных статуй была размещена на одной высоте лицами внутрь, наподобие лам, отправляющих богослужение перед большими рукописными листами письма Си-Ся, сотнями наложенными один на другой.
Чем выше, тем хаотичнее группировалось богатство субургана; книги лежали кипами и в одиночку, плотно прижатые друг к другу или к образам, свернутым в отдельности на деревянных валиках. И книги, и образа были сложены в самых разнообразных положениях, как равно и статуи, заключенные между ними. Только в основании субургана было отмечено несколько книг, тщательно завернутых в шелковые ткани.
Там же преимущественно хранились и бронзовые статуэтки, и клише, и ксилографические доски, и модели субурганов.
Вообще говоря, «знаменитый» субурган дал почти все, в особенности в отделе книг и образов, чем обогатилась экспедиция, и положительно все, что послужило основанием академику С. Ф. Ольденбургу для его труда «Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото». Еще не приведен в известность полностью перечень книг, рукописей и образов, однако без преувеличения можно сказать, что книг, свитков и отдельных рукописей – свыше двух тысяч томов или экземпляров; что же касается икон, то количество последних доходит, как указано выше, до трехсот номеров.
Сам субурган поднимался над поверхностью земли до четырех-пяти сажен [8—10 м]и состоял из пьедестала, уступной середины и конического, полуразрушенного временем или любопытством человека, верха. В основании центра пьедестала был вертикально укреплен деревянный шест без какого бы то ни было украшения на вершине.
Отдавая все свои силы и время на подробное исследование столицы тангутского царства, я не переставал интересоваться ближайшими окрестностями Мертвого города, где, по слухам, были еще развалины Боро-Хото. С этой целью мой спутник Гамбо Бадмажапов с двумя монголами совершил поездку на северо-восток[341] и привез кое-какие дополнительные данные о жизни туземцев в пустыне Гоби. Оказывается, что в те отдаленные времена, когда Хара-Хото, вытянувшись широким приветливым оазисом вдоль берегов Эцзин-гола, протекавшего еще дальше на северо-восток, жил полной жизнью, не менее его процветало и селение Боро-Хото, расположенное на левом берегу старого русла Эцзин-гола в двадцативерстном расстоянии к северо-востоку от Хара-Хото.
Пользуясь случаем всякой встречи с туземцами, мы постоянно вели с ними беседы о Хара-Хото, о том, конечно, не был ли кто-нибудь на развалинах раньше нашего посещения Мертвого города, или не нашел ли кто что-либо очень интересное и т. д. По этому поводу мне приходилось слышать массу всевозможных рассказов, но более существенных мало, и они заключаются в следующем…
Прежде всего, невежественные, суеверные эцзинголские торгоуты из боязни харахотских духов и их навождений стараются никогда туда не заглядывать, в особенности в одиночку или тем более с целью производить какие бы то ни было раскопки. «Правда, – говорили торгоуты, – среди нас бывали смельчаки, которые собирались компанией, рыли землю в Хара-Хото и кое-что находили. Попадались бронзово-золоченые статуэтки, слитки серебра и немногое другое. Но вот однажды, порядочно лет тому назад, одна смелая и счастливая старуха нашла там три нитки крупных жемчугов. Подробности этого интересного события таковы.
В компании со своими сыновьями старуха искала без вести пропавших лошадей; ее застигла буря, спасаясь от которой торгоуты неожиданно для себя натолкнулись на стены Хара-Хото и под защитой их провели холодную ночь. Наутро стихло, но прежде чем отправиться восвояси – на Эцзин-гол, торгоуты захотели побродить по вымершему городу. Таким образом, следуя среди развалин, старуха увидела открыто лежащие и ярко блестевшие серебристые бусы[342]. Полюбовавшись ими, она повесила украшение себе на шею.
По приезде на Эцзин-гол все торгоуты были тотчас осведомлены о случившемся, и все приходили поглядеть на интересную находку. Один из торгоутов сумел даже распознать настоящую ценность бус и предупредил счастливицу, чтобы она зря с ними не расставалась.
Тем временем к торгоутам прибыл обычный китайский караван с массою разных товаров. Торгоуты не замедлили рассказать китайцам о таком происшествии – о находке старухою жемчугов. Вначале для видимости алчные торгаши браковали бусы, но торгоутка стояла на своем. В конце концов китайцы заплатили за жемчуга содержимым всего своего каравана.
Советник-торгоут был щедро награжден старухой, которая на радости не преминула наделить каждого из своих собратьев тем или иным предметом из вырученного за драгоценную находку.
Собрав материал «знаменитого» субургана, который, несомненно, прольет новый свет не только на историческое прошлое тангутской столицы и ее обитателей, но и на многое другое, и тщательно обследовав все улицы и здания Хара-Хото, мы начали собираться в дорогу. Наш караван вырос до больших размеров и внушал пасение за целость доставки его на родину.
Осенью 1909 года все научные труды Монголо-Сычуаньской экспедиции, все ее коллекции в виде большого транспорта были благополучно доставлены в С. Петербург, в собственное, только что отстроенное помещение Географического общества, которое в начале следующего 1910 года и выставило весь научный материал экспедиции для обозрения публики.
Вскоре затем коллекции Хара-Хото поступили большей своей частью в этнографический отдел Русского музея, а меньшей – книги, свитки, рукописи – в Азиатский музей Российской Академии наук.
Между прочим, о памятниках монгольской письменности из Хара-Хото В. Л. Котвич говорит следующее:
«После разгрома, учиненного Чингисханом в 1226–1227 гг., тангуты, или Си-Ся вошли в состав образованной монголами державы. Несмотря на этот разгром, национальная культурная жизнь страны не угасла, о чем свидетельствует обширная тангутская литература с ее своеобразной письменностью, но к влияниям, которым тангуты до тех пор подвергались (преимущественно со стороны Китая и Тибета), прибавилось еще новое – монгольское. Это последнее влияние не ограничивалось пределами политических взаимоотношений, и о его характере можно до некоторой степени судить по тем монгольским документам, которые были найдены в Хара-Хото Монголо-Сычуаньской экспедицией под руководством П. К. Козлова.
Документы эти не имеют точных дат, но палеографические их особенности и тот факт, что они были найдены вместе с ассигнациями, выпускавшимися монголами в Китае, дают основание отнести указанные памятники ко времени мирового господства монголов, т. е. до 1368 г. Таким образом, благодаря находке П. К. Козлова мы получили важное приращение к очень немногочисленным подлинным памятникам монгольской письменности этого времени. До сих пор подобные памятники были нам известны (по своему происхождению или месту нахождения) из Золотой Орды, Персии, Восточного Туркестана, Сибири, собственно Китая и Северной Монголии; имелись монеты, чеканившиеся с монгольскими легендами в Золотой Орде, Персии и Грузии. Теперь к этому перечню нужно прибавить и новый район – страну тангутов.
Общее число найденных в Хара-Хото монгольских документов исчерпывается 17 номерами; среди них мы имеем около десятка небольших фрагментов, одну маленькую рукописную книжку в 34 листа (145,7 см), остальные – документы в 10–12 строк. При незначительности по объему этой коллекции она оказалась довольно разнообразной по своему содержанию.
Упомянутая книжка служила пособием для гаданий, особенно при определении счастливых и несчастных дней; составлена по китайским образцам, употребляющимся в Китае и доныне. Владелец этой книжки, по-видимому, обладал знанием китайского языка, так как в ней повсюду встречаются китайские слова, переданные китайскими иероглифами или монгольскими буквами, а в конце даже помещены целые рецепты на китайском языке для приготовления лекарств от болезней, которыми страдают лошади. Для монгола-скотовода эти рецепты, по-видимому, представляли особый интерес и потому были записаны в гадательную книжку, находившуюся в постоянном употреблении, как об этом говорит ее изношенный вид.
Один фрагмент в 14 строк носит дидактический характер и, насколько можно заключить по разобранной части, представляет собою отрывок из поучений Чингисхана. Подобные поучения сохранились у монгольских племен в различающихся между собою редакциях и доныне; судя по этому документу, они были записаны монголами рано и могли наряду с устными преданиями послужить известному персидскому историку начала XIV века Рашид-эддину источником для тех чингисовских наставлений, которые помещены в его труде о монголах. На фрагменте, по-видимому, имелось и имя Чингисхана, но это место текста, к сожалению, повреждено, и сохранилась только верхняя часть слова «Чин», вынесенная на надлежащую высоту над вертикальными строками текста, согласно требованиям официального этикета, заимствованного у китайцев. Зато полностью сохранилось имя известного сподвижника Чингисхана, Богорчу (у Рашид-Эддина – Бурджи-ноян), к которому, видимо, и обращена сохранившаяся часть поучения. В ней мы имеем обычную в монгольских поэтических произведениях аллитерацию, и потому данная редакция уже представляет собою эпическую обработку слов Чингисхана. Соответствующей части в других известных редакциях поучений не имеется.
На оборотной стороне того же фрагмента имеется пять строк печатного текста юридического содержания, по-видимому, положения о функциях какого-то учреждения, с китайской терминологией.
Большая часть документов – деловая переписка: письма с поднесением подарков, жалоба по случаю похищения лошади, два долговых акта о получении взаймы пшеницы с именами, печатями («знаменами») должников, поручителя и свидетелей; оба последних документа написаны по одной трафаретной форме, которая принята в уйгурских долговых расписках, найденных в Восточном Туркестане, и, очевидно, была заимствована монголами вместе с письмом у уйгуров[343]. Помимо чисто бытовых подробностей, эти документы дают нам некоторое количество имен, из коих часть, вероятно, принадлежала тангутам. Так как тангутская письменность остается все еще не разобранной, а китайские исторические сочинения и памятники передают собственные названия в очень искаженной форме, то монгольское изображение может бросить свет на характер тангутского языка и во всяком случае дать эти имена, несмотря на все несовершенства монгольского алфавита, в наиболее близкой к действительной форме. Приводим некоторые из этих имен (с возможными вариантами в чтении): Чонсоно (Цонсоно), Саса (Каса), Иси намбу (Иши намбо), Намбу (Амбо), Сут ши (Кут ши), Чан сунан (Цан кунан), Су сарамбат (Соо сарамба), Син кули; возможно, что не все эти имена принадлежали тангутам.
Найденные в Хара-Хото монгольские документы написаны так называемым уйгурским письмом, причем в них имеются те же особенности, которые присущи памятникам того же примерно времени, дошедшим до нас от уйгуров. Это лишний раз указывает на то, что монголы, усваивая себе уйгурский алфавит, первоначально не внесли в него никаких изменений и те отличия, которые представляет современное монгольское письмо, явились в более позднюю эпоху.
Особенно, однако, любопытно было встретить среди харахотских документов два небольших фрагмента печатных (ксилографических) изданий. До недавнего времени нам не было известно монгольских ксилографов ранее половины XVII в. Только в 1907 г. Густав Маннергейм нашел где-то в Восточном Туркестане небольшой монгольский ксилограф буддийского содержания, писанный тибетским квадратным письмом и относящийся к эпохе мирового господства монголов. Теперь мы получили от той же эпохи образцы монгольских ксилографов уйгурского письма. Ими особенно наглядно устанавливается общность монгольского и уйгурского алфавитов; отметим наличие старого начертания М с прерывающейся вертикальной чертой.
Таким образом, харахотские памятники представляют интерес не только по содержанию, но и по форме».
«Среди многих замечательных находок П. К. Козлова в Хара-Хото, – любезно сообщает автору этого труда академик Сергей Федорович Ольденбург[344], – видное место занимает отрывок персидского текста знаменитой книги «Семи мудрецов Китаб-и-Синдбад». Книга эта, известная на Востоке и на Западе, ведет свое начало из Индии и была чрезвычайно популярна у арабов и у персов, многие из поэтов которых обработали эту тему. Мы знаем о том, что сочинение это распространилось в турецком и монгольском мире, но, особенно по отношению к последнему, не имели прямых указаний на пути распространения в этой среде «Семи мудрецов». Теперь мы видим, что среди тангутов жили персы, которые занесли сюда персидскую версию нашей книги; далее она, очевидно, перешла к монголам. Возможно, что со временем мы найдем ее отзвуки и в Тибете, и тогда почти замкнется круг странствований этих повестей по азиатскому миру. После находки П. К. Козлова мы с гораздо большей уверенностью будем говорить о возможных путях странствований так называемых бродяих сказок и повестей и о значении в этих переходах от народа к народу литературных обработок, а не только народных пересказов».
Академик С. Ф. Ольденбург говорит: «Выдающееся значение для буддийской иконографии собрания буддийских икон и статуэток, добытых полковником П. К. Козловым при раскопках Хара-Хото в 1908 и 1909 годах, побудило меня, не откладывая дела до подробного и тщательного изучения этого замечательного собрания, теперь же принять предложение управления этнографического отдела Русского музея и дать предварительно описание ценнейшей находки нашего известного исследователя Средней Азии и Тибета.
Такое предварительное описание, в котором, насколько это пока было возможно, представлены классификация иконографического материала и описание отдельных изображений, даст, мы надеемся, специалистам возможность, особенно при помощи прилагаемых снимков, ввести новый богатый материал в научный обиход и откроет нам новую страницу в истории буддийского искусства».
Оставление Хара-Хото. – «Лошадиная загородка». – Путь до Эцзин-гола. – Летняя картина последнего. – Любопытный монгольский обычай. – Снова пустыня; граница хошунов. – Оставление Иванова в Цогонда. – Переговоры с управлением Балдын-цзасака. – Экскурсия в горы. – Последняя корреспонденция в центр России. – Прибытие Иванова. – Получение писем с родины. – Дальнейший путь. – Вид на Дэлгэр-хангай. – Порядок движения каравана. – Пустыня сменяется степью. – Antilope gutturosa и дрофы. – Северные высоты и вид на Богдо-ула и Толу. – Впечатление последней ночи. – Приход в Ургу.
Поработав в Мертвом городе Хара-Хото около четырех недель в самых тяжелых условиях и закончив все намеченные археологические изыскания как внутри крепостной стены, так и вне ее, путешественники стали подготовляться к выступлению в дальнейший путь. Все чувствовали большое утомление вследствие непрестанного сильного зноя, пыли и грязи, от которой мы не имели возможности избавиться за недостатком воды для питья. Все жаждали увидеть новые картины отрадной жизни природы, насладиться вновь зеленью деревьев, шумом листвы и запахом влажной травянистой растительности.
Шестнадцатого июня наш тяжелый, нагруженный бесценными историческими сокровищами караван вышел в западные ворота тангутской столицы и мимо северо-западного угла ее стен направился к Эцзин-голу.
Рыхлый сыпучий песок затруднял движение, животные с трудом передвигали ноги, но все-таки настроение было бодрое.
Верстах в трех к северо-западу от Хара-Хото я ненадолго остановился для осмотра оригинальных развалин Актын-хурэ, или «Лошадиной загородки», служивших в прежнее время, по всей вероятности, загоном для скота местных обитателей, а может быть, даже и цитаделью или аванпостом харахотского гарнизона.
Актын-хурэ с севера непосредственно примыкает к старому сухому руслу Эцзин-гола, а с востока, юга и запада, составляя как бы замкнутое колено реки, вокруг него извивается глубокий ров, по обе стороны которого выстроены внушительные крепостные стены. Сейчас эти стены наполовину разрушены, а их деревянные части исчезли совершенно, оставив зияющие отверстия, где находят себе приют соколы (Tinnunculus tinnunculus), сычики и некоторые другие хищные пернатые. В окрестностях «Лошадиной загородки» еще видны кое-где остатки арыков, орошавших поля. Судя по тому, что в Актын-хурэ не сохранилось даже и следов жилых построек, а черепки и вообще керамические находки представляли большую редкость, я склонен приписать этим развалинам большую древность, чем Хара-Хото.
По мере удаления экспедиции от Мертвого города мною все более овладевало чувство безотчетной грусти; казалось, среди этих безжизненных развалин осталось что-то близкое и дорогое мне, с чем впредь будет неразрывно связано мое имя, что-то, с чем больно было расставаться. Много, много раз оглядывался я на подернутые пыльным туманом исторические стены крепости и, прощаясь со своим седым и древним другом, с каким-то странным чувством сознавал, что теперь над Хара-Хото сиротливо возвышается лишь один древний субурган, тогда как другой неизменный товарищ его безвозвратно погиб – уничтожен пытливостью ума человека.
Но вот еще несколько часов непрерывного движения – и мы в долине Эцзин-гола. Русла обнажены. Мунунгин-гол, на правом берегу которого мы разбили свой бивак[345], тоже совершенно пересох, и только местами, в омутах, образуя мелкие озера или пруды, еще стоит нань-шанская вода, скрывая кое-какую рыбу и давая пищу окружающей довольно свежей древесной, кустарниковой и, главным образом, травянистой растительности.
Заросли древесной растительности состоят из трех пород: разнолистного тополя (Populus euphratica), джигды (Eleagnus), ивы (Salix). По окраине долины растут тамариск, хармык (Nitraria Schoberi), сугак (Lycium turcomanicum), кендырь (Apoeynum pictum), Zygophyllum brachypterum и Alhagi camelorum. Там и сям встречаются также Sphaerophysa salsola, Sophora alopecuroides, зубровка (Hierochloa borealls), Dodartia orientalis, лапчатка (Potenitilla sapina), стручки (Erysimus altaicum), Arnebia fimbriata, Glycirrhyza, Cynanchum, Calamagrostis и немногие другие. «На этой узкой полосе кустарников и трав, – говорит Г. Н. Потанин[346], – соединено все богатство здешней флоры, не отличающееся разнообразием форм. Лугов не только в том смысле, какой придается этому слову на нашем севере, но даже в смысле ордосских чайдамов и Цайдама Пржевальского, и моего, – прибавляю я, – здесь нет; вместо луга реку сопровождает песчаное прибрежье, которое местами бывает усеяно кустиками мелкой осоки, не сливающимися в сплошной зеленый покров».
Что касается животной жизни, то и она здесь также довольно бедна. Из зверей мы лично наблюдали: антилоп харасульт (Gazella subgutturosa), волков, лисиц, зайцев и более мелких грызунов, но, по свидетельству туземцев, долину Мунунгин-гола населяют также дикие кошки и даже рыси.






