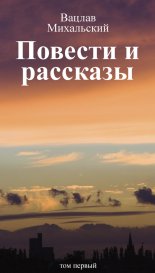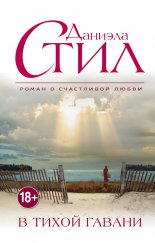Любовь дерзкого мальчишки Вернер Элизабет
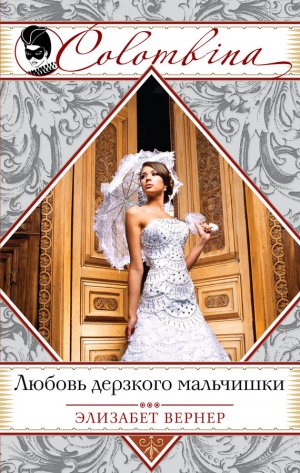
Читать бесплатно другие книги:
Собрание сочинений Вацлава Михальского в 10 томах составили известные широкому кругу читателей и кин...
Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123) переводятся на русский язык уже бо...
Уникальность поэтической и прозаической манеры Ларисы Рубальской состоит в том, что каждое произведе...
В авиакатастрофе погибают муж и сын Офелии. Как пережить невосполнимую утрату? Как жить дальше, не о...
Джульетта.Обычная девчонка, которую насильно держат в закрытой психиатрической клинике.Обычная девчо...