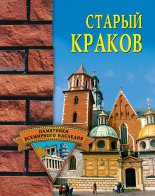Зал ожидания (сборник) Гельман Юрий

Читать бесплатно другие книги:
В этой масштабной пьесе Мюллер создаёт насыщенную картину жизни немецких крестьян после второй миров...
Хайнер Мюллер обозначает жанр этой пьесы, как воспоминание об одной революции. В промежутке между Ве...
Геракл в пьесе Хайнера Мюллера скорее комический образ. Прожорливый и тяжёлый на подъём, он выполнил...
Написанная в период осознания логического конца модернизма и – шире – модерна, то есть определяющего...
В данной книге рассматриваются биологические особенности сорных растений, дается подробная характери...
Посетив хоть однажды древнюю столицу Польши, невозможно забыть ее чарующую атмосферу. Город со сложн...