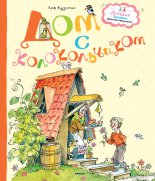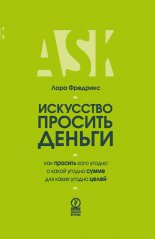Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни Сампрас Пит
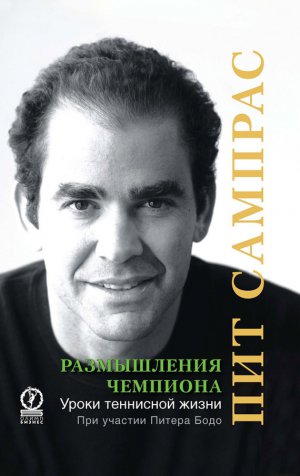
Сейчас, задним числом, я понимаю, что мне следовало найти в Париже заведение типа «Pizza Hut» и усладить себя калорийным блюдом. Но, будучи человеком дисциплинированным, я воздержался. Свою здоровую игровую диету я довел до того, что утром позволял себе лишь одну чашку кофе. Потом я отправлялся на стадион тренироваться, а если был игровой день, съедал сэндвич (обычно с индейкой) и иногда еще банан. Дневное питание обычно этим и ограничивалось, а на ужин — тарелка легкой пасты с куском курицы.
Тем временем наступила пятница. Мне выпал ранний матч. Играть первым полуфинал в Париже — унылая штука. Парижская публика собирается с опозданием, особенно на местах, выкупленных организациями. Французы не склонны пропускать предлагаемый устроителями соревнований длинный, обильный ланч только ради того, чтобы застать первые час или два из как минимум шестичасового действа на Центральном корте. Поэтому в Париже полуфинал «Большого шлема» может проходить в атмосфере, напоминающей обстановку какого-нибудь дневного матча второго круга в Индианаполисе или Лионе. В подобных условиях попросту не тот настрой, чтобы биться за выход в финал «Большого шлема».
Иными словами, в силу расписания я лишился той волнующей атмосферы, которая обычно вдохновляла меня. Толковые и страстные болельщики посещают матчи первых кругов, но их становится значительно меньше, когда массовый зритель, наконец, почтит игру своим вниманием (обычно начиная с четвертьфинала).
Итак, общая атмосфера мне не благоприятствовала, да и погодные условия тоже. Было жарко. Солнце сияло на безоблачном небе, не чувствовалось даже легкого ветерка.
Конечно, быстрый, подсушенный солнцем корт пришелся кстати, но жара могла довести до изнурения в долгом противостоянии на грунте.
Как выяснилось, за свою выносливость я мог не беспокоиться. Я хорошо подавал с самого начала, точно посылал мячи и эффективно атаковал справа, чтобы форсировать игру. Кафельников держался, не доставляя мне, впрочем, особых хлопот. В первом сете мы дошли до тай-брейка, и я его проиграл. В сущности, не случилось ничего непоправимого. Но потом все внезапно пошло наперекосяк! В следующем сете я не взял ни одного гейма (!), а в третьем — выиграл лишь два. Это было, вне сомнения, мое самое загадочное и обидное поражение на турнирах «Большого шлема» — правда, от спортсмена, который умел настраиваться на важные матчи, особенно против меня.
До сих пор не могу внятно объяснить, что же меня подкосило. Я словно наткнулся на какую-то физическую и психологическую стену и попросту не мог играть лучше. Возможно, это связано с моим питанием — тогда понятны те странные желания, которые я подавлял. Но какова бы ни была причина, у меня просто ничего не оставалось в резерве, и я чувствовал это, теряя гейм за геймом. Ощущение поистине ужасное — ведь на тебя смотрят двадцать тысяч человек на стадионе да еще миллионы по телевизору. Прибавьте к этому постоянное, невысказанное, но неподдельное желание побеждать ради памяти Тима. Ноги не слушались, в голове было пусто, я не знал, за что уцепиться. А когда меня, наконец, милосердно прикончили, стало еще хуже. Я ощутил небывалую опустошенность и полное изнурение. Я был раздавлен.
В глубине души я рассчитывал, что на сей раз французский чемпионат будет моим, и я добился этого именно теперь, когда потерял Тима. Уверенность постепенно окрепла во мне, особенно после побед над двумя очень сильными экс-чемпионами. Все время на турнире мне казалось, что Тим не умер: мы с ним собираемся выиграть чемпионат Франции — еще одна общая цель после преодоления трудностей и победы в Уимблдоне. Во время матчей я мысленно обсуждал это с Тимом, и наши беседы помогали мне в нелегкие минуты.
Но когда я играл с Кафельниковым, вдруг наступило какое-то гулкое, глубокое молчание. Я не размышлял об этом во время матча, но, скорее всего, тишина воцарилась потому, что угасло мое желание найти поддержку у Тима, прекратились мои попытки сохранить хотя бы иллюзию его жизни. Хотя я присутствовал на похоронах Тима, но, по сути, не смирился с его смертью, не принял ее. И вот после этого матча ужасная действительность наконец предстала передо мной.
Когда в игре с Кафельниковым я наткнулся на глухую стену, то понял, что мои — наши — мечты разбиты вдребезги. И тут я внезапно осознал — Тима больше нет, наши надежды умерли. Навеки...
Кончина Тима дала Полу Аннакону возможность избавиться от приставки «исполняющий обязанности» и занять место моего постоянного тренера. Он принял предложение, когда мы обсуждали этот вопрос незадолго до смерти Тима.
Пол — опытный, умелый профессионал с интересной игрой. Правда, двигался он, пожалуй, не очень хорошо, да и его удары с отскока оставляли желать лучшего. Я вечно подшучивал над ним, предлагая нанять спарринг-партнеров, потому что он просто не успевал делать столько ударов с отскока, сколько требовалось для моей полноценной тренировки. Зато Пол отлично чувствовал игру, прекрасно подавал и великолепно играл с лета. Он побеждал за счет сообразительности и, как атакующий игрок, предпочитал открытый наступательный теннис, полагаясь на то, что всегда сумеет добраться до сетки и нанести больше завершающих ударов с лета, чем его соперник — мощных обводящих ударов. Пол был одним из последних великих приверженцев этого стиля.
Конечно, такая тактика не всегда приносит успех. Порой в неудачный день ты выглядишь просто по-дурацки — вроде кавалериста, нападающего на танк. А вот когда атакующий теннис срабатывает, на него просто любо-дорого смотреть. Он создает мощный прессинг и причиняет сопернику массу неудобств. Но в любом случае достоин уважения игрок, который идет на риск, а не отсиживается сзади, получая 6:3, 6:3 от любого, кто лучше двигается или более надежно отбивает мячи с отскока.
Пол выиграл три чемпионских титула в одиночном разряде, один в парном (Открытый чемпионат Австралии, в паре с Кристо ван Ренсбургом) и поднимался даже до двенадцатого места в мировой классификации.
Как игрок я окончательно сформировался под бдительным надзором Тима и под его же руководством из мальчишки превратился во взрослого. В Поле же я стремился найти нечто иное — компаньона, советчика, равного мне партнера, который понимал бы меня и мою игру, а также других игроков, их сильные и слабые стороны. Если Тим (помимо прочего) придал завершенный вид моей технике, то Пол должен был заниматься стратегией, помогая мне рассчитать, как лучше всего использовать мое оружие и нейтрализовать оружие соперников.
Пол был не так общителен, как Тим. Обычно немногословный и сдержанный, он, правда, любил побеседовать с добрыми знакомыми, и непременно на высоком философском уровне. Пол никогда не говорил, не подумав, и отличался незаурядным терпением. В любом конфликте или споре он вел себя с безупречным тактом. По темпераменту я скорее походил на Пола, нежели на Тима, и в то время данное обстоятельство оказалось весьма ценным.
Пол Аннакон так и не получил заслуженного признания как мой тренер — ведь когда он им сделался, я уже был игроком высшего класса. Многие думали, что основные обязанности Пола — таскать мои ракетки к мастеру, разогревать меня перед матчами, устраивать встречи с прессой, заказывать нам обеды и билеты на самолет. Но я хотел (и получал) от Пола несравненно больше, начиная хотя бы с того, как он выполнял свои функции.
Пол исключительно умело общался с прессой. С журналистами он держался непринужденно, ориентировался в специфике их работы, но старался не говорить лишнего и всегда преуменьшал свое влияние на меня. Он был не такой человек, чтобы выставлять себя на первый план. Журналисты относились к Полу с уважением и симпатией, а это и мне помогало в общении с ними.
Пол сознавал, что с разными людьми нужно вести себя по-разному. Он стал моим тренером, но смог бы тренировать и Андре. Он хорошо разбирался в людях, в их характере и темпераменте, знал, что именно я хочу от него услышать и как подобрать нужные слова. А это одно из главных — повторяю, главных — качеств высококлассного тренера. Пол считал, что наставник должен хорошо понимать подопечного и работать в пределах его зоны комфорта, не поддаваясь искушению перекраивать его по своим меркам, даже считая, что перемена пойдет тому на пользу. Ненавязчивая, тактичная манера Пола была выше всяких похвал.
Пол никогда не говорил много, хотя многое мог бы сказать. Он тщательно подбирал слова и ничего не усложнял. Будучи проницательным психологом, он быстро распознал, что я не настроен обсуждать мой теннис, поскольку тема игры — нечто сугубо личное. Пол понял (отчасти благодаря тому, что разделял это мнение): я не склонен придавать вещам больше значения, чем они того заслуживают.
Пока Тим Галликсон болел, Полу было непросто держаться на заднем плане — по той простой причине, что журналисты постоянно обращались к нему, а Пол не хотел, чтобы его ставили выше Тима. А когда он начал по-настоящему тренировать меня, ему, вероятно, стало еще труднее оставаться в тени (из уважения к Тиму). Пол имел собственное мнение о моей игре, но благоразумно не вступал в конфликт с наследием Тима. Он был исключительно предан — и Тиму и мне; он олицетворял собой верность.
Пол оказался прекрасным тактиком. Правда, я не разделял всецело его пристрастия к атакующему теннису, поскольку вполне полагался на свои способности универсального игрока. Пол настаивал, что я должен отдавать себе отчет, из-за чего теряю очки, — не только после, но даже во время матчей (а в пылу борьбы это очень трудно). Думаю, он считал, что такое понимание заставит меня играть более смело и агрессивно.
Тим совершил великое дело, когда надо было поставить мою игру. Пол оказался на такой же высоте, когда пришло время поединков с теми, кого я должен был побеждать. На проблемы, которые ставили перед нами разные соперники, Пол отвечал стратегическими решениями — настоящими шедеврами проницательности, замечательно точными и гениально простыми. После его предложений нередко оставалось лишь почесать в затылке и спросить себя: «А как же я сам до этого не додумался?»
Например, Пол считал, что в матчах против Андре Агасси я должен стараться как можно чаще играть ему косо под право, освобождая, таким образом, его левую часть корта. На самом деле это всегда было моим ключом к победам над Андре. Играя глубоко и косо под его форхенд, я все время как бы угрожал его бэкхенду коротким косым ударом под его левую руку. Пол также предлагал мне в начале матча всегда стараться подавать во второй квадрат сильно и под левую руку Андре. Это должно было заставить его думать о защите данного направления и открывало возможность выигрыша очка при подаче по линии. Основная задача состояла в том, чтобы помешать Андре использовать его излюбленную стратегию — оставаясь в центре корта, диктовать противнику игру мощными ударами справа.
Пол хотел, чтобы я чаще атаковал не только при счете 4:0, но и при счете 1:0, даже против Андре с его великолепными обводящими ударами. Он понимал, что атаковать игрока, хорошо владеющего обводящими ударами, при небольшом преимуществе — это большой риск, но считал, что надо заронить «зерно сомнения» в сознание Андре и заставить его думать, что я могу атаковать в любой момент. Пол постоянно возвращался к этой теме, с кем бы я ни играл, и обычно говорил: «Покажи ему, что ты Пит Сампрас и можешь атаковать, когда захочешь».
Иногда я находил известное удовольствие в том, чтобы побить соперника в его же манере — скажем, даже не выходя к сетке расправиться с любителем игры на задней линии. Порой это выводило Пола из себя, потому что в подобных случаях я сам себе создавал лишние проблемы — ввязывался в долгие обмены ударами и, случалось, проигрывал матч. Но Пол при этом ограничивался фразой: «Знаешь, ты смотрелся чертовски эффектно, когда проигрывал!»
Конечно, это звучало не так обидно, как «играл погано» — из уст моего отца, но упрек меня задевал. Я здорово выглядел... проигрывая. Суть была не в том, что я «хорошо смотрелся», а совсем в другом. Пол делал смысловой акцент на слове «проигрывал». Когда у нас только завязались отношения, я попросил Пола: «Не золоти мне пилюлю. Говори все как есть». Он так и делал, но в своей особой манере, стараясь не столько пристыдить меня, сколько заставить задуматься.
Хотя Пол и убеждал меня вести открытую, «агрессивную» игру против любого соперника, в одном он был непреклонен: я не должен стать предсказуемым игроком. Поэтому временами передо мной вставал нелегкий выбор между подачами с выходом к сетке «на автопилоте» и другими приемами, разнообразящими игру.
Пол всегда просил, чтобы я чаще использовал жесткий и довольно сложный удар слева по линии (хотя гораздо надежнее и проще играть через центр, так как в центре сетка ниже). Он считал, что в плане техники я для этого вполне подготовлен. Поскольку у меня была хорошая вторая подача, он убеждал меня и после второй подачи чаще выходить к сетке, что я обычно и делал.
Пол считал, что мои победы на травяных кортах зависят от того, как я принимаю вторые подачи. Особенно он настаивал на этом, когда речь шла о таких соперниках, как Горан Иванишевич или Ричард Крайчек. Пол твердил: «Если ты будешь хорошо принимать вторую подачу, ты его побьешь, сколько бы эйсов он ни подал. Ты его вымотаешь. Пусть Горан сделает даже три эйса подряд в гейме — не важно! Забудь об этом, играй. Не позволяй себе раскисать, просто жди эту вторую подачу. Она непременно будет, и тебе представится удобный случай».
Пол внушил мне это настолько основательно, что когда я принимал вторую подачу на Уимблдоне, у меня возникало такое чувство: «Ну вот, наконец, и она!» — словно передо мной выигрышный лотерейный билет. Короче говоря, обычно я принимал вторую подачу, и нередко — с отличными результатами. Я также поборол в себе искушение принимать ее осторожно, а значит, преодолел боязнь упустить представившуюся возможность.
Когда же была моя подача, Пол просил меня подавать изо всех сил и делать это так часто, как только можно. Думаю, он имел в виду нечто вроде мощного удара «Грин Бэй Пакерс», столь ценимого Тимом. Если на своей подаче ты ведешь 40:0, можно и проиграть очко — ничего страшного! Но Пол настоятельно убеждал меня выигрывать такие геймы всухую. Чем лучше ты подаешь, рассуждал он, тем сильнее давишь на соперника. Пол хотел, чтобы я поскорее избавился от небрежностей — двойной ошибки или неряшливого удара с лета, даже в тех случаях, когда я мог позволить себе промах. И он был прав! Когда Горан, Крайчек или Михаэль Штих легко делают на своей подаче 40:0 и затем выигрывают ее, я всегда думаю: «Да, крепкий парень. Гейм на его подаче промелькнул как молния. Постараюсь-ка и я свою не отдать!»
Мы очень редко анализировали игру потенциальных противников систематически, пункт за пунктом. Я помню лишь один случай, когда мы просматривали запись матча. Это было перед игрой с Владимиром Волчковым, совершенно неожиданно пробившимся в полуфинал Уимблдона в 2000 г. Да и сделали мы это только потому, что даже не знали, левша он или правша, не говоря уж об его игре. У нас не было никаких обязательных обсуждений стратегии. Если мне приходила в голову мысль, я озвучивал ее за ужином или после тренировки — просто высказывал и ждал, что ответит Пол. Иногда я спрашивал Пола, как, по его мнению, соперник будет играть против меня, и убеждался, что его предсказания весьма точны.
Тим Галликсон всегда требовал, чтобы я держал голову высоко и не проявлял слабости перед соперниками. Пол пошел еще дальше. Он хотел, чтобы я вел себя слегка вызывающе — ну, скажем, всем своим видом показывал: «Я Пит Сампрас, а ты кто?»
Пол утверждал, что я излишне кроток и мягок, и добавлял: «Эти ребята побаиваются тебя, и ты должен этим воспользоваться». Он был прав. Сам я никогда никого не боялся, но вместе с тем почти никогда не использовал в полной мере преимущество моей репутации или производимого мной впечатления.
Однако моя позиция в этом вопросе была двойственной. Демонстрация агрессии не в моем характере, и мне не хотелось нарочно напускать на себя подобный вид. Я не желал представать в ложном свете и считаться задирой. Более того, думал я, мне даже выгодно выглядеть несколько «поблекшим», чтобы противники нервничали, пытаясь понять, что у меня на уме. То, как шествовал по корту Борис Беккер, с присущим ему гордым и надменным видом, возможно, лишь разжигало у конкурентов желание победить. Я не хотел никого запугивать. С моей точки зрения, достаточно заставить противника нервничать. Кроме того, если я не стану изображать повелителя мира, у меня вряд ли возникнет соблазн возомнить себя таковым. Это решение было для меня принципиально важным.
К тому времени, когда Пол стал моим официальным тренером, одна из самых серьезных задач заключалась в том, чтобы не позволить хвалебным отзывам прессы закрепиться в моем сознании. Я убедил себя: на каждом турнире, неделя за неделей, я должен играть так, словно от этого зависит все. Я выходил на корт с мыслью, что еще ничего не доказано и мне только предстоит это сделать. Мой настрой приносил мне подлинное удовлетворение. Вероятно, поэтому в итоге каждый выигранный матч доставлял мне дополнительные позитивные эмоции, и я не испытывал пресыщения от побед.
Конечно, время от времени обычная профессиональная рутина утомляет или надоедает. И я просил Пола проявлять всю строгость, если он сочтет, что я снижаю требования к себе. Несколько раз за свою карьеру я переживал спады, принимался искать путь полегче. Такое бывает — иногда просто хочется «переключиться на автопилот» и отдохнуть. Пол подмечал такие моменты и приводил меня в чувство. Он действительно меня понимал, хотя порой это было непросто.
Как я уже сказал, Пол не получил заслуженного им признания. Но я-то знаю, скольким ему обязан. С ним я выиграл десять из четырнадцати победных турниров «Большого шлема». Твердой рукой Пол провел меня, пожалуй, через самые горестные и трудные эпизоды моей карьеры.
Каким бы ударом ни был для меня проигрыш в Париже, впереди по-прежнему ждал Уимблдон. Когда мы с Полом приехали в Англию через несколько дней после парижского фиаско, я как-то особенно оценил прохладный местный климат и чудесные травяные корты. Казалось, на моем внутреннем «жестком диске» все последние файлы стираются и пишутся заново. Мне нужно было прийти в себя и перестроиться после сокрушительного провала во Франции. Половина года уже миновала, а весь этот год, как и большинство других, я буду считать успешным или неудачным в зависимости от того, сумею ли выиграть турнир «Большого шлема».
В 1996 г. я сознательно пропустил все «разминочные» соревнования перед Уимблдоном, чтобы восстановить запасы выносливости и энергии.
Я весьма успешно стартовал в турнире. Лишь в первом круге уступил один сет моему собрату по Кубку Дэвиса Ричи Ренебергу, а дальше помчался на всех парах. В одной шестнадцатой финала я побил Марка Филиппуссиса в трех сетах, затем — Седрика Пьолина, уступив ему всего десять геймов.
В четвертьфинале мне достался Ричард Крайчек — поджарый, высокий голландец с сильной подачей, очень опасный на быстрых покрытиях. Он мог «выстрелить» в любой момент и выиграть любой турнир, явив собой некое «новое воплощение» Панчо Гонзалеса. С другой стороны, это был просто один из многих сильных игроков с хорошей подачей и, видимо, не имел достаточной уверенности в себе или потребности неизменно побеждать.
Когда мы только еще разминались под мрачными небесами, я почувствовал, что Ричард нервничает. Но он хорошо держался, и первые семь-восемь геймов каждый из нас брал свою подачу. С моей точки зрения все шло отлично. Я доставлял ему хлопоты на его первых подачах и очень удачно принимал вторые. Я имел брейк-пойнты, и это взбадривало меня, даже если не получалось их выиграть. Мной уже было сыграно немало подобных матчей на траве. Вся соль заключалась в том, чтобы оставаться бдительным, сосредоточенным, уверенным и знать: мой шанс впереди. Я чувствовал, я не сомневался: он близок. Это только вопрос времени.
Но не успели мы закончить сет, как полил дождь. Матч был прерван на несколько часов. Это дало моему противнику время поразмыслить и перестроиться. Когда мы вернулись на корт, передо мной стоял совсем другой игрок. У него вдруг пошли удары, особенно вторая подача. Сознательно или нет, Крайчек затягивал меня туда, где я меньше всего хотел оказаться. Моя манера действий подразумевала, что против тех соперников, которые исключительно опасны в игре у сетки, я выхожу с расчетом выигрывать их вторые подачи. Если это удается, я могу их победить. Такая стратегия успешно работала против Горана Иванишевича, Бориса и Стефана Эдберга. Но тут, когда мне стало труднее поспевать за вторыми подачами, все получалось наоборот. Если я не могу взять его подачу, то испытываю дополнительное давление. Думаю, Ричард об этом догадался, и его великолепные подачи раскрепостили его игру в целом, особенно на приеме. Именно так почти всегда и бывает.
Крайчек выиграл первый сет 7:5, взяв одну мою подачу. Это придало ему смелости, и он неожиданно начал удачно принимать мои подачи ударами слева. Да и его обводящие удары были безукоризненны. Я проиграл второй сет 6:4 и почувствовал облегчение, когда пошел мелкий дождь и стало темнеть. Я понял, что сегодня мы уже не закончим матч, а мне нужно было серьезно перестроиться.
Но вместо оптимистических мыслей: «Завтра — новый день, я приду в себя, а он наверняка утратит свой пыл», у меня внезапно возникло какое-то неприятное предчувствие. Мне не нравилось, как складывается матч, и я сознавал, что попал в очень трудное положение. В тот вечер Пол потратил как никогда много времени, пытаясь встряхнуть меня и возродить мою уверенность, — но тщетно. Хотя матч еще не завершился, ничего хорошего я уже не ждал.
Когда на следующий день мы возобновили игру, все вернулось на круги своя — Ричард продолжал бомбардировку, а я пал духом и подумал: «Да ведь то же самое я делаю на траве с другими».
Короче говоря, он меня дожал. Крайчеку — мои искренние похвалы! Он сделал свое дело. Сыграл отлично и в техническом, и в психологическом плане. Честно говоря, для меня стало некоторым утешением следить за его шествием к победе на турнире — уж если проиграть, так именно тому, кто сорвет куш. Я до сих пор не видел наш матч в записи, но, пожалуй, не прочь посмотреть. Просто любопытно взглянуть, действительно ли игра Ричарда настолько изменилась после перерыва на дождь, как я тогда считал.
Итог года на сегодняшний день был следующим: три турнира «Большого шлема» я упустил и теперь мог выиграть только один. Хотя я и не давал себе твердого обещания побеждать в память о Тиме, меня часто об этом спрашивали. Мой ответ звучал просто: проиграл я или выиграл, память все равно остается!
Открытый чемпионат Франции был «нашим» турниром, турниром Тима. Я не смог почтить память Тима победой — значит, история кончилась не так, как все ожидали. Но это не перечеркнуло волшебных моментов и эмоций, которые я пережил на «Ролан Гарросе», не повлияло ни на мои чувства к Тиму, ни на мое представление о том, как почтить его память. Когда я выиграю следующий турнир «Большого шлема», я, конечно, могу сказать что-нибудь душещипательное насчет «победы в память о Тиме». Именно это все и желают услышать. Но я не собирался идти на поводу у публики: такие слова прозвучали бы фальшиво. И я дал себе зарок их не произносить.
Летний сезон на харде, подводящий к Открытому чемпионату США, был, как всегда, спокойным и неярким. Если Открытый чемпионат кипит страстями, то предваряющие его турниры — однообразные игры в самой глубинке. Два наиболее крупных проходят в Индианаполисе и Цинциннати, но с одних соревнований на другие можно попасть в тот же день, и везде ощущается атмосфера своего рода сельской ярмарки. Когда мы приезжали в Инди или Цинци, у всех на языке была расхожая острота. Мы переглядывались, пожимали плечами и говорили: «То же самое болото, только год уже другой».
Я проиграл четвертьфинал в Цинциннати Томасу Энквисту, но зато выиграл турнир в Индианаполисе, доведя мой личный счет с Гораном до 8:6.
Отправляясь в Нью-Йорк, я довольно оптимистично оценивал свои шансы продлить до четырех лет традицию выигрывать как минимум один турнир «Большого шлема» в год. И жеребьевка оправдала мои надежды. Единственным именитым игроком, который противостоял мне до четверть-финала, был Марк Филиппуссис. Я выиграл у него вчистую. В четвертьфинале я вышел на Алекса Корретху. Он пользовался известностью прежде всего как упорный боец на грунте, но показывал неплохие результаты и на харде. Я настроился на серьезную борьбу.
Матч имел маленькую предысторию. Почти все, по крайней мере в США, заведомо были уверены, что я побью Корретху. Но в четвертьфинале я с повышенной осторожностью относился к любому сопернику и ничего не загадывал заранее. А тут еще случилось так, что я вышел на игру, недостаточно плотно подкрепившись. Помню, я съел ланч в буфете для игроков, но матч, предшествовавший нашему, непредвиденно затянулся. Было уже около четырех часов дня, когда мы наконец оказались на корте. Мне следовало перед этим съесть что-нибудь еще — булку, пару бананов или хотя бы ломоть хлеба.
День выдался очень теплый, но не изнурительно жаркий, как порой бывает на Открытом чемпионате США. Тем не менее я порядком вспотел, потому что Алекс доставлял мне много хлопот. Он втянул меня в игру на задней линии и заставил вкалывать изо всех сил.
Алекс прибег к испытанной стратегии, которую игрок оборонительного плана может успешно использовать в игре на быстром корте. Он просто подавал мне первым мячом под левую руку, чтобы я не мог выполнить прием активным атакующим ударом. После моего приема он забегал под удар справа и бил мне под удар слева, вовлекая меня в обмен ударами по диагонали. При этом он играл справа, а я — слева, что вынуждало меня оставаться на задней линии. Если бы я рискнул сыграть слева по линии в открытую правую часть его корта (напоминаю — он стоял далеко на левой стороне), а удар получился бы недостаточно сильным, то он успел бы подбежать к нему и послать выигрышный кросс справа своим коронным ударом. Моя атака с этой позиции дала бы ему хорошие шансы меня обвести.
Игрок оборонительного плана, подобный Корретхе, хорошо знает, как навязать сопернику свой план игры. Именно об этом настойчиво предупреждал меня Пол: «Вот так эти ребята любят играть — это для них единственный шанс победить игроков вроде тебя, Беккера или Эдберга. Поэтому ты должен сломать их стратегию. Тебе нужно атаковать или наносить мощные удары слева по линии. Ты должен их вытеснить из их зоны комфорта, не то они вытеснят тебя из твоей».
Но в игре с Корретхой я проявил бессмысленное упрямство и не последовал разумному совету Пола. Фактически я подыгрывал Алексу и понимал это, но все же стоял на своем, полный решимости победить соперника в его собственной манере игры.
Долгое время я довольствовался обменом ударами и ждал удобного случая, чтобы нанести мощный удар справа. Я вел 2:1 по сетам, но в начале четвертого сета начал ощущать беспокойство. Мне очень не нравилось, как разыгрываются очки, а Алекс и не думал отступать. Я тратил уйму сил, чтобы добраться до сетки и выиграть очко, но все больше уставал и впал в легкую панику.
Алекс строил игру по своему сценарию, и это меня тревожило — глупо было так долго подлаживаться под него. Меня словно загипнотизировали. Я понимал: нужно что-то менять. Но к тому времени, испытывая постоянное давление со стороны соперника, я просто изнемогал и в состоянии стресса плохо соображал, как выйти из ритма, который сам и поддерживал. А когда в голове пусто, единственное, на что можно опереться, — это воля и характер.
В середине четвертого сета у меня начались проблемы с ногами: они отяжелели и почти целиком утратили обычную крепость. Когда такое происходит, это неизбежно сказывается на игре. Уже нельзя подпрыгнуть высоко на подаче, не получается первый быстрый шаг навстречу мячу. Невозможно эффективно перемещаться из угла в угол или быстро менять направление. А когда соперник замечает ваше состояние, на него это действует как допинг, даже если он тоже устал. Ситуация для меня сложилась такая: надо спасать матч — чего бы это ни стоило.
После трех сетов, закончившихся со счетом 7:5, Корретха выиграл четвертый 6:4. Пока мы выясняли отношения в первых геймах пятого сета, я зачем-то начал в перерывах пить «коку». Мне очень хотелось поддержать себя чем-нибудь тонизирующим, с небольшим количеством сахара и кофеина, и преодолеть соблазн я не сумел.
В глубине души я отчетливо сознавал, что это мой последний шанс выиграть турнир «Большого шлема» в 1996 г., и он от меня ускользает. Подобное самовнушение лишь ухудшало ситуацию. Я был разбит, подавлен, опустошен, но все еще способен передвигать ноги — значит, мог продолжать борьбу.
В конце пятого сета я словно наткнулся на стену и почувствовал: это конец! Только где-то в подсознании у меня затаилась мысль, что шанс выиграть все-таки есть — единственный шанс на спасение. Ведь мы на Открытом чемпионате США, а значит, в пятом сете предусмотрен тай-брейк. Я твердил себе: «Нужно держаться и просто дотянуть до тай-брейка — матч не будет длиться вечно».
Я продержался и дотянул до тай-брейка. Но тут у меня закружилась голова, и силуэты предметов начали слегка расплываться. Тогда я сказал себе: «Что бы ни произошло дальше, я справлюсь — семи очков вполне может хватить. Это всего лишь тай-брейк, я их сыграл миллион, и ни один не продолжался до бесконечности».
При счете 1:1 на тай-брейке все болезненные ощущения, утомление и нервное опустошение навалились на меня, и я обессилел. Спину свело судорогой, ноги были словно деревянные и не повиновались. Помню, я выиграл трудное очко и внезапно до меня дошло: «Господи, да ведь меня же мутит и вот-вот вырвет — на глазах у распроклятых зрителей!»
Позывы нарастали, и я ничего не мог поделать. Шатаясь, я отошел за заднюю линию, и тут из меня хлынула кока вперемешку со всем, что еще оставалось у меня в желудке (к счастью, не слишком много). Но когда это случилось, мне уже было все равно. Я полностью утратил ощущение реальности и совершенно не думал о том, как выгляжу и что люди скажут. Я очутился в крошечном мирке своей боли, но, как сильна она ни была, я не собирался прерывать матч.
Если случается такой приступ рвоты — а со мной это бывало на тренировках, — значит, человек довел себя до полного изнеможения, до точки, когда быстро восстановиться нельзя. Но я-то должен играть дальше, мне нужно еще несколько очков. Я шатался, окружающие предметы расплывались, все тело болело. Помню, я выиграл еще одно трудное очко, а потом мне потребовалось два розыгрыша, чтобы прийти в себя. Остатков моего сознания хватало лишь на то, чтобы держать в уме одну-две тактические идеи: нужно вложить остаток сил в подачу и если будет шанс — ударить справа и уповать на везение.
Мы доковыляли до счета 6:6 на тай-брейке, и я подавал. Настал решающий момент. Первую подачу я сделал сильно, но промахнулся. Вторая подача получилась очень косая, под правую руку, и здесь удача мне не изменила: Алекс ожидал, что я подам по линии, и отбить ее не сумел. Этот эйс привел меня к матчболу.
К этому времени стадион уже взбудоражился сверх меры. Люди висели на перилах, лезли на корт, поддерживали меня криками. Тогда я не знал, что в США и, вероятно, еще в некоторых странах, где матч транслировался по телевидению, все замерло: зрители были заворожены развернувшейся на корте драмой.
И тут Алекс сломался. Он совершил непростительную в тех обстоятельствах вещь — дважды ошибся при подаче на матчболе. Я выиграл матч без каких-либо дополнительных усилий, на которые, скорее всего, был уже не способен.
С корта я ушел полностью вымотанный, обезвоженный, не соображая, что происходит, и смутно подозревая, что выставил себя на посмешище. Я смог дотащиться только до медицинского кабинета в цокольном этаже арены имени Луи Армстронга — и рухнул. Мне тут же поставили капельницу. Пол принес мои вещи из раздевалки, и когда мы, наконец, открыли дверь, чтобы выйти из кабинета, я увидел море людей — журналистов, толпившихся у порога.
Но в тот день мне даже не потребовалось с ними говорить — они все написали сами, и реляция оказалась более или менее правдивой. Матч с Коретхой остался у всех в памяти как торжество бойца, как мой момент истины. И я был счастлив! Другие теннисисты выигрывали похожие матчи, но мало кому это удавалось сделать в столь непредсказуемых, критических обстоятельствах. Если бы тот же матч с Алексом игрался, например, во втором круге в Монте-Карло, а не на Открытом чемпионате США, не думаю, что он привлек бы такое внимание. В лучшем случае американские газеты напечатали бы о нем мелким шрифтом в спортивных сводках.
Но это случилось в четвертьфинале Открытого чемпионата США, на турнире «Большого шлема», в моей родной стране, в прайм-тайм, сразу после Дня Труда, когда все возвращаются из отпусков, под пристальным взглядом международной прессы и телезрителей всех стран. Поэтому матч сделался знаменательным событием, которое наблюдал и комментировал весь теннисный мир.
Нью-йоркские болельщики всегда являлись для меня крепким орешком. Не уверен, что они все до единого восторгались моей игрой или мною лично. Они привыкли к ярким, заносчивым шоуменам, которые эффектно соперничали друг с другом, но отнюдь не всегда демонстрировали строгую, классическую манеру игры. Трудно, конечно, равняться с такой парочкой, как Джимми Коннорс и Джон Макинрой. На моей стороне — простота и естественность. Я к тому времени уже выиграл полдюжины турниров «Большого шлема», но не хотел ни красочных шоу, ни громких фанфар. Ныо-йоркцы понятия не имели о моем самообладании, не сознавали, до какой степени я был бойцом. И, в отличие от Коннорса, я не особо распространялся насчет того, что якобы весь выложился ради публики. Скептичные нью-йоркцы никак не могли решить, что же им больше по вкусу — колоритное зрелище или серьезная игра в теннис. Мой поединок с Корретхой, кажется, окончательно развеял их сомнения.
Затем я выиграл еще две встречи и в итоге победил на Открытом чемпионате США 1996 г. — моем восьмом турнире «Большого шлема».
Однако меня очень беспокоило то, как я уставал на корте, насколько слабым и больным чувствовал себя в последнее время. Я вспомнил о язве: ведь она была у меня в начале карьеры, а я и не подозревал! Возможно, думал я, у меня еще что-нибудь не в порядке. Или это психологическая проблема, связанная со стрессом, в котором я постоянно находился, решив достать луну с теннисных небес?
Я проделал непростой путь к Открытому чемпионату США и выиграл его, даже не задумываясь, сколько у меня было перед этим побед и поражений. В прошлые годы я поднял свою планку очень высоко и вовсе не собирался отступать, напротив — хотел достигнуть большего. Может, я просто слегка одержимый и утратил ощущение реальности? Я гнал себя все выше и выше, не задумываясь о неминуемом падении, которое когда-нибудь произойдет. Но я ничего не мог с собой поделать.
Я твердо решил стать первой ракеткой мира четвертый год подряд, не дотянув лишь один год до пятилетнего рекорда Джимми Коннорса. Мне очень хотелось его превзойти, но я понимал, что (в отличие, скажем, от побед на Уимблдоне или на Кубке Дэвиса) это потребует от меня непрерывной напряженной борьбы в течение двух ближайших лет. Эти два года следовало прежде всего посвятить тому, чтобы сыграть в достаточном количестве турниров и не выбыть из гонки.
Я все обсудил с Полом и дал понять, чего именно желаю добиться. Мы решили, что мне необходимо взять паузу и проанализировать психологический и физический подходы к игре. График моих соревнований надо слегка сократить, но при этом важно не растерять внутренний настрой и присущую мне энергию. Я должен выполнить поставленную задачу, но без чрезмерных нагрузок, поскольку я их попросту не выдержу.
Можно ли примирить столь противоречивые требования? Ответа у нас не было, но мы оба считали, что первым делом следует проверить мое физическое состояние. А где-то на задворках моего сознания мелькало слово, которого я слегка побаивался и без нужды произносить не хотел: «талассемия».
Как я уже упоминал, талассемия — это мягкая форма анемии, распространенная у людей средиземноморского происхождения. Она вызывает утомление, особенно в жару, и мне неоднократно приходилось пересиливать вялость и апатию в слишком знойные дни, в том числе и в ходе ключевого для меня победного матча на Уимблдоне.
Но, право же, никому не хочется отправиться к врачу и узнать, что с вами что-то не в порядке и как раз в этом причина упадка ваших сил. Я знал, что талассемия встречалась в нашем семействе. Она была у моей матери Джорджии и у сестры Стеллы, а вот по мужской линии пока не наблюдалась. Поэтому я предпочитал не думать, что корень зла именно в ней, но после матча с Корретхой эта мысль все же возникла.
Анализы показали, что у меня в крови эритроцитов гораздо меньше нормы — явное свидетельство, что здесь и кроется причина моего недомогания. Серьезной опасности это не представляло, но, безусловно, могло влиять на мою игру. Правда, дело было легко поправить — применять средства, повышающие гемоглобин, есть побольше мяса, яиц и прочих продуктов, богатых протеинами.
Наверное, все это так и осталось бы одной из моих личных проблем, если бы не Том Теббатт — мастер журналистских расследований и знаток тенниса из Торонто. В скромном журнале «Tennis Week», выходящем в Нью-Йорке дважды в месяц, он опубликовал статью, где посредством длинного ряда умозаключений пришел к выводу, что я болен... талассемией. Не могу не отдать должное Тому — он профессионально выполнил свою работу. Я был слегка раздражен, но статья произвела на меня впечатление. Каким-то образом Теббатт проведал о моих проблемах, начал копать, нашел врача и других специалистов, которые подтвердили, что талассемия вполне могла быть причиной моего срыва в матче с Корретхой. Затем он просто сопоставил факты и сумел меня «уличить».
Насколько я помню, Том не давал мне свой материал на согласование перед публикацией, но это, пожалуй, к лучшему. Я бы все равно начал отпираться, что и сделал после выхода журнала. Чувствовал я себя неловко. Откровенная ложь мне всегда претила, но я не был готов признать, что у меня проблемы со здоровьем. Я вовсе не хотел, чтобы соперники сочли информацию достоверной и обратили ее себе на пользу (в плане игрового комфорта или мотивации) в будущих матчах со мной. Первым, кому я в конце концов доверился, стал Питер Бодо — мой соавтор по этой книге. Мы коснулись данной темы в интервью, которое подготовили для журнала «Tennis» в сентябре 2000 г.
Конец сезона «Большого шлема» 1996 г. был богат событиями, но этот год запомнился еще одним ярким, заключительным эпизодом — моим матчем с Борисом Беккером в финале завершающего год Чемпионата АТП.
К тому времени нас с Борисом связывало многолетнее соперничество и глубокое взаимное уважение. Теперь мне предстояло играть с ним на крытых кортах немецкого Ганновера, в серьезном матче, перед местными зрителями, обожавшими Бориса. Перечисленные факторы должны были воодушевить его, и я это понимал. Мы играли в очень похожий теннис, и хотя большинство приемов выходили у меня чуть лучше, я понимал, что если Борис поймает кураж на домашней почве, он может меня «вынести».
Вечером в день нашего матча атмосфера стадиона в Ганновере была наэлектризована. На улице стоял жуткий холод, но внутри, на арене, сияли огни, там в тепле сидели болельщики, сгорающие от нетерпения.
Стадион удивил меня необычной организацией выхода игроков на корт. Вместо того чтобы появиться на площадке из туннеля, как это устроено на большинстве стадионов, мы спустились на корт с уровня на высоте улицы (он являлся верхней частью арены), причем по тому же проходу, что и обладатели билетов на фиксированные хорошие места.
К тому времени арену затемнили, и свет был направлен только на нас. Мы с Борисом прошли весь длинный путь на корт под крики болельщиков с обеих сторон прохода.
Шум стоял оглушительный. Этот момент произвел на меня яркое впечатление своей эмоциональной насыщенностью. Именно так, подумал я, два боксера-тяжеловеса шествуют сквозь толпу, чтобы выйти на ринг для решающей схватки. Сверкали вспышки, люди напирали со всех сторон.
С самого начала Борис хорошо принимал мои подачи — этот фактор очень важен для него. Он сам подавал мощно и остро. Я знал, что вечер окажется долгим и трудным. Но я тоже мощно подавал, и если быстрый ковер корта идеально подходил для Бориса (вдобавок в Германии), то и меня он вполне устраивал.
Борис выиграл первый сет, взяв мою подачу. Чудом избежав всех опасностей, я выиграл следующие два сета, но только на тай-брейках. Бориса это, вероятно, расстроило: хоть я и не взял ни одной его подачи, а он взял мою, тем не менее он проигрывал по сетам 1:2.
С другой стороны, мое преимущество по сетам не имело решающего значения. «Смогу ли я все же взять его подачу? — думал я. — Вдруг мне перестанет везти на тай-брейках?» В четвертом сете я удачно использовал несколько выгодных моментов и уже чувствовал — вот она, победа, у меня в кармане! Я хорошо принимал подачи Бориса и удачно разводил мячи по углам корта. Но Борис не сдавался и продолжал упорно держать свою подачу на всем пути к тай-брейку в четвертом сете. А когда он выиграл его и сделал неизбежным пятый сет, стадион взорвался как вулкан, извергая низкий гортанный рев: «Бо-рис, Бо-рис, Бо-рис!..»
В пятом, решающем, сете ситуация теоретически была мне ясна. Я должен наконец выиграть его подачу — всего одну! При счете 4:4 удача улыбнулась мне — я заработал брейк-пойнт. Затем Борис сильно подал мне под левую руку, но я легко принял его подачу длинным ударом по линии — победный удар и мой первый брейк. Насколько это окрылило меня, настолько подавило Бориса. Когда я получил матчбол в следующем гейме, мы разыгрывали очко так же долго, как с Андре в памятном финале Открытого чемпионата США 1995 г. Но вот Борис ошибся при ударе слева, и все — как тогда — было кончено.
Мы обнялись у сетки и обменялись комплиментами. Легкие у нас горели, мы задыхались. В физическом плане это был для меня один из самых изнурительных, выматывающих матчей. Но таков уж Борис — он всегда буквально колошматит соперника, и мало кто из игроков способен выдержать его агрессивную манеру игры.
Немецкие болельщики произвели на меня очень хорошее впечатление. Думаю, матч им понравился. Они увидели двух великих игроков, задававших тон в 1990-е годы, и силовой теннис в их исполнении — на очень высоком уровне и в прекрасной атмосфере. Они стали свидетелями драматичного финала — пусть встреча и завершилась иначе, нежели им хотелось.
Несколько лет спустя я посмотрел этот матч в записи и убедился, что он действительно так же хорош и ярок, как мне тогда запомнилось. Это было героическое сражение бескомпромиссных и смелых бойцов, осененное духом спортивного мастерства и — мне кажется — подлинного уважения к игре. То был взлет моей карьеры. До сих пор в Германии и в Соединенных Штатах меня расспрашивают об этой встрече, упоминают о ней в беседах со мной. Наверное, тот матч был максимально близок к идеалу — не столько в плане техники, сколько в смысле постижения теннисного «момента истины».
После матча я позволил себе прибегнуть к «спецобслуживанию»: мы с Полом Аннаконом из Ганновера чартерным рейсом долетели до Лондона, а затем на «Конкорде» — до аэропорта имени Кеннеди. Тогда у меня был авиационный таймшер — персональный самолет ждал меня в Нью-Йорке и доставил прямо в Тампу. Хорошо попасть домой быстро и с удобствами — на это и денег не жалко!
Глава 8
Уимблдон - это навсегда!
1997-1998
Сезон 1997 г. я начал с победы на Открытом чемпионате Австралии, что стало для меня весьма приятным событием, учитывая мое неоднозначное отношение к этому турниру. Я очень гордился своей победой по нескольким причинам.
В одной шестнадцатой финала я взял верх над Домиником Хрбаты в пятисетовой битве, выиграв последний сет 6:4. Во время матча температура поверхности корта достигала 60 градусов. (Сейчас, когда ввели понятие «чрезмерной жары», матч обязательно прекратили бы или закрыли крышу арены имени Рода Лейвера.) Поэтому — если вспомнить, что случилось всего несколько месяцев назад на Открытом чемпионате США в моем матче с Алексом Корретхой, — я был рад, что прошел тест на выносливость в адском пекле Австралии.
Обрадовало меня и еще одно обстоятельство. Австралийский чемпионат проводится на харде, но в 1997 г. там задавали тон мастера грунта. После Хрбаты на пути к титулу я победил последовательно Альберто Косту, Томаса Мустера и Карлоса Мойю, каждый из которых уже выиграл (или выиграет впоследствии) «Ролан Гаррос». Это давало мне надежду: быть может, моя участь на «Ролан Гарросе» — единственном турнире «Большого шлема», где успех ускользал от меня, — пока не предрешена.
Вернувшись в Штаты после успешного выступления в Австралии, я выиграл еще два турнира, и, таким образом, у меня сложилась неплохая победная серия. Правда, затем я проиграл в первом же круге в Индиан-Уэллс.
На этом турнире, как и на Открытом чемпионате Австралии, погодные условия были далеки от идеальных. Хотя турнир в Индиан-Уэллс в географическом отношении был для меня как бы «домашним» и я несколько раз выигрывал его, мне не нравилось характерное для южнокалифорнийской пустыни сочетание ветра, сухого горячего воздуха и, вследствие этого, очень жестких мячей. У меня там всегда возникало ощущение, что обстановка давит на меня, мешая контролировать игру. Я предпочитал играть в Майами, где воздух от большой влажности был плотнее; там я чувствовал себя гораздо увереннее.
В Европу я отправился в неплохом настроении, однако не сумел выиграть ни одного матча в трех турнирах, предшествующих Открытому чемпионату Франции.
В значительной степени это связано с неожиданным и крайне неприятным событием. Когда я находился в Риме, мне позвонила сестра Стелла и сообщила новости, которые повергли меня в ужас и изумление. Пит Фишер, человек, контролировавший все мое развитие в детские годы, арестован и обвинен в домогательствах по отношению к несовершеннолетним. С обвинениями выступил один из его бывших пациентов (Пит, напомню, работал эндокринологом в Kaiser Permanente и, кроме того, в качестве педиатра специализировался на каких-то подростковых проблемах).
Эта новость выбила у меня почву из-под ног. За короткое время я потерял Витаса Герулайтиса и Тима Галликсона, а теперь несчастье с моим первым тренером. Обвинение звучало омерзительно; я не знал, что и думать. Неужели это правда? Терзаемый невеселыми мыслями, я не выиграл ни одного матча на грунте до тех пор, пока, наконец, не продержался два круга на «Ролан Гарросе», после чего вновь проиграл — Магнусу Норману.
Дело Пита Фишера не выходило у меня из головы. Пит вел холостяцкую жизнь, но у него всегда были подружки, о чем он сам нередко упоминал. Незадолго до ареста он как раз собрался жениться. Ничто в манерах или привычках Пита не свидетельствовало о каких-то отклонениях от нормы. Он был своим человеком среди спортсменов, отличался умом и трудолюбием, вел размеренную, вполне добропорядочную жизнь. На моей памяти Пит ни словом, ни делом не давал повода заподозрить, что он не тот, кем желает казаться. Конечно, он был самонадеян, но ведь речь не об этом.
В детстве мы с братом Гасом проводили немало времени дома у Пита, и я ни разу не заметил ничего необычного в его поведении. Но теперь, когда я размышлял о случившемся и перебирал детские воспоминания, кое-какие сомнения у меня возникли. Пита вечно окружали мальчики — на работе, в Клубе Крамера, дома. Время от времени он устраивал лыжные походы на Мамонтову гору. Я ходил в один такой поход. В группе были только мальчики — правда, разного возраста, в том числе почти юноши, вполне способные защитить себя от сексуальных домогательств.
Мои родители доверяли Питу, и ничто не омрачало наших отношений, пока мы не расстались из-за его непомерных финансовых претензий. Не подлежит сомнению — ко мне Пит всегда относился по-особенному, выделял среди остальных ребят и поэтому, вероятно, вдвойне старался держать себя в руках. Нельзя сбрасывать со счетов и моего отца. Он, правда, не разбирался в теннисе, но зато обладал решительностью и здравым смыслом, и Фишер изрядно бы рисковал, позволив себе что-либо неподобающее.
Когда Фишера арестовали, он уже давно исчез из моей жизни. Я не чувствовал себя обязанным звонить ему, не знал, захочу ли с ним увидеться по возвращении из Европы. А вот мой отец регулярно говорил с Питом и подбадривал его. Думаю, он это делал исключительно из благодарности за помощь, которую Пит оказал нашей семье в формировании моего теннисного будущего. Тут отец действительно отдавал ему должное. В свою очередь, и Пит обратился за поддержкой именно к нам, когда разразился скандал. Он категорически отрицал свою вину, и отец тоже считал его невиновным, пока не будет доказано обратное.
Когда я вернулся в Штаты, домашние сообщили, что Фишер просит меня о встрече, желая дать объяснения. Я неохотно согласился и предложил ланч в ресторане сети Mimi’s в Торренсе. Беседа оказалась не из приятных. Я не хотел верить обвинениям, но вместе с тем не имел мужества взглянуть Питу в глаза и потребовать правды. Он утверждал, что все обвинения ложны, но выглядел при этом немного странно.
Думаю, останься Пит близким мне человеком, я попытался бы основательнее убедиться в его невиновности. Но теперь воспоминания о прошлом побуждали меня его поддеживать. Я заверил Пита в своей дружбе и даже одолжил ему некоторую сумму (которую он впоследствии вернул). Мне рассказали, что перед судом Пит несколько раз приходил к нам ужинать. Я тогда опять уехал на соревнования, и вся тяжесть общения с ним легла на мое семейство. К счастью, пресса не раздула этот скандал, и, слава богу, я не имел к нему никакого отношения, да и всякое общение с Фишером прекратил много лет назад.
Ясно было одно: жизнь Пита пошла под откос, у него почти не осталось друзей. Мои родители, брат и сестры предпочитали не упоминать об этом деле. Они молчаливо поддерживали Пита в трудное время перед судом, когда он пребывал в состоянии мучительной неизвестности. Начался суд, и отец несколько дней ходил на заседания. Я восхищался им — ведь ничто не мешало ему забыть о Фишере и предоставить его собственной участи.
Судебный процесс завершился тем, что Пит Фишер согласился признать себя виновным. Это снижало срок заключения до шести лет, из которых осужденный отбывал четыре, а потом мог рассчитывать на досрочное освобождение. Моему отцу Пит сказал, что выбрал этот вариант, поскольку не хотел вверять свою судьбу «двенадцати людям из Норуолка» (пригород Лос-Анджелеса, где заседала коллегия присяжных). Наверное, Фишер имел в виду, что не надеется на справедливый приговор в столь консервативном районе.
Это был довольно странный маневр для человека, заявлявшего о своей невиновности и так много терявшего в случае осуждения. Ведь помимо тюремных невзгод его ожидали отзыв лицензии на медицинскую практику и перспектива гражданских исков. Признание вины разрушало его жизнь не менее основательно, чем сам обвинительный приговор. Разница состояла лишь в длительности срока заключения.
Перед тем как отправиться в тюрьму, Фишер ненадолго заглянул к нам. Поначалу он еще упоминал о невесте, но вскоре бросил. О тюремном житье-бытье Пит рассуждал едва ли не с воодушевлением. Он собирался там учить французский и расширять горизонты своих познаний. А мы тем временем думали: «Пит, что бы ты ни говорил, тебя ждет тюрьма. Твоя жизнь загублена. Будущее ничего хорошего не сулит. Как же ты довел себя до такого?»
Потом Фишер начал писать мне из тюрьмы. Я с трудом одолевал его пространные, сумбурные послания. Нередко письма приходили после трансляции матчей с моим участием. Я прочитывал их либо через одно, либо по частям. Пит превозносил меня — утверждал, что скоро я всех заставлю позабыть, кто такой Род Лейвер... то есть писал то же самое, что некогда говорил...
Европейский сезон на грунте закончился полным провалом, скандал с Питом Фишером принес неприятные переживания, а швед Йонас Бьоркман выбил меня из крупного турнира «Куинс Клаб». Но Уимблдон... Уимблдон — совсем другое дело. Он стал моим утешением, в чем я тогда особенно нуждался.
Первых трех противников я победил без особого труда. Я уступал в среднем чуть больше десяти геймов за пятисетовый матч — то есть выигрывал у среднестатистического конкурента но геймам в пропорции три к одному. Хотя трава причиняла мне неудобства в прошлом и еще причинит в будущем, в 1997 г. игра пошла на удивление легко. Настолько легко, что когда в четвертьфинале я победил моего старого соперника, кумира Уимблдона Бориса Беккера, он после традиционного рукопожатия у сетки сказал мне поразительную вещь. Мол, это его последний матч на Уимблдоне, так как он принял решение уйти.
Я был ошеломлен! Я и не подозревал о подобных намерениях Бориса, хотя объективно период его высшего расцвета уже миновал. Потом я понял: это просто эмоциональный срыв. Я настолько подавил Беккера, что у него возникла мысль: «А нужно ли мне все это?» В 1998 г. я с радостью убедился, что он взял свои слова обратно и вновь приехал на Уимблдон.
Уимблдон — волшебное место, освященное множеством вековых традиций и ритуалов. Но больше всего меня привлекала простота тенниса на траве. Это игра непринужденная, естественная. В ней нет ничего лишнего, она ведется на чистой, красивой, ухоженной сцене. Мои ощущения не изменились даже после того, как дебаты о «наводящем тоску травяном теннисе» привели к замедлению игры на Уимблдоне (там сменили мячи и состав травы). Хотя этот процесс пришелся на вторую половину моей карьеры, для меня почти ничего не изменилось. С начала и до конца моих выступлений на Уимблдоне я показывал один и тот же атакующий теннис, основанный на сильной подаче.
Мне нравится, что травяной теннис основан на сильной подаче (по крайней мере, так было раньше). Я подчеркиваю это отнюдь не потому, что таков мой личный вкус. Исторически основу игры всегда составляла подача — самый важный удар в теннисе. Кроме того, это удар, который вы полностью контролируете, поскольку при его выполнении мяч не движется. Вся игра в Уимблдоне, включая тактику набора очков, построена на постулате, что обладание подачей дает немалое преимущество.
Не важно, насколько хорош у вас удар слева или справа. Есть только один способ выиграть сет или матч — взять больше подач соперника, чем он возьмет ваших. Эго по-прежнему верно и в нынешнюю эпоху тай-брейков. Ведь выиграть тай-брейк можно тоже лишь одним способом: сделать по меньшей мере один «минибрейк» — то есть выиграть как минимум на очко больше на подаче соперника, чем он возьмет на вашей.
Конечно, досадно, что в нашу эпоху более медленных кортов отличная подача не столь важна, как в прошлом, а нынешние тренеры и игроки не задумываются о том, в какой мере теннисист с великолепной подачей может построить всю игру на этом ударе.
По-моему, матч с большим количеством взятых геймов на подаче скучен не менее, чем тот, где не взято ни одного. Потому что настоящий классный матч должен иметь лишь считанное количество решающих моментов (как ни заманчиво получать все прочие очки) — точно так же, как в хорошей книге или фильме должно быть лишь несколько ключевых сцен или основных поворотов сюжета.
Теннис на траве не представлял для меня особых сложностей, но требовал изрядного расхода умственной энергии. Я подавал, выходил к сетке, возвращался, выжидал подходящий момент, стараясь сохранять концентрацию и настрой. Я поддерживал в себе готовность к тому моменту, когда передо мной мелькнет хотя бы тень шанса.
В исполнении соперников, предпочитающих силовую манеру игры, теннис на траве часто сравнивают с игрой в кости. В 1991 г. на Уимблдоне в полуфинале между Михаэлем Штихом и Стефаном Эдбергом была взята только одна подача за всю встречу, причем соперник, проигравший свою подачу (а именно Штих), выиграл матч! Счет был 4:6, 7:6, 7:6, 7:6. Но выигрыш здесь не имеет ничего общего с удачным броском костей. Травяной теннис моей эпохи скорее напоминал дуэль на пистолетах — непременный атрибут старых вестернов: либо ты ловишь момент и успеваешь раньше, либо пропускаешь мяч.
На траве ситуация порой меняется мгновенно. Ни на каких турнирах решающие очки не разыгрываются так, как на Уимблдоне. Здесь иногда достаточно двух-трех взмахов ракетки, чтобы выиграть сет. На Уимблдоне исход матча может решить твоя небрежная вторая подача, что позволит противнику сделать брейк уже в начале первого или второго сета. За ошибки на траве платишь слишком дорого. Брейки здесь редки и ценятся на вес золота, и меня просто бросало в жар, когда я терял такую возможность, — до слез обидно упустить шанс заработать решающее очко.
Порой говорят, что «проблема» тенниса на траве в те годы, когда я царил на Уимблдоне, состояла в том, что игрок с убойной подачей мог «вынести с корта» любого соперника. Но на самом деле победу на Уимблдоне никогда не могла обеспечить только мощная подача. Многие игроки, обладавшие ею, не выигрывали Уимблдон, а те, которые выигрывали, побеждали и на других турнирах «Большого шлема». Горан Иванишевич мог забить меня подачами на любых кортах — с ним страшно было играть. Но победу на Уимблдоне он одержал лишь однажды — и уже на закате карьеры. Роско Таннер, обладатель одной из самых смертельных подач Открытой эры, один-единственный раз дошел до финала Уимблдона и проиграл Бьорну Боргу.
В целом Уимблдон, как отдельно взятый турнир, породил меньше чудес, нежели грунт «Ролан Гарроса», нейтрализующий силу подачи и теоретически создающий «равные условия для всех». Суть в том, что высокие титулы почти всегда достаются великим игрокам. Они сильнее технически (у каждого есть набор коронных ударов), сильнее духом и умом, они умеют проложить путь к победе.
На Уимблдоне 1997 г. Тодд Вудбридж совершил в одиночном разряде удивительный рывок и дошел до полуфинала. Один из выдающихся игроков в парном разряде всех времен, Тодд все никак не мог добиться таких же успехов в одиночном. Он был исключительно техничен, искусен, ловок, но не обладал достаточной мощью и скоростью (ведь в парном разряде ему приходилось заботиться лишь о половине корта). Слабые стороны Тодда в точности совпадали с моими сильными сторонами, и у меня не возникло с ним проблем.
В финале мне опять пришлось иметь дело с Седриком Пьолином. Я сочувствовал Седрику. Хотя он и имел опыт выступления против меня в финале турнира «Большого шлема» (на Открытом чемпионате США), сейчас случай был особый. Ни один турнир не сравнится с Уимблдоном. Зато Седрик, вероятно, не ощущал напряжения — я ведь считался безусловным фаворитом. Единственный его шанс заключался в том, чтобы выйти на корт и полностью выложиться, ведь терять нечего. Но легче сказать, чем сделать.
И вновь, как и в нашем финальном матче на Открытом чемпионате США, Седрик выглядел каким-то ошарашенным. Я выиграл первые два сета, уступив всего шесть геймов. Я нащупал свою лучшую игру и ощущал контакт со своим Даром. Казалось, с начала матча прошло всего несколько минут, а я уже подаю при счете 5:4 в третьем сете. Я поймал себя на мысли: «Что-то больно легко все идет». Не подумайте, будто я не испытывал к сопернику должного уважения. Просто судьба матча зависела только от меня, и шел он гораздо быстрее и легче, нежели я ожидал.
Потом у меня одна за другой мелькнули еще две мысли: «Да ведь то, что я делаю, просто здорово. Вот он, Уимблдон. Потрясающе...» И тут же меня охватила тревога, я запаниковал и подумал: «А вправду ли все так легко, как кажется? Может, я чего-то не понимаю? Не обернется ли это для меня какой-нибудь шуткой или розыгрышем?» В действительности на уровне подсознания это напоминало прекрасный сон, где ощущаешь себя всемогущим, но вместе с тем знаешь, что вот-вот проснешься — и чудесная греза развеется.
Но я не проснулся. Я достиг финишной черты за три сета, отдав в сумме десять геймов. Это стало закономерным завершением Уимблдонского турнира 1997 г., который оказался для меня одним из самых спокойных и ничем не примечательных. На этот раз я не вел героических баталий с моими главными конкурентами. Однако именно на Уимблдоне-1997 я продемонстрировал, наверное, самый лучший теннис. Я полностью контролировал свою игру и максимально использовал ее преимущества в течение самого длительного непрерывного периода. Даже статистика говорит о многом: я подавал на протяжении 118-ти геймов и в 116-ти из них удержал подачу.
Прошло несколько месяцев, и у меня, казалось, были основания рассчитывать на победу в Открытом чемпионате США. Я демонстрировал самую лучшую игру за всю свою карьеру, и вдобавок жеребьевка на последнем в году турнире «Большого шлема» оказалась для меня очень удачной. В первых кругах я проложил себе путь сквозь трех не слишком грозных соперников — Тодда Ларкэма, Патрика Баура и Алекса Радулеску, потеряв всего тридцать геймов (почти столько же, сколько на недавнем Уимблдоне), а в четвертом круге вышел на проворного и цепкого чешского игрока Петра Корду.
В день нашей игры то и дело заряжал дождь, и с учетом погодных условий матч предвещал множество сюрпризов. Я начал недурно — выиграл первый сет на тай-брейке, однако затем проиграл два следующих, но вовремя ожил, чтобы выиграть четвертый сет 6:3. Когда в пятом я повел 3:1, все решили (если честно, и я тоже), что перелом в матче наступил. Но тут следует отдать должное Корде. Он держался, атаковал, наносил неожиданные и порой великолепные победные удары именно в те моменты, когда я имел шансы увеличить свое преимущество. Он остановил меня, довел дело до тай-брейка, выиграл его 7:3, а вместе с ним и встречу.
Это был один из характерных для Корды непредсказуемых матчей. И, к сожалению, он происходил в тот день, когда мое нервное состояние оставляло желать лучшего — главным образом из-за хмурой, унылой погоды и раздражающих перерывов на дождь.
В этом году я уже выиграл два турнира «Большого шлема», а титул чемпиона США сделал бы 1997-й моим самым удачным годом. Что всего обиднее, Корда не вышел на следующий матч — как он заявил, из-за болезни. А я, подобно большинству ведущих игроков, считал, что если уж проигрывать, так будущему победителю турнира.
В 1998 г. Корде удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии — единственный титул чемпиона «Большого шлема» в его карьере. Но вскоре он был уличен в использовании стимулирующих препаратов, оштрафован и дисквалифицирован (в мое время — редчайший случай с теннисистом достаточно высокого уровня).
Злоупотребление стероидами стало болезненной темой в теннисе лишь много лет спустя, и я не берусь компетентно судить об этом. Тем не менее я убежден, что сейчас 99 процентов игроков не применяют запрещенные препараты, как не применяли их и в мои времена. Большинству игроков просто нет смысла прибегать к допингу. Теннисисты, которые дорастают до уровня крупных турниров, формируются в информационно-насыщенной среде, обычно под руководством опытных и знающих тренеров. Они не столь наивны или несведущи, чтобы не представлять, чем в перспективе им грозит использование стимулирующих препаратов, к которым, возможно, прибегают молодые спортсмены в других популярных видах спорта.
Кроме того, в теннисе важна не сила, а быстрота. Поэтому мощная мускулатура не является решающим преимуществом. Думаю, что и в НБА нет серьезных проблем со стероидами, поскольку баскетбол, как и теннис, держится на быстроте и тренированности рук, а не на могучих мышцах. Но все же, как я узнал, стимулирующие препараты могут принести теннисисту некоторую пользу. Они помогают интенсивнее тренироваться и быстрее восстанавливаться, то есть способны подкрепить общую физическую подготовку и игровую дисциплину выносливостью, которой игрок изначально не обладает. Но вот парадокс: те, кто упорнее всего тренируется или наиболее вынослив, как правило, не входят в число ведущих игроков.
От природы мне не свойственна подозрительность, но в каждом очередном допинговом скандале меня неприятно поражает один момент — обвиняемые всегда имеют оправдание: по ошибке выпил микстуру жены; врач неправильно выписал рецепт; тестирование на допинг проведено некорректно. Иными словами, не та лазейка, так другая. И я не питаю уважения к тем, кто попался на допинге и хочет выкрутиться любой ценой.
В свое время я принимал уйму различных препаратов, в том числе всевозможные витамины. Но я всегда просил врачей официально подтвердить, что ничего запрещенного среди них нет, и поступал так задолго до того, как допинг стал серьезной проблемой в спорте. Выходит, дело-то нехитрое. Мне надоело слушать бесконечные оправдания, и, по-моему, с ними не стоит считаться. Исключительно от вас зависит, чисто ли вы пройдете тест. Попались на стероидах — значит, подлежите наказанию, если только нет убедительных смягчающих обстоятельств. Вот и все.
Мне претило использование допинга еще и потому, что по натуре я просто не способен ловчить и обманывать. Я всегда возражал против любого преимущества, достигнутого нечестным или незаконным путем. Сама мысль о допинге настолько противоречила моим убеждениям, что он стал для меня непреложным табу. Я отказался бы принимать стероиды из чисто этических соображений — даже если бы все вокруг подстрекали меня, уверяя, что остальные-то давно принимают; даже если бы речь шла о сохранении моего места в сообществе. Я понимаю, конечно, что сейчас мне легко говорить красивые слова, однако уверен, что в ситуации реального выбора поступил бы именно так.
И еще кое-что. Ведущие игроки редко терпят урон от любителей допинга. Никакие препараты не помогут вам стать чемпионом Уимблдона или одолеть Роджера Федерера. Поэтому жертвами становятся главным образом игроки более низкого уровня. Для них несколько лишних очков рейтинга или выход в следующий круг серьезных состязаний подчас очень много значат в плане престижа и денег.
Что бы ни принимал тогда Корда, он так и не взлетел на теннисный Олимп. Правда, он всегда входил в плотную группу, располагавшуюся поблизости, и уже успел причинить мне кое-какие неприятности (четырьмя годами ранее победил меня в Кубке «Большого шлема» 13:11 в пятом сете).
Сейчас я вполне допускаю, что допинг сыграл свою роль в нашем сражении на Открытом чемпионате США (ведь Корда засыпался меньше чем через год). Матч был долгий, изнурительный, проходил в неблагоприятных условиях, поэтому даже небольшой дополнительный запас сил мог стать для Корды решающим преимуществом. Конечно, истину мы вряд ли когда-либо узнаем — только Петру Корде известно, как все обстояло на самом деле. Я не питаю к нему неприязни и не придаю чрезмерного значения своему поражению, как и многим другим вещам.
После неудачи на Открытом чемпионате США я сыграл один из лучших своих матчей в Кубке Дэвиса — против сильной, молодой команды Австралии, на харде в Рок Крик Парке в Вашингтоне. Я победил Марка Филиппуссиса и Пата Рафтера в одиночных встречах и вывел Соединенные Штаты в финал против Швеции. Финал мы проиграли, отчасти потому, что из-за травмы ноги я был вынужден прекратить стартовую встречу с Магнусом Ларссоном.
Однако под конец года я выиграл два крупных турнира — Кубок «Большого шлема» и Чемпионат АТП. При этом я то и дело ловил себя на мысли, что каждый раз вижу все больше новых лиц — ребят вроде Патрика Рафтера, Грега Руседски и Карлоса Мойи... Я постепенно начинал чувствовать себя ветераном.
Год я завершил первым в классификации пятый раз подряд, повторив рекорд Джимми Коннорса, и свою задачу на следующий год представлял так: стать единственным, кому это удалось в течение шести лет. Заодно я хотел побить рекорд Роя Эмерсона в одиночном разряде «Большого шлема» — с десятью победами я уступал ему в конце 1997 г. лишь две.
Но, к сожалению, старт у меня получился неважный.
На Открытом чемпионате Австралии жеребьевка сложилась для меня удачно, и я не потерял ни сета вплоть до четвертьфинала, где неожиданно проиграл Каролю Кучере (о чем постарался как можно скорее забыть).
Через несколько недель я смог взять всего шесть геймов у «воскресшего» Андре Агасси на крупном турнире в закрытом помещении в Сан-Хосе.
На двух других турнирах в конце зимы, в Индиан-Уэллс и Майами, я потерпел поражения от Томаса Мустера и Уэйна Феррейры соответственно — и вдобавок в первых же раундах.
Перед весенним сезоном в Европе я выиграл только один турнир, да и то в моем старом убежище, Филадельфии.
Во втором круге крупного турнира в Монте-Карло меня «вынес» Фабрис Санторо.
Я вернулся в США и одержал победу на зеленом грунте Атланты. Зеленый грунт, или HAR-TRU, — это исключительно наше, американское покрытие. Оно более скользкое и зернистое, чем кирпичный порошок европейских грунтовых кортов, поэтому и более быстрое. Там я победил сильного игрока из Парагвая, Рамона Дельгадо, в двух сетах на тай-брейках.
Ободренный успехом, я вернулся в Европу и дошел до третьего круга Открытого чемпионата Италии, где меня остановил мой соотечественник Майкл Чанг. Однако мне казалось, что я вполне готов для «Ролан Гарроса».
Я чувствовал себя довольно уверенно, да и жеребьевка в Париже прошла удачно. На старте мне достался мой приятель Тодд Мартин. Матч с ним по обыкновению не вызвал у меня затруднений. Мне нравилось играть с Тоддом, и на этот раз я тоже поймал свою игру и прошел во второй круг в хорошей форме. Там я попал на Дельгадо — мастера игры на грунте, которого без проблем победил на том же грунте несколькими неделями раньше, в Атланте.
Но во время матча внезапно напомнили о себе все мои грунтовые «болячки». Пол, сидевший у бровки корта, с ужасом наблюдал, как я отдал тай-брейк в первом сете, а затем совершенно растерялся и в следующих двух сетах взял только семь геймов. Дело было не в том, что я проиграл, а в том, как это выглядело. Я напоминал вытащенную из воды рыбу, которая судорожно подпрыгивает в пыли на площадке Центрального корта имени Филиппа Шатрие. А ведь мой соперник еле вошел в первую сотню, а потом и вовсе исчез из компьютерного рейтинга АТП, так и не выиграв ни одного титула в одиночном разряде (его наилучший показатель — 94-103 места). Дело было не в нем — это я играл спустя рукава и без всякого настроя на победу. Я провел одну из самых «поганых» встреч за всю мою карьеру.
Раньше я как-то находил в себе силы выстоять и преодолеть трудности, но на сей раз совершенно отчетливо понял, что мое «парижское время» на исходе. В принципе я мог сам себе привести множество положительных примеров из прошлого и попытаться изменить свое состояние. Но тщетно — я не сумел ни убедить, ни обмануть себя. Матч с Дельгадо стал последней соломинкой, сломавшей спину верблюда (речь о моем участии в «Ролан Гарросе»). И сколько я ни размышлял об этом турнире, вопросов было больше, чем ответов.
Одно я знал точно. Провал случился в тот год, когда я действительно приложил все усилия для победы в Париже. В 1995 г. я специально выстроил расписание своих выступлений и тренировок с прицелом на «Ролан Гаррос». Отчасти я пошел на это, чтобы успокоить и критиков, и доброжелателей, а они были едины во мнении, что я должен специально готовиться к этому турниру, если хочу победить. Но моя стратегия не просто привела к обратному результату — она с треском лопнула, когда я проиграл первый же матч Гилберту Шаллеру. Тим и я тогда всерьез рассчитывали на мое победное шествие в Париже, и поражение сильно подорвало уже окрепшую во мне уверенность, что я могу играть на грунте.
Ситуация сложилась загадочная. Периодически я добивался отличных результатов на кортах с грунтовым покрытием (выиграл Открытый чемпионат Италии и турнир в Китцбюэле, привел Соединенные Штаты к победе в финале Кубка Дэвиса 1995 г. в Москве), но эти успехи казались какими-то случайными. Тим скончался незадолго до Открытого чемпионата Франции 1996 г. Это встряхнуло меня, и я добился своего лучшего результата на парижском турнире. Но, по правде говоря, случай-то был исключительный. А объективная реальность состояла в том, что после 1996 г. я не являлся особо опасным соперником в Париже, даже если мне удавалось пройти круг-другой.
Возможно, проблемы на грунте были связаны с моей универсальной игрой и уверенностью, так помогавшей мне на харде, где я мог выигрывать, даже оставаясь сзади. Ведь победил же я там, играя в основном на задней линии, чемпионов «Ролан Гарроса» Джима Курье и Серхио Бругейру. Поэтому я пренебрегал советами Пола и других, которые считали, что единственный мой шанс на победу в Париже — атака. Иногда я чувствовал необходимость атаковать и с удовольствием следовал такому плану игры. В иных случаях я предпочитал проводить матч на задней линии, питая если не уверенность, то надежду при удаче раскрыть наконец секрет грунтового корта.
В общем, в Париже я так и не сумел найти себя и свою зону комфорта. Я привык полностью контролировать игру — как на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. И на траве и на харде у меня был одинаковый настрой: бей посильнее, дави, беги вперед, выигрывай очки... а там увидим, сможет ли соперник все это выдержать. Но на грунте следует слегка снизить напор — даже если играешь в атакующий теннис. Тут требуется больше терпения, надо уметь дождаться благоприятного случая. Такой стиль игры был не по мне. Если иногда я и побеждал на грунте, то лишь потому, что сохранял полнейшее спокойствие и четко контролировал свою игру (примерно так же, как на харде).
Но меня постоянно тяготила (отчасти по моей же вине) мысль о том, что в Париже я должен выигрывать только за счет атакующей игры. Какая-то часть моего сознания требовала все время наступать (как Стефан Эдберг, чей безрассудно-смелый атакующий стиль довел его однажды до финала — дальше, чем удавалось пробиться мне), и я часто чувствовал себя не в своей тарелке. Когда я бросался к сетке после каждой хорошей подачи, у меня возникало не слишком приятное ощущение, что я вечно запаздываю. Вероятно, я отнюдь не идеально двигался на грунте, и это было еще одной — неявной — причиной моих неудач. Покрытие казалось мне скользким и ненадежным, поэтому я принимал чересчур высокую стойку — во всяком случае, по сравнению с таким игроком, как Янник Ноа (француз, выигравший «Ролан Гаррос» в 1983 г. в атакующем стиле с выходами к сетке). Ноа играл на мягких, согнутых ногах, словно большой кот, готовый к прыжку. Я же часто чувствовал себя неуверенно даже у самой сетки.
В Париже Пол всегда убеждал меня идти в атаку, к сетке, но я противился его настояниям. Когда я взял верх над Джимом, играя с задней линии, то счел это еще одним веским аргументом в свою пользу. Но я не мог играть на задней линии настолько стабильно, чтобы побеждать ведущих игроков три или четыре круга подряд, — а только это и позволяет выиграть турнир «Большого шлема». В какой-то год я решил испробовать атакующую стратегию, которая, по мнению Пола, давала мне шансы на успех, но меня остановил Андрей Медведев. Вот, собственно, и все.
Грунт давал моим соперникам дополнительные преимущества. Они могли использовать относительную слабость моего удара слева, посылая мне под бэкхеид мячи с высоким отскоком. Необходимость выполнять удары в высокой точке создает проблемы для игроков с одноручным ударом слева — об этом красноречиво свидетельствуют затруднения, с которыми сталкивался Роджер Федерер, играя на грунте с Рафаэлем Надалем. Для Роджера сложность усугублялась тем, что Надаль — левша.
На позднем этапе моей карьеры еще одним неблагоприятным фактором для меня стали технологические новшества. Я всегда использовал ракетку с наименьшей из всех возможных площадью струнной поверхности. И мало того, что сам я не прочувствовал потенциальных преимуществ ракеток нового типа и продолжал использовать старую модель, — более совершенные ракетки повысили возможности моих соперников (тех, кто сумел быстро приспособиться к новшествам) и облегчили им противоборство со мной.
Поскольку я никогда не имел четкого плана игры на грунте, каждый матч становился для меня кубиком Рубика, и всякий раз я начинал с нуля.
Признаюсь: после поражения от Дельгадо я уже не мог смотреть на «Ролан Гаррос» прежними глазами. Он в каком-то смысле утратил для меня значимость. Не то чтобы я поставил на нем крест — это было не моем духе, да и победа в Париже могла бы принести очень многое, — но после матча с Дельгадо во мне окрепло предчувствие, что здесь мне ничего не светит.
И, вероятно, я наконец взглянул правде в глаза: может, я попросту недостаточно хорошо играю на грунте, чтобы выиграть «Ролан Гаррос»; а может, мне не выпал шанс, не хватило везения, которое вознесло бы меня на чемпионский пьедестал хотя бы один раз — один-единственный, но принципиально важный.
На Уимблдоне, начиная с четвертьфинала, я в двух матчах последовательно победил Марка Филиппуссиса и Тима Хэнмена, моего друга и спарринг-партнера.
В финале меня в очередной раз ждал Горан Иванишевич. Но сейчас я испытывал какое-то странное ощущение. Я выглядел спокойным и уверенным, однако в глубине души предчувствовал, что сегодня удача улыбнется Горану, — ведь он так часто оказывался на пороге победы! Уимблдон для Иванишевича значил больше, чем любой другой турнир, и должен же он когда-нибудь его выиграть.
Хотя скоростные качества покрытия к тому времени изменились, мы оба были настроены выстреливать эйсы, даже если бы пришлось играть мячиками, наполненными водой. В течение всего матча мы сохраняли такой настрой и, вероятно, именно поэтому могли показать свойственную нам игру, несмотря на новые условия. Еще в полуфинале Горан продемонстрировал убийственно мощные подачи и дожал Ричарда Крайчека 15:13 в пятом сете, после того как не смог использовать два матчбола в четвертом.
Горан выиграл на тай-брейке первый сет нашего финала и получил два сетбола во втором. Казалось, мое предчувствие сбывается. Но затем Горан проиграл несколько важных розыгрышей и в конце концов я вытянул сет в напряженном тай-брейке. Выскользнуть из-под пресса и сравнять счет по сетам — это было замечательно. Может, предчувствие оказалось ложным? Ведь Горан имел все шансы добить меня в классической манере игры на траве, но упустил их.
Играя с Гораном, я всегда поджидал, когда он допустит какой-нибудь промах или небрежность. Главное — оставаться предельно внимательным, в полной готовности использовать первую же возможность. Мы продолжали обмениваться бомбами и поделили следующие два сета каждый раз за счет одного брейка. В пятом сете я заметил, что Горан устал. У него прошли только два эйса из тридцати двух за матч, и я без труда довел сет до победы — 6:2.
Иванишевич был безутешен. Он объяснял поражение нехваткой сил из-за того, что не смог в предыдущем матче с Крайчеком уложиться в четыре сета. На пресс-конференции я постарался выразить сочувствие Горану: «К этой стадии турнира мы подошли с игрой практически равного уровня. И победил я просто чудом». Однако Горан, подобно мне, являлся реалистом. Он понимал, что держал меня на крючке — и упустил. Дальше он заявил: «На этот раз у меня имелись шансы, так как соперник показал не лучшую игру. В девяносто четвертом году мы сыграли два сета на равных, а в третьем он меня просто убил. (В том финале счет был 7:6, 7:6, 6:0.) Сегодня я был близок к успеху — во многих отношениях. Матч получился захватывающий, но теперь я переживаю худший момент в моей жизни. Знаете, выпадают человеку плохие времена — к примеру, он заболел или потерял кого-то из близких, — но сейчас я чувствую себя особенно паршиво — никто ведь не умер».
Хотя наша типичная травяная баталия на подачах и вызвала скрытое недовольство, в целом публика, видимо, оценила сдержанное, ледяное величие, которое Горан и я продемонстрировали в наших поединках на Уимблдоне. Они не походили на другие матчи, сыгранные каждым из нас на этом турнире. Статистика наших матчей вызывала во мне особую гордость: во встречах с самым упорным и опасным из моих уимблдонских соперников, Гораном, я вел со счетом 3:1.
Когда я уезжал из Уимблдона, всего один матч отделял меня от рекорда Эмерсона — двенадцать титулов «Большого шлема» в одиночном разряде. И чтобы сравняться с ним, не было места лучше Открытого чемпионата США. Но на «Флашинг Медоуз» я проиграл Пату Рафтеру — хулиганистому австралийцу с самурайским пучком на голове и боевой раскраской лица, для которой он применял цинковые белила.
Победа в Нью-Йорке значительно облегчила бы мою дальнейшую жизнь: мне бы уже не понадобилось особо напрягаться в конце сезона, чтобы сохранить за собой первое место в мире — шестой, рекордный год подряд.
Прикидывая, как распланировать осень 1998 г., я понял, что меня не слишком привлекают европейские соревнования в помещениях, которые проводятся по завершении всех турниров «Большого шлема».
Еще шесть-семь лет назад я мечтал выиграть все на свете. Но в течение многих лет «пробег» на моем счетчике неуклонно возрастал, и хотя «мотор» не утратил мощности, «амортизаторы» постепенно изнашивались, а кое-что уже и ломалось. Для спортсмена это чревато травмами или моментами, когда сознание просто не способно правильно настроиться на выигрыш теннисных матчей.
Годы, проведенные на первой позиции, отняли у меня много сил и заставили серьезно задуматься о том, чтобы набирать пик формы к самым важным событиям года — то есть к турнирам «Большого шлема».
Тем не менее я твердо решил совершить рывок к небывалому рекорду по длительности пребывания на первом месте в мировом рейтинге. Наверное, он не так впечатляет, как рекордное число титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, но во многих отношениях достоин большего уважения, и вот почему. Альфа и омега величия — непрерывный каждодневный труд, достижение поставленных целей, умение жить и выживать, будучи мишенью для преследователей. Суть величия — постоянство.
Меня часто спрашивали, кого я считаю Величайшим теннисистом всех времен. С моей точки зрения, этого звания достойны пятеро — из тех, чья карьера (во всяком случае, по большей части) приходится на Открытую эру, начавшуюся в 1968 г. По совести говоря, я не чувствую себя вправе оценивать великих теннисистов любительской эры, когда ведущие игроки становились профессионалами и теряли возможность выступать на турнирах «Большого шлема». Моя пятерка — Род Лейвер, Бьорн Борг, Иван Лендл, Роджер Федерер и (без лишней скромности) я.
Мои доводы просты: Величайший — не просто тот, кто собрал столько-то титулов или продержался на самой вершине столько-то лет. Величайший — это еще и тот, кто в течение своей карьеры добился несомненного превосходства над главными соперниками.
Меня могут спросить: «Почему Лендл?» Отвечу: потому что Иван в свое время значительно возвышался над средним уровнем игры. У него поразительный счет, 22:13, во встречах с Коннорсом и 21:15 во встречах с Макинроем. Каких вам еще доказательств? Когда-то Коннорс ничего не мог поделать с Боргом, а Лендл регулярно обыгрывал Макинроя. Единственное, чего недоставало Лендлу, — это умения себя подать, ему не хватало той особой ауры, которая, по мнению публики, окружает великих чемпионов. Восемь лет подряд Иван выходил в финал Открытого чемпионата США, а этот турнир многие считают самым сложным из всех турниров «Большого шлема». Поэтому моя первая пятерка именно такова — при всем уважении к Коннорсу, Макинрою и Андре Агасси, которых я зачисляю во вторую пятерку первой десятки всех времен.
Любопытно сопоставить рекорд Эмерсона в одиночном разряде (двенадцать титулов «Большого шлема») с сохранением первого места в мире шесть лет подряд. Рекорд Эмерсона можно повторить, выигрывая по два турнира «Большого шлема» в год в течение шести лет. Не столь уж невыполнимая задача: мастеру травяных или грунтовых кортов достаточно лишь выиграть еще один турнир на менее удобном покрытии, чтобы получить две нужные победы. Шесть лет, конечно, предельно сжатый срок, если учесть, что Макинрой — единственный из великих игроков, завоевавший все свои титулы «Большого шлема» меньше чем за семь лет (Коннорсу потребовалось десять). Семь лет — это двадцать восемь турниров «Большого шлема», и победа в двенадцати — достижение бесспорно выдающееся, но отнюдь не фантастическое.
Таким образом, нужно блестяще отыграть всего месяц в году, и вот вам двенадцать побед. Прочее время вы можете держаться в тени — отдыхать, намечать стратегию и оценивать свои ресурсы. Но если вы хотите каждый год оставаться первым игроком мира, подобная жизнь не для вас. Вам не видать первого места, если вы не будете выступать и выигрывать множество турниров и матчей в течение целого года. Большинство теннисистов охотно променяют постоянство на яркие победы — точно так же, как бейсболисты, наверное, предпочтут хоть раз выиграть мировой чемпионат, нежели состоять в команде, которая год за годом побеждает в своей лиге, но не получает самый престижный приз. Однако лучшие игроки отличаются тем, что одерживают яркие победы, и к тому же часто. Они трудятся в поте лица.
Вот эти-то труды едва не подкосили меня в тот период 1998 г., когда я старался сохранить первое место в мировой классификации шестой год подряд.
Осенью, после Открытого чемпионата США, я выступил на семи турнирах в Европе, чтобы сдержать Марчело Риоса, рьяно стремившегося к первому месту. В начале года я и не предполагал участвовать в некоторых соревнованиях (например, в Вене и Стокгольме), но потом все-таки попросил дать мне вайлд-карт. За год Риос приблизился ко мне на опасное расстояние, а я стал уже почти одержим идеей рекорда.