Екатерина Великая. Роман императрицы Валишевский Казимир
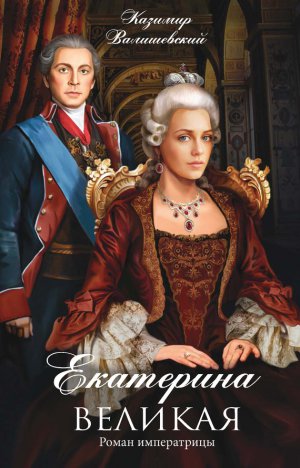
Великий князь жил с женой в Гатчине или в Павловске, совершенно отдельно от матери и разлученный со своими детьми, находившимися при императрице; он не видал их иногда месяцами. Для свидания с ними ему необходимо было испрашивать разрешение у графа Салтыкова, их воспитателя. Мы говорили уже о том, что в последние годы царствования Екатерины при дворе и в обществе сложилось убеждение, что она лишит сына престола. Многие горячо желали этого. Все ждали манифеста, который бы выяснил этот важный пункт. Думали, что он появится 1 января 1797 года. По одной версии, манифест будто бы уже был составлен, и в нем обещалось дать России конституционный строй с воцарением Александра, так как характер Павла был несовместим с такой формой правления. В «Записках» же Энгельгардта и в отрывке «Записок» Державина, дошедшем до нас, говорится тоже о подобном завещании императрицы, но без загадочного и сомнительного упоминания о конституционализме, так мало совместимом со взглядами Екатерины в те годы. Ода, написанная Державиным на восшествие на престол Александра I, тоже намекает на это, как и любопытное сочинение под заглавием «Разговоры в царстве мертвых Екатерины Великой с Петром Великим, Фридрихом II, королем Прусским, и Людовиком XV, королем Французским», ходившее по рукам после смерти Екатерины.
Государыня упрекает в нем Безбородко, которому было вверено вышеупомянутое завещание, за то, что он наказал ее страну царствованием Павла. Достоверно во всяком случае то, что, когда Екатерине случалось говорить в своих письмах о будущем, ожидавшем Россию после ее смерти, она умалчивала о царствовании сына. Она всегда указывала на Александра как на своего преемника. И, по-видимому, она даже приняла в последние минуты решительные меры, чтобы предотвратить возмущение законного наследника.
Мать и сын виделись теперь только на официальных приемах. Они писали друг другу церемонные письма. Во время своего короткого пребывания в финляндской армии, когда великий князь сразу заметил, что ему там нечего делать, он почти ежедневно обменивался письмами с императрицей. Эти послания очень напоминают переписку испанского короля с Марией Нейбургской в той версии, которую дал ей Виктор Гюго. Вот образчик их:
«Любезная матушка, письмо Вашего Императорского Величества доставило мне чувствительное удовольствие, и слова Ваши тронули меня бесконечно. Прошу Ваше Величество принять выражение моей признательности, а также уважения и преданности, с которыми пребываю…»
Ответ Екатерины:
«Я получила, любезный сын, ваше письмо от 5 сего месяца с выражением ваших чувств, на которые отвечаю взаимностью. Прощайте, будьте здоровы».
И так письма чередуются одно за другим почти без вариантов.
Но кто был виновником этой ссоры, так жестоко разлучившей два существа, тесно связанные природой? Сохранилось много описаний Павла и с внешней и с духовной стороны. Некоторые из этих портретов лестны для него, но таких очень мало. Известно его изображение, сделанное принцем де Линь; кажется, оно наиболее искреннее:
«Работоспособный, слишком часто меняющий свои мнения и своих фаворитов, чтоб сейчас же взять нового фаворита, советника или любовницу; быстрый, пылкий, непоследовательный, – он станет когда-нибудь, может быть, опасным. Он мыслит ложно, но сердце у него прямое; суждения его совершенно случайны. Он недоверчив, подозрителен, в обществе любезен, в деловых сношениях невыносим, страстно предан чести, но, увлеченный своею вспыльчивостью, не всегда умеет разбирать правду. Он разыгрывает недовольного, угнетенного, хотя его мать ничего не имеет против того, чтобы за ним ухаживали и давали ему возможность развлекаться, сколько он пожелает. Горе его друзьям, врагам, союзникам и подданным! Притом он чрезвычайно изменчив, но за то короткое время, когда он хочет чего-нибудь в душе, или когда любит или ненавидит, то отдается чувству со стремительностью и упорством. Он презирает свой народ и говорил мне в былое время в Гатчине такие вещи, которых я не смею повторить».
Впрочем, может быть, преклонение перед Екатериной заставляло очаровательного принца сгущать на своей палитре одни темные краски? Послушаем свидетельство другого лица, более беспристрастного в данном вопросе и, наверное, самого авторитетного из всех. Среди придворных Екатерины у Павла был друг и поверенный тайн, который должен был стать всемогущим после смерти императрицы. Великий князь выказывал ему постоянно свою привязанность и даже уважение и осыпал его милостями: он не скрывал, что хочет сделать его своим первым министром. То был граф Ростопчин. И вот что он говорил о своем привилегированном положении и о великом князе, сделавшем его своим избранником. Он писал графу Воронцову, русскому послу в Лондоне: «Для меня нет ничего в свете страшнее после бесчестия, как его благосклонность». В других письмах он горько осуждал будущего императора, как человека, вечно со всеми препиравшегося, изо всех делавшего себе врагов и стремившегося подражать печальной памяти Петру III, разыгрывая по его примеру прусского короля с вверенным ему небольшим гарнизоном. Ростопчин писал: «Великий князь находится в Павловске постоянно не в духе, с головою, наполненною призраками, и окруженный людьми, из которых наиболее честный заслуживает быть колесованным без суда». Он прогнал Александра Львовича Нарышкина, бывшего искренно ему преданным; жестоко оскорбил князя А. Куракина, которого еще накануне называл «своею душой». Он преследовал своими ухаживаниями Нелидову, и та, чтобы спастись от них, просила у императрицы позволения покинуть двор и уйти в монастырь.
Нелидова, фрейлина великой княгини, – если верить Рибопьеру, она была «мала ростом, дурна, черна, но очень умна», – имела нескольких предшественниц в милостях великого князя: прежде всего фрейлину Шкурину, тоже выразившую желание постричься и действительно выполнившую его; говорили, что Шкурина была дочь придворного истопника, находившегося в очень близких отношениях с Екатериной еще в бытность ее великой княгиней. Ее сменила Лопухина, все эти привязанности не были, по-видимому, чисто платонического характера, как чувство Павла к Нелидовой. Так, ходили слухи, что у кн. Чарторыйской, вышедшей вторым браком за графа Григория Разумовского, был от Павла сын, которого назвали Семеном Великим.
Но ни одна из этих женщин не любила Павла. По рассказу Ростопчина, Нелидова открыто издевалась над ним и презирала его. Порвав с ним, она осталась при дворе, где ее успех «бесил его» и делал его смешным.
Но письма самого Павла, сохранившиеся для потомства, рисуют нам его в совершенно ином свете. Те, что он писал за 1776–1782 гг. барону Карлу Сакену, одному из своих воспитателей, можно считать почти откровением: мы видим в них нужную, любящую, благодарную душу, возвышенный ум и даже некоторую долю здравого смысла. Барон Карл Сакен был русским послом в Копенгагене. Павел писал ему:
«Вы видите: я не бесчувствен, как камень, и мое сердце не так черство, как то многие думают. Моя жизнь докажет это».
«Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло».
«Если я когда-нибудь заслужу что-либо хорошее, то знайте, что это благодаря вам, как и всем тем, кто старался смягчить мою сухую природу».
«Все блестящее несвойственно мне; становишься только неловким, стремясь быть тем, чем не можешь быть».
Павел не был лишен, по-видимому, и острого природного ума. Во время его пребывания в Париже, на обеде, который ему давали представители литературы, Лагарп удивился, услышав, что великий князь называет «превосходительством» (Excellence) своего врача Шеффера. Павел объяснил ему, что этот титул соответствует чину Шеффера. Лагарп сказал на это:
– Но если врачи имеют в России генеральский чин, то какое же положение занимают там литераторы?
– Если бы моя матушка была тут, – ответил Павел, – она наверное называла бы вас «высочеством».
В другой раз граф д’Артуа предложил ему одну из английских шпаг, которыми Павел любовался:
– Я лучше попрошу у вас ту, – сказал великий князь, – которой вы возьмете Гибралтар.
Как известно, граф д’Артуа готовился идти на юг Испании во главе экспедиции, оказавшейся, впрочем, неудачной.
Правда, не следует, может быть, придавать веры всем этим анекдотам: все наследники императорских престолов так легко находят себе поклонников. Но каковы бы ни были природный ум и сердце Павла, их омрачала его крайняя нервность, по поводу которой носились различные и зловещие толки. Уже в октябре 1770 года Сабатье доносил герцогу Шуазёлю, что у великого князя «бывали страшные конвульсии и совершенно недвусмысленные признаки очень сильного припадка падучей». Сабатье объяснял болезнь великого князя тем, что, как ему рассказывали, маленького Павла сильно испугали при свержении Петра III, сказав ему, что отец хочет его убить: ему сообщили это грубо и без всякой осторожности, не щадя ребенка, и это так поразило Павла, что на всю жизнь потрясло его здоровье. Аллонвиль приводит в своих «Записках» другую версию со слов эллиниста Виллуазона, «серьезного человека, имевшего долгие и постоянные сношения с великим князем»: умственные способности Павла пострадали будто бы от больших доз опия, который он принимал при очень своеобразных условиях: «Граф, а впоследствии князь Разумовский, его близкий приятель, но связанный еще более интимной дружбой с великой княгиней, рожденной принцессой Дармштадтской, ужинал каждый день один с августейшими супругами и не нашел иного способа, чтобы превращать трио в уединение вдвоем».
Самый факт слишком большой близости между графом Разумовским и первой супругой Павла установлен почти с достоверностью. Согласно депеше Дюрана графу Верженну, в октябре 1774 года Екатерина решила открыть глаза сыну, но безуспешно. И только после смерти великой княгини Павел узнал правду, найдя в бумагах покойной жены компрометирующую переписку. Разумовский получил тогда приказание выехать за границу. Но играл ли в этой придворной интриге какую-нибудь роль опий, – трудно сказать.
Душевное здоровье Павла еще с малолетства внушало большие опасения. Когда в 1781 г., проезжая через Вену, он должен был присутствовать на придворном спектакле, и решено было дать «Гамлета», актер Брокман отказался исполнить эту роль, сказав, что не хочет, чтобы в зале было два Гамлета. Иосиф послал ему 50 червонцев в благодарность за его такт. Павел был всегда нервен, раздражителен и крайне впечатлителен. В 1783 году маркиз Верак писал из Петербурга, что, узнав о внезапной кончине графа Панина, великий князь потерял сознание. Впрочем, уж одна та мрачная церемония, которую он разыграл при своем восшествии на престол, думая реабилитировать этим память отца, достаточно характерна, чтобы подтвердить подозрения в безумии, висевшем над головою Павла при его жизни и не утихшем и после его безвременной кончины. Рассказ о том, что он приказал вынуть из гроба останки Петра III и посадить покойного императора на престол в знак коронования, вымышлен. В гробу несчастного императора – тело его не было набальзамировано – через тридцать четыре года не оставалось ничего, кроме скелета. И сын Екатерины удовольствовался тем, что возложил на алтарь Петропавловского собора уродливый череп, который и увенчал царской короной.
Все знают также историю краткого правления наследника Екатерины, на которого она, естественно, смотрела с гневом и боязнью. И непростительно ли было бы поэтому с ее стороны желание спасти свой народ от его печального царствования? Но зато, если рассудок ее сына и был омрачен, то разве не была виновницей его безумия сама Екатерина, так равнодушно и невозмутимо погубившая его здоровье? Ведь мучительный бред больной души Павла мог быть вызван кровавой тенью Ропшинского дворца…
Тяжким свидетельством против Екатерины в этой грустной и не вполне выясненной истории ее отношения к Павлу, так омрачившим ее блестящее и великое царствование, служит ее обращение с другим сыном, который не мог тревожить ни ее честолюбия, ни ответственности перед Россией. Как мы знаем, у Екатерины был побочный сын, названный Бобринским. Любила ли она его? По-видимому, нет. Заботилась ли она хотя бы о нем? Она давала ему средства для жизни, позволяла путешествовать за границей и даже сорить деньгами, но когда он стал злоупотреблять этим последним правом, то отнеслась к нему с удивительным, по своей непринужденности, равнодушием.
«Что это такое, эта история с Бобринским? – писала он Гримму. – Этот молодой человек необыкновенно беспечен. Если бы вы могли узнать о положении его дел в Париже, то доставили бы мне удовольствие… Впрочем, он имеет полную возможность расплатиться сам: он получает 30 000 годового содержания…»
Два года спустя она писала опять:
«Очень жаль, что г. Бобринский входит в долги; он знает свои средства; они вполне приличны. Но, кроме них, у него нет ничего».
Она давала таким образом понять, что не станет платить долгов сына; сверх того относительно умеренного содержания, которое было назначено ему, он и его кредиторы ни на что больше не смели рассчитывать. И она сдержала слово. К концу 1786 года у молодого Бобринского было уже несколько миллионов долгу в Париже, не говоря о его кредиторах в Лондоне, от которых ему удалось бежать. Между прочим, он подписал вексель в 1 400 000 ливров на имя маркиза Феррьера. Екатерина все не принимала никаких мер, чтобы остановить безумства молодого человека. Но тут она решилась: она выписала его в Россию и поместила в Ревель под строгий надзор. Но при этом она не выказала ни малейшего желания видеть его и узнать его ближе. Только бы он оставил ее в покое, не требовал у нее денег и не заставлял говорить о себе: вот все, что ей от него было нужно.
Это, безусловно, цинично. Но неужели же голос материнства молчал в бесчувственном сердце Екатерины? Отрицать это трудно. Но так же нелегко утверждать это. Если она была холодна к своим сыновьям, то зато как нежно она любила внуков. С 1779 года ей каждый день в половине одиннадцатого приводили маленького Александра. «Я вам уже говорила и опять повторяю, – писала она Гримму, – что я без ума от этого мальчугана… Мы ежедневно делаем с ним новые открытия, т. е. из каждой игрушки устраиваем десять или двенадцать новых и стараемся перещеголять друг друга в изобретательности… После обеда мой мальчуган приходит ко мне опять, когда пожелает, и проводит у меня в комнате часа три-четыре». В том же году она стала учить азбуке великого князя Александра, «хотя он еще не умеет говорить, и ему только полтора года». Она заботилась также и об его костюмах: «Вот как он одет с шестого месяца своей жизни, – писала она Гримму, посылая ему образец детского платьица, скроенного по ее указаниям. – Все это сшито вместе, одевается сразу и застегивается сзади четырьмя или пятью маленькими крючками… Здесь нет никаких завязок, и ребенок не подозревает даже, что его одевают: ему просовывают незаметно руки и ноги в это платье, вот и все; это гениальное изобретение с моей стороны. Шведский король и принц Прусский просили и получили от меня образец костюма великого князя Александра». Затем идут неизбежные рассказы, которые можно найти в письмах всех матерей: в них повествуется изо дня в день обо всех проделках маленького чуда, свидетельствующих об его уме, необыкновенном для его возраста. Однажды, когда гениальный ребенок был болен и дрожал от лихорадки, Екатерина нашла его в дверях своей спальни, закутанного в длинный плащ. Она спросила его, что это означает. «Я часовой, замерзающий от холода», ответил Александр.
Другой раз он стал приставать к горничной императрицы, прося, чтобы она сказала ему, на кого он похож. – На вашу мать, – ответила ему камерюнгфера, – у вас все ее черты, нос, рот. – Нет, не то, – сказал Александр; – а на кого я похож характером? – Ну, этим вы скорее похожи на бабушку. – В ответ на это маленький великий князь бросился на шею к старой деве и стал горячо ее целовать. «Вот это я и хотел, чтобы ты мне сказала!»
Этот последний анекдот отчетливо показывает взаимное положение Павла и Екатерины по отношению к его детям, которыми всецело завладела властная императрица. Приведем еще один отрывок из письма Екатерины к Гримму, где речь опять идет об обожаемом ею ребенке: «По-моему, из него выйдет превосходнейший человек, если только la secondaterie не замедлит мне его успехи». Secondat, secondaterie – это были своеобразные выражения, под которыми Екатерина разумела сына и невестку, а также взгляды на воспитание и политику, господствовавшие в Павловске и совершенно противоположные ее собственным воззрениям, по крайней мере в то время, так как прозвище Павла и его жены было, очевидно, заимствовано ею у барона «Secondat» Монтескье.
Маленький Константин не пользовался вначале благоволением бабушки в равной степени с братом. Екатерина находила, что он слишком хрупок и тщедушен, чтобы быть внуком императрицы. «Что касается второго, – писала она после восторженных похвал Александру, – то я не дала бы за него десяти копеек; возможно, что я очень ошибаюсь, но думаю, что он не жилец на свете». Но вскоре и младший внук завоевал сердце Екатерины. Он вырос, окреп; в это время на южном горизонте России в воображении императрицы стала рисоваться Византийская империя, и вместе с этими мечтами в ней проснулась нежность к ребенку, вскормленному гречанкой Еленой.
Увы! Мы должны признать это: даже в теплой привязанности к внукам политика играла у Екатерины не только большую, но, пожалуй, главную роль. Политика! Можно быть уверенным, что найдешь ее во всем, что касается Екатерины: и в ее чувствах, и в мыслях, и в увлечениях, как и в ее антипатиях, и даже в ее любви к младшему поколению своей семьи. Все, что кажется непонятным и загадочным в ней, объясняется, думаем мы, этим словом. Мы не хотим, конечно, сказать, что сердце этой женщины, заслуживавшей, с одной стороны, всевозможного осуждения, а с другой – всяческих похвал, было совершенно бесчувственно, как то утверждали многие, или глухо, извращено и отзывчиво только на низкие инстинкты. Оно было на одном уровне с ее умом, никогда не достигавшим большой высоты, как мы уже указывали на это. Она умела любить, но подчиняла любовь, как и все другие чувства, великой руководящей идее своей жизни – идее исключительно сильной и непоколебимой в ней: политике и ее интересам. Она полюбила однажды красавца Орлова за его красоту, но и за то, что он был готов сложить свою голову, чтобы достать ей царский венец, и был способен сдержать это слово. Она была холодна и даже враждебна к Павлу, отчасти потому, что ей не удалось развить в себе материнское чувство, – ребенка отняли у нее с колыбели, – но главным образом потому, что он был ей опасным соперником в настоящем и жалким наследником в будущем. И она страстно привязалась к маленькому Александру под влиянием таких же побуждений, относящихся к той же категории чувств и идей.
Письма, которые она писала внукам при разлуке с ними, например, в 1783 году, во время своего пребывания в Финляндии, в 1785 году, когда она некоторое время жила в Москве, и в 1787 году, во время крымского путешествия, полны теплоты, нежности и ласки. Невозможность взять их с собой на феерически разукрашенные дороги Крыма причиняла ей искреннее огорчение. Переговоры между Петербургом и Павловском по этому поводу все затягивались, и из-за денежных соображений Екатерина должна была положить им конец, пожертвовав своим удовольствием: каждый день замедления стоил ей 12 000 рублей. По этой цифре можно судить, во что обошлось все это путешествие, вызывавшее справедливое удивление Европы.
В воспитании Александра и Константина Павловичей Екатерина применила полностью свои педагогические взгляды. Но результаты, достигнутые ею, были, по-видимому, далеко не блестящи. Только она одна приходила в восхищение от успехов, сделанных ее учениками. Другие же – и среди них Лагарп – думали об этом иначе. Лагарп жаловался не раз на дурные инстинкты и недостатки старшего великого князя. Он указывал на некоторые довольно некрасивые его поступки. В 1796 году, при приезде шведского короля, при дворе невольно проводили параллель между молодыми людьми, оказавшуюся не в пользу внуков Екатерины. А между тем она приложила большие старания к тому, чтобы сделать их лучше, и, не давая воли своей любви к ним, применяла к ним, когда нужно, даже строгость. Так, она раз заметила, что при смене часовых, стоявших у императорского дворца, солдат задерживают дольше обыкновенного: это был спектакль, который задавали маленьким великим князьям, смотревшим из окошка. Екатерина сейчас же вызвала их гувернера и сделала ему строгое внушение: государственная служба, особенно военная, – сказала она, – создана не для забавы детей. А если бы великие князья заупрямились, то им следовало сказать, что бабушка этого не позволяет. Это был, бесспорно, очень мудрый принцип. Но вся воспитательная система Екатерины не держалась на его высоте.
Екатерина взяла также исключительно на себя заботу о браке своих внуков и внучек. Мнение родителей при этом не спрашивалось. Впрочем, мнение Павла не спрашивали даже тогда, когда вопрос шел о его собственной женитьбе. В Петербург было вызвано в общем около дюжины немецких принцесс, чередовавшихся одна за другой. Императрица хотела, чтобы ее сыну, а затем внукам было среди кого выбирать. И выбор, действительно, был богатый: три принцессы Дармштадские, три принцессы Вюртембергские, две принцессы Баденские и три принцессы Кобургские. Принцессы Вюртембергские не поехали, впрочем, дальше Берлина, так как галантный к женщинам Фридрих потребовал, чтобы Павел сделал хотя бы полдороги навстречу своей невесте. Этот брак был устроен стараниями принца Генриха Прусского, приезжавшего в 1776 году в Петербург. Старшая из принцесс была еще прежде помолвлена с принцем Дармштадским, но было решено, что он откажется от нее, если «в нем есть хоть малейшая честность», как писал принц Генрих своему брату, если «он не захочет разрушать счастье двух держав». Принц Дармштадский, действительно, показал себя «честным». Так как старшая сестра ускользала от него, он решил удовольствоваться младшей: «ведь, в сущности, это было одно и то же». Кроме того, как Фридрих и предвидел это, отец принцессы не стал ждать его согласия, чтобы «ударить по рукам, раз дочери представлялась более выгодная партия». Затруднение было встречено только в выборе лютеранского пастора, достаточно «просвещенного», чтоб доказать будущей великой княгине, что она делает вещь, угодную Богу, изменяя вере отцов. Но ввиду того, что Петербургский двор прислал 40 000 рублей на путешествие принцесс, «истинный бальзам», по выражению их матери, для расстроенных финансов их дома, то это маленькое препятствие оказалось преодолимым.
Через несколько лет принцессы Дармштадские приехали уже в самый Петербург. Их сменили две принцессы Баден-Дурлахские. Они были сироты, и за ними послали графиню Шувалову, вдову автора «Eptre Ninon», и некоего Стрекалова, который будто бы вел себя в пути как казак, похищающий грузинских девушек. Но в то время германские дворы не были очень щепетильны. По приезде принцесс императрица пожелала видеть их приданое. Осмотрев его, она сказала:
«Милые мои, я не была так богата, как вы, когда приехала в Россию».
Старшая принцесса осталась в Петербурге и вышла замуж за великого князя Александра; младшая возвратилась домой: она не понравилась Константину. Ей было только четырнадцать лет, и она была еще не сформирована. Впоследствии она вышла замуж за шведского короля. Празднества, сопровождавшие свадьбу Александра, были последним блестящим и радостным торжеством в царствовании Екатерины. Ко дню свадьбы была сложена, между прочим, следующая эпиталама:
- «Ni la reine de Thbes an milieu de ses filles,
- Ni Louis et ses fils assemblant les families,
- Ne formrent jamais un cercle si pompeux.
- Trois gnrations vont fleurir devant Elle,
- Et c’est Elle toujours qui charmera nos yeux.
- Fire d’tre leur mre et non d’tre immortelle:
- Telle est Junon parmi les dieux!»
- (Ни царица Фив среди своих дочерей,
- Ни Людовик и его сыновья, окруженные семействами,
- Не представляли такого блестящего зрелища.
- Три поколения будут процветать перед нею,
- Но по-прежнему она очаровывает наши взоры,
- Гордая тем, что она их мать, а не тем, что бессмертна:
- Такова Юнона посреди богов!)
На следующий год приезд принцессы Саксен-Кобургской с тремя дочерьми прошел уже менее заметно. Но на этот раз Екатерина нашла, что багаж их высочеств очень тощ. Они превзошли ее собственную бедность при ее приезде в Россию. Надо было освежить гардероб всей семьи, прежде чем показать их при дворе, и Константин опять показал себя слишком требовательным. Но в конце концов он все-таки остановил свой выбор на младшей из принцесс.
Итак, Екатерина решительно освободила себя от некоторых семейных привязанностей и долга, вопреки голосу природы или хотя бы приличиям, и заменила их другими чувствами, которым отдалась так же открыто и смело. Мы старались в свое время дать объяснение этой психологической загадке, но сознаём, что оно может вызвать не одно возражение. Но когда подходишь к крупным историческим фигурам, обычные людские мерки к ним неприложимы, и тайна их побуждений и поступков часто остается непонятой и нераскрытой.
Глава 3
Интимная жизнь Екатерины. Фаворитизм
Вокруг любовной жизни Екатерины сложился ряд легенд. Мы постараемся заменить их здесь несколькими страницами истории. Рассказывая о первых шагах, сделанных Екатериной на пути любовных увлечений еще до ее приезда в Россию, Лаво писал, бесспорно, не как историк: по его словам, у Екатерины будто бы еще в Штеттине был любовник, граф Б., который думал, что женат на ней, но брак этот был фиктивным, так как во время венчания Екатерину заменила перед алтарем одна из подруг ее, скрытая под уалью. Это просто глупая сказка. Мелкие немецкие дворы не были, разумеется, образцами добродетели; но принцессы их все-таки не предавались разврату с четырнадцати лет. Впоследствии в Москве и в Петербурге Екатерина, по словам того же Лаво, отдавалась почти что первому встречному в доме некой графини Д., причем ее бесчисленные любовники не знали, с кем имеют дело: Салтыков уступил место какому-то скомороху Далолио, венецианцу по происхождению, и тот тоже устраивал своей августейшей любовнице на несколько дней новые знакомства в доме Елагина. Лаво повторяет здесь россказни, не имеющие за собой даже тени фактического основания. Послушаем, что говорит Сабатье де Кабр, свидетель прекрасно осведомленный и вполне беспристрастный. В записке, составленной им в 1772 году, читаем: «Не будучи безупречной, она (Екатерина) далека в то же время от излишеств, в которых ее обвиняют. Никто не мог доказать, чтобы у нее была с кем-нибудь связь, кроме трех всем известных случаев: с Салтыковым, с польским королем и с графом Орловым».
Приехав в Россию, Екатерина застала здесь общество и двор, не более, но и не менее развращенные, чем все придворные круги Европы, и наверху общества, на самых ступенях трона, ту форму разврата, примеры которого можно было видеть почти на всех престолах Запада, в том числе и во Французском королевстве, – а именно фаворитизм. После смерти Петра I русский престол непрерывно занимали женщины; у них были любовники, как у Людовика XV – любовницы; и избранник русской императрицы Бирон пользовался в России той же властью, что и любимица короля маркиза Помпадур – во Франции. Как Людовик XIV тайно женился на г-же Ментенон, так Елизавета вышла замуж за Разумовского. Разумовский был сыном крестьянина-малоросса и начал свою карьеру певчим в императорской капелле; но и вдова Скаррона не могла похвалиться очень родовитым происхождением. Шубин, предшественник Разумовского, был простым гвардейским солдатом: он был достоин Дюбарри. И еще раньше, когда возле колыбели Людовика XIV Францией правили женщины, положение синьора Мазарини при французском дворе должно было производить на людей, готовых всему удивляться, не менее странное впечатление, чем роль Потемкина при Екатерине полтораста лет спустя. Впрочем, к чему вызывать такие далекие воспоминания? Ведь Струэнзе, Годой, лорд Актон были современниками фаворитов Екатерины II.
Фаворитизм был в России тем же, что и в других странах. И только вследствие своего необыкновенного развития при Екатерине, он получил в ее царствование особый оттенок. На этот раз во главе государства стала женщина страстная и безудержная. У нее были фавориты, как и у Елизаветы Петровны и у Анны Иоанновны, но по самому своему темпераменту и нраву, по склонности все делать широко, она придала этому традиционному на русском престоле порядку – или, если хотите, беспорядку – вещей невиданные прежде размеры. Анна сделала из конюха Бирона только герцога Курляндского, а Екатерина возвела Понятовского на престол Польского королевства. Елизавета ограничилась двумя официальными фаворитами: Разумовским и Шуваловым; Екатерина насчитывала их десятками. Но это еще не все: она не только всегда и во всем преступала общепринятые границы; но ее властный, самодовлеющий, презрительный к установленным правилам морали ум стремился возводить в закон собственную волю, желание или даже каприз. При Анне и Елизавете фаворитизм был не более чем прихотью их; при Екатерине он стал почти государственным учреждением.
Однако он принял такой характер не сразу. До 1772 года Екатерина отдавала часть своего времени любви, как то делали предшествовавшие ей императрицы, и об ее увлечениях говорили, как и об увлечениях Елизаветы, не находя в них ничего исключительного. Даже напротив. Хотя граф Сольмс и писал Фридриху про Григория Орлова, что «можно было бы найти ремесленников и лакеев, сидевших с ним недавно за одним столом», но прибавлял при этом: «В России так привыкли к фаворитизму, так мало удивляются быстрому возвышению неизвестного прежде лица, что все приветствуют выбор этого кроткого и вежливого молодого человека, который не выказывает ни гордости, ни застенчивости, остается на той же дружеской ноге со своими прежними знакомыми, узнает их даже в толпе, не вмешивается вовсе в государственные дела, а если и делает это иногда, то только для того, чтобы замолвить слово за кого-нибудь из своих приятелей». Григорий Орлов, правда, недолго удовлетворялся этой скромной и незаметной ролью, или, вернее, ею не удовлетворялась для него Екатерина; граф Сольмс вскоре писал опять: «Страсть ее величества, все усиливается, и она пожелала, чтобы он (Орлов) принял участие в делах. Она ввела его в комиссии, учрежденные для преобразования государства». И только тут, если верить прусскому посланнику, и разразилось общественное недовольство. Гетман Разумовский и граф Бутурлин, оба генерал-адъютанты, находили несовместимым со своим достоинством, чтобы офицер, еще недавно стоявший неизмеримо ниже их, считался бы теперь им равным. Другие русские сановники, князья и генералы, которым приходилось ожидать в передних временщика минуты его пробуждения, чтобы присутствовать потом на его утреннем выходе, сильно на это негодовали. Обер-камергер граф Шереметев, один из самых именитых и богатых русских вельмож, и первые чины двора, по своему положению, обязанные эскортировать экипаж императрицы, были оскорблены тем, что Орлов сидел развалясь рядом с Екатериной, в то время как они верхом шлепали по грязи возле дверец кареты…
Впрочем, и в этом не было ничего нового, и старики, помнившие царствование Анны и ненавистную всем бироновщину, находили теперешний режим, сравнительно с прошлым, вполне терпимым. Притом у Григория Орлова не было никаких поползновений пользоваться ради личных выгод тем значением, которое, немного против его воли, навязала ему Екатерина в деле управления страной. Вспышки честолюбия бывали у него редко и быстро проходили. Вмешиваясь в политику, он в большинстве случаев только повиновался воле императрицы и то с недовольным, угрюмым лицом. Он старался стушеваться, уйти от дел. Это был сладострастный, ленивый и добрый человек. На той головокружительной высоте и в опьяняющей атмосфере, куда неожиданно вознесла его судьба, он жил словно в полусне, не сознавая реального мира, который все более ускользал от него, пока совсем не исчез, и Орлов не погрузился в глубокую тьму безумия.
Но увлечение Екатерины Орловым было понятно и даже окружено некоторым ореолом: этот человек рисковал для нее жизнью, и она любила его – или думала, что любит, – не только чувственной любовью. Расставаясь с ним, она страдала глубоко и сильно, и когда он умер, оплакивала его искренними, горькими слезами.
Скандальная хроника императрицы началась, в сущности, лишь после, опалы первого фаворита. С Васильчиковым в 1772 году в жизнь Екатерины влилась струя материальной, грубой и бесстыдной чувственности. А с появлением Потемкина в 1774 году Екатерина стала делить свою императорскую власть со случайными любовниками и придала этим новый характер своему царствованию. Фавориты теперь быстро чередовались один за другим: в июне 1778 года англичанин Гаррис отмечает возвышение Корсакова, а в августе говорит уже об его соперниках, которые стараются отбить у него милости императрицы; их поддерживают: с одной стороны Потемкин, с другой – Панин вместе с Орловым; в сентябре Страхов, «шут низшего разбора», одерживает над всеми верх; четыре месяца спустя его место занимает майор Семеновского полка, некто Левашев; молодой человек, покровительствуемый графиней Брюс, Свейковский, пронзил себя шпагой в отчаянии, что ему предпочли этого офицера. Корсаков опять на минуту возвращается к прежнему положению; он борется теперь с каким-то Стояновым, любимцем Потемкина, но все они должны уступить дорогу Ланскому; Ланского сменяет Мамонов; у Мамонова временно отбивают место Милорадович и Миклашевский, и т. д. и т. д… Это какой-то безудержный поток: и в 1792 году, в шестьдесят три года, Екатерина опять начинает с Платоном Зубовым, и, по-видимому, с его братом Валерьяном, главу романа, прочитанную ею прежде с двадцатью другими предшественниками.
Было ли это с ее стороны только чувственная распущенность, против которой, вместе с ее целомудрием и достоинством, не мог устоять и ее светлый ум гениальной женщины? Мы думаем, что нет. Мы имеем здесь, по-видимому, дело с древней, как мир, но всегда новой проблемой, которая в наши дни вызывает большие споры и страстные требования. Вопрос отношений Екатерины к ее фаворитам – это вопрос отношений двух полов и с физической и с духовной точки зрения; и в жизни великой императрицы он получает, полагаем мы, бесспорное разрешение в ярком свете исторического опыта. Вот исключительная женщина – исключительная и в умственном, и в моральном, и даже в физическом отношении; исключительно свободная, по своему сану от рабства, которое налагает на женщину ее пол, и имеющая за собой полную независимость и всяческую власть – власть самодержавную. И что же? Нет, не только ненасытная и неодолимая чувственность бросала Екатерину в объятия Зубова или Потемкина. В любовной одиссее, перипетии, которой были только что рассказаны нами, мы видим иную потребность, другой категорический императив. Как ни была сильна воля Екатерины, как ни был тверд ее ум и высоко то представление, которое она составила себе и сохранила до конца жизни о своих способностях и дарованиях, она находила, что они все-таки недостаточны и сами по себе; и для служения ее государству: она считала необходимым укрепить их силой мужского ума, мужской воли, хотя бы этот ум и воля и стояли в отдельном случае ниже ее собственных. И она этого не скрывала! Когда она говорила Потемкину, что она без него «как без рук», то это не была пустая фраза в ее устах. В 1788 году, когда фаворит был в Крыму, письма, которые писал ему его доверенный человек Гарновский, остававшийся в Петербурге, полны упреков и настойчивых требований, чтобы Потемкин возвращался скорее, так как его отсутствие вредно отзывается на делах и на настроении императрицы, «смущенной в духе, подверженной беспрестанным тревогам и колеблющейся без подпоры». В этом и лежит разница в исторической роли завоевателя Тавриды и его соперников и теми примерами женского фаворитизма, которые мы видели на Западе. Людовик XV только терпел влияние своих любовниц и допускал по слабоволию их вмешательство в правительственные дела; Екатерина этого вмешательства требовала и просила.
И это еще не все. Ланскому и Зубову исполнилось двадцать два года, когда они были призваны занять место Потемкина. И на замечание Николая Салтыкова, позволявшего себе говорить с Екатериной без стеснения и удивлявшегося тому, что ее выбор остановился на Зубове, бывшем на сорок лет моложе императрицы, она ответила ему словами, которые невольно вызывают улыбку, но указывают на другую неоспоримую черту des ewig Weiblichen: «Я делаю государству немалую пользу, воспитывая молодых людей». И она искренно верила тому, что говорила! В ее ревностном старании посвятить этих своеобразных учеников в управление государственными делами, в заботливости, с которой она следила за их успехами, была действительно некоторая доля материнства. И таким образом неисцелимая слабость женской природы, с одной стороны, а с другой – возвышенное стремление принести пользу своему народу заставили гордую и властную самодержицу искать опору в мужчине.
Без сомнения, – иначе, впрочем, Екатерина и не была бы сама собой, – она и в своей интимной жизни преследовала отчасти политический расчет, как ни кажется это странным. Но это подтверждается фактами; и так необычайна судьба этой великой руководительницы людей, что факты эти даже оправдывают ее в определенном отношении: воспитанный и смягченный ею, прошедший ее строгую политическую школу на всех ступенях административных и военных должностей – хотя и поднимаясь по ним, правда, чрезвычайно быстро – Потемкин стал в конце концов крупной фигурой в роли всемогущего министра. Зорич был незаметным гусарским майором, когда по воле императрицы поселился на несколько месяцев в особых апартаментах, сообщавшихся потайной лестницей с внутренними покоями Екатерины. А впоследствии он занял видное место среди деятелей, работавших для народного просвещения России! Мы ничего не выдумываем: Зорич первый создал план военной школы по образцу заграничных. В его великолепном поместье Шклове, расположенном невдалеке от Могилева и пожалованном ему при его отставке, он основал училище для сыновей бедных дворян, которое было с течением времени преобразовано в кадетский корпус и переведено в Москву в виде первой военной гимназии этого города.
Екатерина, разумеется, не могла бы достигнуть этих чудес, если бы ей не помогала та историческая рамка, в которой ей приходилось действовать, и вне которой и ее собственное славное царствование было бы немыслимо. С Зоричем, Потемкиным, Мамоновым и десятками других имен ее двор действительно походил на Герольдштейн, но Герольдштейн, в котором комический, грубый элемент сочетался с серьезным и который создал одну из самых оригинальных страниц в летописях мира. Россия до сих пор остается самобытной страной, стоящей как бы вне Европы, и Екатерина была тоже совершенно незаурядной женщиной. Только соединение этих двух условий и могло превратить героев оперетки в главных действующих лиц человеческой драмы, разыгравшейся на одной из величайших сцен мира. И благодаря этому к истории России того времени, истории, подобной сказочной феерии, и не приложимы мерки, которыми судят обыденные события.
Наконец, и еще с одной точки зрения фаворитизм в том виде, какой придала ему Екатерина, не был результатом больной чувственности, ищущей все новых наслаждений. В безумии Гамлета была определенная методичность; а в жилах Екатерины текла отчасти кровь датчанки. Мы уже указывали на это: она создала из фаворитизма правительственное учреждение.
В депеше Корберона, посланной им графу Верженну из Петербурга 17 сентября 1778 года, мы читаем следующие строки:
«В России замечается по временам род междуцарствия и делах, которое совпадает со смещением одного фаворита и появлением нового. Это событие затмевает все другие. Оно сосредоточивает на себе все интересы и направляет их в одну сторону; даже министры, на которых отзывается это общее настроение, приостанавливают дела, пока окончательный выбор временщика не приведет всех опять в нормальное состояние и не придаст правительственной машине ее обычный ход».
Итак, фаворитизм был в России основным колесом ее государственного механизма. Как только оно останавливалось, вся машина переставала работать. Впрочем, такие междуцарствия бывали обыкновенно непродолжительны. Только одно из них длилось несколько месяцев – после смерти Ланского (в 1784 году) до возвышения Ермолова. В большинстве же случаев дело решалось в двадцать четыре часа, и самый ничтожный министерский кризис вызывает в наше время больший переполох. В кандидатах никогда не было недостатка. Место было хорошее, и о нем мечтало не одно честолюбивое сердце – в гвардии, этой традиционной поставщице временщиков, было всегда два или три красивых офицера, которые упорно смотрели в сторону императорского дворца с более или менее скрытым желанием и надеждой. Время от времени один из них появлялся при дворе, представленный каким-нибудь крупным сановником, который пытал счастья провести к императрице своего человека и поставить его на пост, служивший источником всяческого богатства и почестей. В 1774 году племянник графа Захара Чернышева, князь Кантемир, молодой и беспутный малый, весь в долгах, но прекрасный собой, упорно бродил несколько недель вокруг императрицы. Два раза, точно по ошибке, он входил в личные покои государыни. В третий раз он проник к ней, упал к ее ногам и умолял ее привязать его к своей особе. Она позвонила; Кантемира арестовали. Екатерина приказала посадить его в кибитку и отвезти к дяде, поручая сказать Чернышеву, что просит его образумить племянника: сама она к такого рода безумствам относилась очень снисходительно. Между прочим, Потемкину удалось почти такой же дерзкой выходкой обратить на себя внимание императрицы. Но обыкновенно пост временщика достигался ценой сложных интриг. Перейдя с 1776 года на положение почетного фаворита, Потемкин стал представлять Екатерине прошедших у него школу и находившихся под его влиянием молодых людей, предоставляя одного из них ее выбору. Но и избранникам и ему стоило громадных усилий удержать за собой завоеванное место: короткого отсутствия, болезни, минутной слабости было достаточно, чтобы погубить все дело.
Само название фаворита, так образно звучащее по-русски – временщик, указывало баловням судьбы, как призрачно их быстротечное и невозвратное, как время, счастье. В 1772 году, отправившись в Фокшаны для заключения мирного договора с Турцией, Григорий Орлов узнал, что Васильчиков занял так неосторожно оставленный им пост. Орлов сейчас же помчался в Петербург почти без отдыха, как курьер, он проехал одним духом три тысячи верст, не останавливаясь ни для сна, ни для обеда. И все-таки он приехал слишком поздно. В 1784 году Ланской заболел и, боясь впасть в немилость, стал прибегать к искусственным возбудительным средствам, погубившим его здоровье и сведшим его в могилу. Иногда же случалось, что, взлетев в одно мгновение на головокружительную высоту, соседнюю с царским престолом, фавориты начинали забываться: Зорич считал все для себя позволенным, даже измену той женщине, которая вывела его из ничтожества. Мамонов хотел, чтобы она позволила ему делить любовь между ней и ее фрейлиной, в которую он влюбился. Но этого было довольно: на ближайшем вечернем приеме все замечали, что императрица пристально смотрит на какого-нибудь неизвестного поручика, представленного ей лишь накануне или терявшегося прежде в блестящей толпе придворных; на следующий день становилось известно, что он назначен флигель-адъютантом ее величества. Все понимали, что это значит. Днем молодого человека коротким приказом вызывали во дворец: здесь он знакомился с лейб-медиком государыни, англичанином Роджерсоном. Затем его поручали заботам графини Брюс, а впоследствии фрейлины Протасовой; щекотливые обязанности этих дам не поддаются более точному определению. После этих испытаний его отводили в особое помещение фаворитов, в котором временщики сменялись чаще, чем французские министры в министерских отелях. Апартаменты стояли уже пустыми и были готовы для вновь прибывшего. Его ожидали здесь всевозможная роскошь и комфорт, полное хозяйство, громадный штат слуг, и, открыв письменный стол, он находил в нем сто тысяч золотом, первый дар императрицы, за которым должны были последовать другие бесчисленные дары. Вечером перед собравшимся двором Екатерина появлялась, фамильярно опираясь на его руку, и когда было десять часов и она кончала игру и удалялась к себе во внутренние покои, новый фаворит проходил вслед за нею один…
Теперь он уже не мог выйти из дворца иначе, как в сопровождении своей августейшей подруги. Он был птицей, запертой в клетку, – клетку, правда, прекрасную, но которую зорко стерегли. Императрица принимала свои меры против возможных и неприятных случайностей, проученная горьким опытом предшествующих лет. Вот почему также все рассказы о том, будто двери Екатерины были широко открыты чуть ли не первому встречному, надо считать басней. Без сомнения, альков императрицы не был неприступной святыней, но проникнуть туда было, однако, очень нелегко; это не был проходной двор. В начале царствования Екатерина сделала, правда, несколько больших неосторожностей, имевших для нее очень неприятные последствия. В 1762 году офицер Хвостов, которому было поручено составить инвентарь гардероба покойной императрицы Елизаветы, был арестован под подозрением, что утаил драгоценностей на двести тысяч рублей. Вещи, принадлежавшие покойной государыне, были у городской дамы, одной из бесчисленных любовниц фаворита Григория Орлова, но находившейся также в связи и с Хвостовым. А тот – последний, по свидетельству Беранже, был с некоторых пор очень близок к новой царице, а может быть еще и в бытность ее великой княгиней уже пользовался ее милостями.
С тех пор Екатерина стала осторожнее: малейшие поступки временщика должны были подчиниться непреклонным правилам и бдительному надзору. Он ни у кого не бывал, не принимал ничьих приглашений. За все время, пока Мамонов был «в случае», он только раз получил разрешение отправиться на обед к графу Сегюру. Но и тут Екатерина не могла скрыть своей тревоги: выйдя из-за стола, французский посол и его гости увидели карету императрицы, медленно проезжавшую взад и вперед перед окнами посольства, точно государыня не находила себе места даже при этой минутной разлуке с любовником.
Год спустя тот же фаворит едва не потерял своего положения из-за вполне естественного и очень невинного нарушения этой суровой дисциплины, связывавшей его по рукам и ногам. В день своего ангела императрица соблаговолила принять от него в подарок серьги, которые, впрочем, сама прежде для него купила за 30 000 рублей. Великая княгиня увидела эти сережки и пришла от них в восторг. Екатерина сейчас же подарила их ей. На следующий день Мария Федоровна призвала к себе Мамонова, чтобы поблагодарить его, как виновника, хоть и невольного, так неожиданно полученной ею милости от государыни. Временщик хотел отправиться к ней, считая себя не вправе отказаться от приглашения, исходившего от супруги наследника престола; но Екатерина, которую предупредили об этом, страшно рассердилась; она резко упрекала своего друга, а великой княгине послала сказать, чтоб она никогда не позволяла себе впредь ничего подобного! Павел хотел помочь горю, подарив фавориту золотую табакерку, усыпанную брильянтами; Екатерина разрешила Мамонову пойти поблагодарить его, но в сопровождении доверенного лица, выбранного по ее указанию: Павел отказался принять Мамонова на таких условиях.
Но надо признать, что и фавориты, со своей стороны, тоже защищались, как умели, от возможной неверности Екатерины, хотя бы и случайного характера, так как она могла повлечь за собой их опалу и победу соперника. Все свое влияние – а оно было у них громадно – они употребляли на то, чтобы следить за Екатериной так же зорко, как она следила за ними. За то время, когда фаворитом был Потемкин – он считался им и после того, как уступил свое место в спальне императрицы избираемым им лично молодым людям – т. е. в течение пятнадцати лет, с 1774 до 1789 года, он своей властной волей ставил неодолимые препятствия малейшему любовному порыву Екатерины. Он был способен употребить при случае даже насилие против этой женщины, которая, раз отдавшись ему, сделала себе из него настоящего господина.
И, наконец, надо принимать в расчет еще одно обстоятельство, которое показывает, что Екатерина не была так неразборчива в своих увлечениях, как то многие говорили: ее фавориты, все без исключения, были людьми в полном расцвете сил и в большинстве случаев богатырского сложения. Далее, Екатерина выбирала их себе все более молодыми. Братьям Зубовым было одному двадцать два года, а другому восемнадцать лет, когда она остановила на них свое внимание. Мы знаем возраст Ланского и знаем также причину его преждевременной смерти.
Но сколько же именно фаворитов было с восшествия Екатерины на престол и до ее кончины, т. е. с 1762 до 1796 года? Определить их число вполне точно – не так легко. Только десятеро из них занимали официально пост временщика со всеми его привилегиями и обязанностями: Григорий Орлов с 1762 до 1772 года; Васильчиков с 1772 до 1774 года; Потемкин с 1774 до 1776 г., Завадовский с 1776 до 1777 г.; Зорич с 1777 до 1778 г.; Корсаков с 1778 до 1780 г.; Ланской с 1780 до 1784 г.; Ермолов с 1784 до 1785 г.; Мамонов с 1785 до 1789 г.; и Зубов с 1789 до 1796 года. Но при Корсакове в жизни Екатерины был временный перелом, когда она увлекалась сразу очень многими молодыми людьми, и один из этих ее вздыхателей, Страхов, несомненно, был близок к ней, – это установлено почти с полной достоверностью, – хотя и никогда не занимал помещения, отведенного во дворце фаворитам. То же могло, конечно, повториться и с другими. Осматривая Зимний дворец несколько лет спустя после смерти Екатерины, один путешественник был поражен убранством двух маленьких гостиных, расположенных рядом со спальней императрицы; стены одной из них были сверху донизу увешены очень ценными миниатюрами в золотых рамах, изображавшими сладострастные и любовные сцены; вторая гостиная была точной копией первой, но только все миниатюры ее были портретами – портретами мужчин, которых любила или знала Екатерина.
Среди этих избранников ее сердца многие отплатили черной неблагодарностью государыне, осыпавшей их всех неизменно своими благодеяниями. Но Екатерина никогда не преследовала их за это и никогда не давала чувствовать им своего гнева или мести – даже тогда, когда они изменяли ей или пренебрегали ею. Да, любовники обманывали ее и бросали ее, как и всякую заурядную женщину: ни ее могущество, ни очарование, ни власть, которую она дарила им вместе со своей любовью, не могли спасти ее от горестей, бывших от начала мира уделом всех женских любящих сердец, будь то сердце императрицы или простой гризетки. В 1780 году Екатерина застала Корсакова в объятиях графини Брюс. В 1789 году Мамонов сам отказался от государыни, чтоб жениться на ее фрейлине. Так что, в общем, Екатерина была, пожалуй, даже менее непостоянной, нежели те, которых она любила. Говоря об отъезде Мамонова, поселившегося с молодой женой в Москве и вскоре разочаровавшегося в семейном счастье, граф Сегюр писал графу Монморену:
«Можно снисходительно закрывать глаза на ошибки великой женщины, – потому что она даже в своих слабостях проявляет столько самообладания, столько милосердия и великодушия. Редко бывает, чтобы при самодержавной власти ревность оставалась сдержанной, и подобный характер может осуждать неумолимо только человек без сердца и государь, не знающий увлечений».
Может быть, граф Сегюр судил Екатерину слишком снисходительно? Но зато и Сен-Бёв был слишком строг к ней, когда ставил ей в вину именно этот ее миролюбивый способ расставаться с возлюбленными, когда они переставали нравиться ей, – способ, так редко отличающий ее от Елизаветы Английской и Христины Шведской. То, что она осыпала бывших фаворитов подарками вместо того, чтобы убивать их, казалось Сен-Бёву оскорбительным, так как «в этом – по его словам, – ярко выражалось ее презрение к людям и народам». Но этот суровый приговор несправедлив прежде всего своей фактической стороной: ни Корсаков, ни Мамонов не переставали нравиться Екатерине в ту минуту, когда она узнала об их измене. Она старалась вернуть их себе, особенно последнего, и при расставании с ними страдала не только ее гордость. Ее увлечения часто, слишком часто, объяснялись тем, что она была одной из женщин, которые стремятся брать свое наслаждение там, где его находят; но английский дипломат, написавший: «She was stranger to love», мало понимал, думаем мы, в женской психологии.
Прежде чем разойтись с Григорием Орловым, Екатерина вытерпела от него то, что редкая женщина была бы способна перенести. Уже в 1765 году, за семь лет до окончательного разрыва между ними, Беранже доносил из Петербурга герцогу Пралену:
«Этот русский открыто нарушает законы любви по отношению к императрице. У него есть любовницы в городе, которые не только не накликают на себя гнев государыни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются ее покровительством. Сенатор Муравьев, заставший с ним свою жену, чуть было не произвел скандала, требуя развода; но царица умиротворила его, подарив ему земли в Лифляндии».
Но наконец чаша терпения переполнилась, Екатерина воспользовалась отсутствием фаворита, чтобы разорвать связывающие ее с ним цепи. В то время, как Орлов мчался к ней из Фокшан на почтовых, надеясь вернуть себе утраченные права, его остановил в нескольких стах верст от Петербурга приказ императрицы: ему предписывалось отправиться в свои имения и не выезжать оттуда. Но Орлов все еще не считал дело проигранным; он то умолял, то грозил, прося, чтобы ему хоть на минуту позволили свидеться с Екатериной. A ей стоило сказать тогда только слово, чтобы навсегда освободиться от отверженного фаворита: Потемкин стоял уже у власти и охотно стер бы с лица земли всех ненавистных ему Орловых, вместе взятых. Но этого слова, которого в конце концов, видя настойчивость первого временщика, все стали даже требовать от нее, Екатерина не произнесла. Она вместо этого вступила с Орловым в переговоры и предложила бывшему любовнику, наказанному за прошлое, полное измен, только изгнанием, тогда как он мог бы потерпеть от нее несравненно более жестокую кару, – особое соглашение.
Это письмо Екатерины – оно было послано брату Орлова, Ивану, – настоящая поэма женского всепрощения: Екатерина просила графа Григория Григорьевича забыть прошлое, ссылалась на его совесть, голос которой должен был избавить их от взаимно-тягостных объяснений, указывала на необходимость временной разлуки, и писала все это бесконечно кротким, почти смиренным, умоляющим тоном. Пусть Орлов возьмет отпуск, поселится в Москве или в своих имениях, или где-нибудь в другом месте, где пожелает. Его ежегодное содержание в 160 000 рублей будет ему сохранено; кроме того, он получит еще 100 000 р. на покупку дома. Пока же он может занять любую подмосковную дачу императрицы, пользоваться, как и раньше, придворными экипажами, оставить при себе прежних слуг в императорской ливрее. Вспомнив, что она обещала ему 4 000 душ крестьян за Чесменскую битву, в которой он, между прочим, не принимал никакого участия, Екатерина прибавила к ним еще 6 000 душ, которых он мог выбрать себе в одном из казенных имений. И, как будто боясь, что и этого еще мало, что она недостаточно отблагодарила его, Екатерина осыпала его сверх всего царски щедрыми подарками: он получил парадный серебряный сервиз, другой «для ежедневного употребления», затем дом у Троицкой пристани, всю мебель и вещи, украшавшие в императорском дворце апартаменты фаворита, «о коих сам граф Григорий Орлов о многих не знает»… Взамен Екатерина просила у него только год отсутствия. Через год бывшему фавориту будет легче обсудить свое положение. Что же касается чувств самой Екатерины, то она писала: «Я никогда не позабуду, сколько я всему роду вашему обязана и качества те, коими вы украшены и поелику отечеству полезны быть могут». Она желала только покоя: «Я же в сем иного не ищу, как обоюдное спокойствие, кое я совершенно сохранить намерена».
Возможно, что императрицей руководил при этом отчасти страх навлечь на себя гнев могущественных братьев Орловых, которым она сама создала первенствующее значение в государстве, но разве не слышится в ее письме и теплое чувство прежней любви, еще не угасшей в ней?
Одиннадцать лет спустя, узнав о смерти первого временщика, Екатерина писала:
«Потеря князя Орлова так поразила меня, что я слегла в постель с сильнейшей лихорадкой и бредом: мне должны были пустить кровь».
Печальное известие пришло к ней в июне 1783 года, два месяца спустя. Отправляясь в Фридрихсгам, навстречу шведскому королю, она заранее поставила условием, чтоб Густав не касался в разговоре кончины Орлова, так как мысль о ней до сих пор переворачивает ей душу. Она, впрочем, первая заговорила с ним об этом, делая над собой страшное усилие, чтобы скрыть свое смущение и волнение, которое неизменно охватывало ее при этом уже далеком воспоминании. А между тем еще при жизни Орлова у нее было несколько его заместителей, которые должны были бы, по-видимому, вытеснить его из ее сердца. Ведь не пустая прихоть, как то думал Гримм, бросила ее, например, в 1778 году в объятия Корсакова.
«Прихоть? Прихоть? – ответила она на вопрос об этом. – Знаете ли вы, что эти слова вовсе не подходят, когда речь идет о Пирре, царе Эпирском» (прозвание, данное ею новому фавориту), «который приводит в смущение всех художников и в отчаяние скульпторов? Не прихоть, милостивый государь, а восхищение, восторг перед несравненным творением природы! Все красивые вещи, созданные людьми, падают и разбиваются, как идолы, перед творениями Господа, перед тем, что создано Великим. Никогда Пирр не делал жеста или движения, которое не было бы полно благородства и грации. Он сияет, как солнце, и разливает свой блеск вокруг себя. В нем нет ничего изнеженного; он мужественен и именно таков, каким бы вы хотели, чтобы он был: одним словом, это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармонично; нет ничего, что бы выделялось: такое впечатление производят дары природы, объединенные в своей красоте; искусство тут ни при чем; о манерности и говорить не приходится…»
Допустим, что чувство, говорившее здесь в Екатерине, и не глубоко, и не тонко. Но Корсаков и был просто красивым мужчиной, не больше. Но вот на сцене появляется другой герой сердечной драмы Екатерины – гениальный Потемкин. Прочтите эти строки, написанные фаворитом во время короткой размолвки с императрицей. Екатерина ответила ему на них по пунктам, на полях его же письма, и, примирившись, они заключили между собой как бы договор вечной любви:
Письмо Потемкина.
Приписки, сделанные рукой Екатерины.
«Позволь, голубушка, сказать последнее, чем, я думаю, наш процесс и кончится. Не дивись, что я беспокоюсь в деле любви нашей. Сверх бессчетных благодеяний твоих ко мне, поместила ты меня у себя в сердце. Я хочу быть тут один преимущественно всем прежним для того, что тебя никто так не любил; а как я дело твоих рук, то и желаю, чтоб мой покой был устроен тобою, чтобы ты веселилась, делая мне добро; чтоб ты придумывала все к моему утешению и в том бы находила себе отдохновение по трудам важным, коими ты занимаешься по своему высокому званию.
Аминь».
Дозволяю.
Чем скорее, тем лучше.
Будь спокоен.
Рука руку моет.
Твердо и крепко.
Есть и будет.
Вижу и верю.
Душою рада.
Первое удовольствие.
Само собою придет.
Дай успокоиться мыслям, дабы чувства действовать свободно могли; они нежны, сами сыщут дорогу лучшую.
Аминь».
Нельзя не согласиться, что это обмен чувств далеко не банальных, и что когда два существа, поставленные на высоте человеческого могущества, говорят таким языком о своей любви, то их не назовешь людьми, предающимися грубому разврату. Мечтательный, беспокойный, властный ум Потемкина весь сказался в этом письме, как и рассудительная и в то же время экзальтированная натура Екатерины. Спокойными размышлениями императрица всегда брала верх над фаворитом, но зато он часто побеждал ее пылкостью своего темперамента. Лучшая часть их переписки опубликована. Эта переписка поразительна, она единственна в своем роде не только по высокому положению и по взаимным отношениям возлюбленных: во второй половине восемнадцатого века, может быть, не всякие куртизанки решились бы на такие свободные и фамильярные выражения, которыми пестрят письма Екатерины, особенно в первые счастливые годы ее союза с Потемкиным. Мы не говорим уже о таких фразах, как: «Обнимаю вас тысячу раз, мой друг…», «Простите, если надоедаю вам, душа моя», «Я вас, ваша светлость, очень, очень и очень люблю…», как ни неожиданны подобные нежности в письме императрицы. Но вот записочка, которая кончается словами: «Прощай, мой котик…»; «Прощай, соколик…», – читаем мы в другой; или еще: «Прощай, батенька». Любовники часто ссорились: у Потемкина был тяжелый характер; он мог из-за пустяка раздражиться и выйти из себя. Тогда Екатерина писала ему: «Я хотела тебе вчера сказать, голубчик, впредь ты не будешь ласковее давешнего, то… то… то…, право, обедать не буду…» В другом ее письме, где дело идет, по-видимому, о желании строптивого любовника удалиться в монастырь, она писала (по-французски): «Ваш план, который вы составляли в течение четырех или пяти месяцев (о нем, NB, знают весь город и предместье), вонзает кинжал в сердце вашей подруги, которая любит вас больше всего на свете и думает только о вашем действительном и неизменном счастье; разве такой план может делать честь уму и сердцу того, кто его составил и приводит его теперь в исполнение?»
Фаворит, естественно, не оставался перед Екатериной в долгу и тоже изощрялся в образном и нежном языке любви. Но все-таки, несмотря на весь свой пыл, – и это очень характерно для его удивительной идиллии с Екатериной, – он никогда не забывал громадного расстояния, отделяющего его от августейшей подруги. В его словах, еще более трепетных и страстных, чем у императрицы, всегда звучала некоторая торжественность, чуждая ее фамильярному тону: «Я получил ваше милостивое писание. Сколь мне чувствительны его изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери…» Вот его обычный стиль. Он говорил ей «ты» только в той форме воззвания, обращаясь к государыне, «делом рук» которой называл себя, как обращаются к Богу. Сохранились другие образчики его любовной переписки. Он виртуозно владел в ней пером; богатство восточной фантазии, мечтательность Севера и изящество тонких и грациозных образов, примеры которых дает Запад, своеобразно сочетались в ней:
«Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь… Приезжай, сударушка, пораньше, о мой друг! утеха моя и сокровище бесценное, ты, ты дар Божий для меня… Матушка-голубушка! дай мне веселиться зрением тебя, дай мне радоваться красотою лица и души твоей; мне голос твой приятен!.. Целую от души ручки и ножки твои, прекрасная, моя радость!»
Но здесь Потемкин обращался к другой женщине, а не к Екатерине. Она тоже была для него матушкой, но непременно и государыней, перед которой он падал ниц, даже когда говорил ей о любви своей; и никогда он не назвал бы ее сударушкой или сударкой.
Заняв пост фаворита в 1774 году, Потемкин уступил его два года спустя Завадовскому. Он перестал быть любовником, но остался другом, и договор любви, заключенный между ним и Екатериной, сохранил таким образом свою силу. Этот договор был нарушен только много лет спустя, почти накануне смерти великолепного князя Тавриды, когда Зубов, завладев и апартаментами фаворитов в императорском дворце, и сердцем государыни, решил вытеснить оттуда старого временщика, который хотел когда-то царствовать в этом сердце один. Но до этой роковой для него перемены и обращении Екатерины к Потемкину, командовавшему и ее двором, и армией, и всем ее государством, почти не замечалось перемены, и если он не был уже близок к ней, как к женщине, то новых любовников она принимала из его рук и не только осыпала его богатством и почестями, но и недвусмысленно давала ему понять, что ее любовь к нему неизменна:
«Прощайте, мой друг, – писала она ему, – будьте здоровы. Саша тебе кланяется».
Это было написано 29 июня 1783 года, и Саша – это был Ланской, новый фаворит и креатура Потемкина.
«Сашенька тебе кланяется и тебя любит, как душу, и часто весьма о тебе говорит», читаем мы в другом письме Екатерины от 5 мая 1784 года.
В сентябре 1777 года Потемкин получил в дар от императрицы 150 000 рублей. В 1779 году ему выдали авансом его годовое содержание в 75 тысяч за десять лет вперед – итого 750 000 рублей. В 1783 году Екатерина послала ему 100 тысяч, чтобы докончить постройку начатого им дворца, который она затем купила у него за несколько миллионов и тут же сейчас опять ему подарила. Он был фельдмаршалом, первым министром, князем, имел чины, ордена, всяческие почести и власть. При присоединении Крыма и во время второй турецкой войны он распоряжался делами бесконтрольно, как диктатор. Он поступал, как ему вздумается, по собственному капризу, и Екатерина держала себя перед ним, точно маленькая девочка, подчинившаяся гениальной воле. В течение месяцев он оставлял ее без извести, не удостаивал ее писем ответом. Тогда она жаловалась, но робко, почти смиренно:
«Я все это время была ни жива, ни мертва, оттого, что не имела известий… Для самого Бога, для меня, имей о себе более прежнего попечения, ничто меня не страшит опричь твоей болезни… Дальше она прибавляла по-французски: „Вы теперь, мой дорогой друг, не частное лицо, которое живет, как хочет, и делает, чт ему нравится: вы принадлежите государству, вы принадлежите мне“.
Ласковые слова и, между прочим, обращение «папа» встречаются опять в письмах прежней любовницы. Но зато она умела говорить с ним как императрица в те нередкие минуты, когда он при малейшей неудаче падал духом. В сентябре 1787 года, после, нападения турок на Кинбурн, он просил у нее позволение сейчас же сложить с себя командование. Н Екатерина не хотела об этом и слышать:
«Ободритесь и будьте уверены, что вы одолеете все, если будете иметь немного терпения; это истинная слабость с вашей стороны, чтоб, как пишешь ко мне, низложить свои достоинства и скрыться; отчего?» (Последняя фраза написана Екатериной по-русски).
Через несколько недель после этого буря уничтожила часть севастопольского флота. На этот раз Потемкин хотел не только оставить армию, но и эвакуировать Крым:
«Есть ли сие исполнишь, – писала ему Екатерина, – то родится вопрос, что же будет и куда давать флот севастопольский. Я надеюсь, что сие от тебя писано было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал… Я думаю, что всего бы лучше было, если б можно было сделать предприятие на Очаков, либо на Бендеры, чтоб оборону, тобою самим признанную за вредную, оборотить в наступление. Сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна и неприятелю, неужто ветер дул лишь на нас? Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может; все сие пишу к тебе как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более чем имеет расположения, нежели я сама, но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова… Я нахожу, что вы нетерпеливы, как пятилетний ребенок, тогда как дело, порученное вам теперь, требует непоколебимого терпения». (Последние слова по-французски).
Екатерина прибавляла, что разрешает ему приехать на некоторое время в Петербург. Но неужели, – писала она ему, – он просит ее об отпуске из армии потому, что боится, что кто-нибудь интригует во время его отсутствия против него. «Ни время, ни отдаленность и никто на свете не переменит моего образа мыслей к тебе и о тебе».
Эта манера предоставлять полную свободу лицам, облеченным ее доверием, и смотреть сквозь пальцы на способы, которыми они добивались для нее славы, отвечала, впрочем, политической системе Екатерины, как мы о том говорили выше. Но когда ее власть или личное вмешательство могли оказать непосредственное влияние на ход дел, она сейчас же проявляла свою самодержавную волю. На этой почве между ней и Потемкиным часто происходили столкновения, и тут ни любовь, ни дружба к нему не могли остановить Екатерину, когда она желала, чтобы он подчинился ее авторитету императрицы Фаворит давал ей тогда чувствовать свой непокладистый нрав, и отвечал ей то резким, то оскорбленным тоном. «Я вам указываю вашу пользу, – писал он ей, – а там делайте, как знаете…» – «Полно сердиться, – возражала Екатерина, – должен ты признать, что права я».
Поводы к подобным размолвкам бывали иногда очень щекотливого свойства. Однажды Потемкин выразил желание назначить инспектором в действующую армию одного из придворных императрицы. Но Екатерина восстала против этого выбора, находя, что временщик руководится в данном случае не совсем благовидным побуждением. Вот как она сама объясняла дело. Строки, напечатанные курсивом, написаны в ее письме по-французски:
«Позволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтобы ты себя обременял таким человеком, который в короткое время будет тебе в тягость: правда, она очаровательна, но, ухаживая за ней, нельзя ничего добиться. Это всеми признано, и бесчисленное семейство следит за ее репутацией. Друг мой, я привыкла говорить вам правду. Вы тоже говорите мне ее, когда представится случай. Доставьте же мне удовольствие выбрать на эту должность лицо, более подходящее для дела и которое знало бы службу, чтобы одобрение общества и армии увенчало ваш выбор и мое назначение. Я люблю доставлять вам удовольствие и не люблю отказывать вам, но я хотела бы, чтобы по поводу назначения на такой ответственный пост все бы говорили: вот прекрасный выбор; а не говорили бы: вот недостойный выбор человека, не имеющего представления об обязанностях, которые ему поручают. Заключайте мир, после чего вы придете сюда и будете тогда развлекаться, сколько вам угодно».
Екатерина забывала только прибавить при этом, что и она развлекалась теперь со своей стороны, даже не посоветовавшись на этот раз со своим другом насчет выбора новой «забавы». На горизонте показался Зубов и сразу проявил себя опасным соперником Потемкину не только в милостях императрицы, но и в той дружбе, которую она дарила по-прежнему могущественному временщику.
Задержанный войной на противоположном конце России, Потемкин был вне себя от бешенства; он писал, что придет вскоре в Петербург «выдернуть зуб», который причиняет ему боль. Но это не удалось ему. Он прибыл только для того, чтобы присутствовать при окончательном торжестве своего врага. Он возвратился на юг, стараясь скрыть обиду, но пораженный в сердце, и вскоре смерть спасла его от последних унижений опалы. Но надо сказать, что Екатерина сделала все от нее зависящее, чтобы примирить его с ее новым избранником, и письма, которые она посылала ему с этой целью, одни из самых любопытных в ее замечательной переписке с ним. Она передавала своему старому другу, уже пожертвованному ею во имя торжествующего любовника, комплименты, знаки внимания и тонкую лесть от «ребенка» и «новичка», как она называла нового фаворита, по свойственной ей привычке, не оставившей ее и в старости, давать любимому человеку ласкательные прозвания. «Дитя, – писала она, – находит, что вы умнее, остроумнее и любезнее всех, кто вас окружает; но держит это в тайне, потому что он не знает, что мне это известно».
Но Потемкин лести не поддавался. Он видел, что престиж его падает в глазах императрицы; и чувствовал, что его место занято невозвратно не только в помещении дворца, смежном с покоями ее величества, которое он и прежде спокойно уступал другим, но и в привязанности государыни, клявшейся сохранить ему дружбу до конца жизни, а теперь изменившей ему. Это было ему тяжело!
Впрочем, и до Зубова еще Потемкину пришлось пережить раз очень тревожное время. Среди фаворитов был один, которого Екатерина любила так, как она никогда никого не любила ни до, ни после него. По-видимому, этой необыкновенной женщине было суждено исчерпать всю длинную гамму чувств и ощущений в области страсти и любви. Ее любовь к Ланскому не походила ни на привязанность к Потемкину, ни на какое другое ее увлечение, которыми была так полна ее богатая переживаниями жизнь. Но Ланской не был честолюбив, и Екатерине не дано было надолго сохранить его при себе. 19 июня 1784 года молодой человек, в течение четырех лет составлявший все ее счастье и радость, на котором сосредоточились все ее помыслы, желания и мечты, которого она холила и нежила, как ни одного из прежних фаворитов, заболел какой-то необъяснимой болезнью. Доктор Вейкард был спешно вызван из Петербурга в Царское Село. Это был типический немецкий ученый, прямолинейный и грубоватый, неспособный смягчать правду и щадить чувства людей. Сидя на постели больного, Екатерина со страхом спросила его:
– Что у него?
– Злокачественная лихорадка, ваше величество, он от нее умрет.
Вейкард настаивал на том, чтоб императрицу удалили из комнаты больного. Он считал болезнь Ланского заразительной: насколько можно догадаться, это была тяжелая форма ангины. Но Екатерина не колебалась ни минуты между этими благоразумными советами и голосом сердца. Вскоре и у нее появились тревожные симптомы боли в горле. Но она не обратила на это никакого внимания, и через десять дней Ланской умер у нее на руках. Ему было двадцать шесть лет. Горе Екатерины было беспредельно:
«Когда я начала это письмо, я была в счастье и в радости, и мои мысли проносились так быстро, что я не успевала следить за ними, – писала она Гримму. – Теперь все переменилось: я страшно страдаю, и моего счастья нет больше: я думала, что не переживу невозвратимую потерю, которую понесла неделю назад, когда скончался мой лучший друг. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он тоже стремился к этому, старался привить себе все мои вкусы. Это был молодой человек, которого я воспитывала, который был благодарен, кроток, честен, который разделял мои печали, когда они у меня были, и радовался моим радостям. Одним словом, я, рыдая, имею несчастье сказать вам, что генерала Ланского не стало… и моя комната, которую я так любила прежде, превратилась теперь в пустую пещеру; я еле передвигаюсь по ней, как тень: накануне его смерти у меня заболело горло и началась сильнейшая лихорадка; однако со вчерашнего дня я уже на ногах, но слаба и так подавлена, что не могу видеть лица человеческого, чтобы не разрыдаться при первом же слове. Я не в силах ни спать, ни есть, чтение меня раздражает, писание изнуряет мои силы. Я не знаю, что станется теперь со мной; знаю только одно, что никогда во всю мою жизнь я не была так несчастна, как с тех пор, что мой лучший и любезный друг покинул меня. Я открыла ящик, нашла этот начатый лист, написала на нем эти строки, но больше не могу»…
Это было 2 июля 1784 года. И только два месяца спустя Екатерина возобновила свою переписку с Гриммом:
«Признаюсь вам, что все это время я была не в состоянии вам писать, потому что знала, что это заставит страдать нас обоих. Через неделю после того, как я вам написала последнее письмо в июле, ко мне приехали Федор Орлов и князь Потемкин. До этой минуты я не могла видеть лица человеческого, но эти знали, что нужно делать: они заревели вместе со мною, и тогда я почувствовала себя с ними легко; но мне надо было еще немало времени, чтобы оправиться, и в силу чувствительности к своему горю я стала бесчувственной ко всему остальному; горе мое все увеличивалось и вспоминалось на каждом шагу и при всяком слове. Однако не подумайте, чтобы вследствие этого ужасного состояния я пренебрегла хотя бы малейшей вещью, требующей моего внимания. В самые мучительные минуты ко мне приходили за приказаниями, и я отдавала их толково и разумно; это особенно поражало генерала Салтыкова. Два месяца прошли так без всякого облегчения; наконец наступили первые спокойные часы, а затем и дни. На дворе была уже осень, становилось сыро, пришлось топить дворец в Царском Селе. Все мои пришли от этого в неистовство, и такое сильное, что 6-го сентября вечером, не зная, куда преклонить голову, я велела заложить карету и уехала неожиданно и так, что никто не подозревал об этом, в город, где остановилась в Эрмитаже, и вчера в первый раз я видела всех и все меня видели; но, по правде сказать, это стоило мне страшного усилия, и когда я вернулась к себе в комнату, то почувствовала такой упадок духа, что всякая другая на моем месте, наверное, лишилась бы чувств… Я должна была бы перечитать ваше последние три письма, но положительно не в силах этого сделать… я превратилась в очень грустное существо, которое говорит только отрывочными словами… Все меня угнетает… а я никогда не любила внушать жалость…»
Один английский оратор, лорд Камельфорд, сказал, что Екатерина украшала престол своими пороками, как английский король (Георг III) бесчестил его своими добродетелями. Это сказано несколько сильно, но вряд ли кто-нибудь решится заклеймить неумолимым презрением пороки Екатерины, находившие порой такое трогательное выражение, как эта скорее о ее безвременной кончине Ланского.
Фаворитизм в царствование Екатерины имел большие неудобства, 1 декабря 1772 года французский полномочный министр в Петербурге Дюран доносил герцогу Эгильону, что по сведениям, дошедшим к нему из дворца, императрица так исключительно поглощена делом г. Орлова, что в продолжение двух месяцев не занимается ничем другим, ничего не читает и почти не подписывает бумаг. Прошло еще два месяца, но кризис все еще продолжился: «Эта женщина ничего не делает, – писал Дюран. – Пока будут поддерживать партию Орловых и заниматься ими, нам остается сидеть сложа руки». А подобные остановки в делах бывали часты. В феврале 1780 года английский посланник Гаррис явился к князю Потемкину, чтобы спросить его о судьбе важной записки, поданной им незадолго до того императрице. Но Потемкин ответил ему на это, что он выбрал неудачную минуту: Ланской был болен, и страх, что он умрет, так мучил государыню, что она была неспособна сосредоточить свое внимание на чем-либо постороннем. В такие минуты она забывала обыкновенно и свои честолюбивые мечты о славе, и политические интересы страны, и даже чувство собственного достоинства и отдавалась всецело тревоге о любимом человеке. При этом князь Потемкин выразил Гаррису опасение, что граф Панин может воспользоваться для своих намерений временной апатией императрицы и придать новое направление иностранной политике России. Три года спустя болезнь самого князя повергла Екатерину в полное отчаяние; маркиз Верак, собиравшийся уехать из Петербурга, не мог добиться при дворе прощальной аудиенции. Лица, близкие к императрице, увидев ее искаженное страданием лицо и красные заплаканные глаза, посоветовали ей не показываться в таком виде на людях. И аудиенцию отложили.
А в спокойное время, если фаворитизм и не останавливал правительственных дел, то отдавал их в руки людей, совершенно неспособных стоять во главе управления: какому-нибудь Мамонову, Зубову. И при этом не только сами фавориты, благодаря быстрому повышению, в один день превращались в генералов, фельдмаршалов и министров; но за ними тащилась длинная свита покровительствуемых ими ничтожеств. Затем каждый из них имел врагов, которых стремился оттеснить от дела. Так поступил Потемкин со знаменитым Румянцевым, отняв у России ее лучшего воина. Придворные партии со своей стороны тоже выдвигали иногда на сцену какого-нибудь честолюбца, чтобы через него погубить временщика. В 1787 году Мамонову показалось очень подозрительным появление при дворе молодого князя Кочубея, и он сумел устроить так, что Кочубея назначили послом в Константинополе. Что и говорить – это был своеобразно обоснованный выбор посланника! Но даже и после опалы короткие дни могущества фаворита не проходили бесследно. После смерти Потемкина секретарь его Попов был поставлен на место своего прежнего начальника во главе Екатеринославской губернии. Попов стал сейчас же самовластно всем распоряжаться при помощи магических слов: «Таковы были предположения покойного князя!» Он выдавал себя за хранителя воли и за покорное орудие своего «создателя», как он называл Потемкина. А между тем граф Ростопчин, знавший толк в людях, утверждал, что хотя Попов и управлял почти всей Россией еще при жизни Потемкина, прикрываясь его именем, но ничего не понимал в делах. У него было зато много посторонних занятий. В общем, Ростопчин знал за ним только одно достоинство: железное здоровье, позволявшее ему проводить напролет все дни и ночи за карточным столом. Несмотря на это, Попов имел большие чины, ордена и занимал должности, дававшие ему одного жаловании до пятидесяти тысяч в год. В феврале 1796 года Ростопчин писал опять: «Никогда преступления не бывали так часты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарем военной комиссии и прогнанный императрицей за хищения и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязани, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас крадет в год до 500 000 рублей».
Фаворитизм стоил дорого. Кастер вычислил, во что обошлись России десять главных его представителей; он присоединяет к ним еще какого-то неизвестного Высоцкого.
Получили:
Пять братьев Орловых….. 17 000 000 рублей.
Высоцкий……….…………….. 300 000»
Васильчиков…..……………. 1 100 000»
Потемкин…………………… 60 000 000»
Завадовкий….……………….. 1 380 000»
Зорич……….………………… 1 420 000»
Корсаков……….………………. 920 000»
Ланской……..……………….. 7 260 000»
Ермолов……….……………….. 650 000»
Мамонов……….……………….. 880 000»
Братья Зубовы………………. 3 600 000»
Расходы фаворитов…………. 8 600 000»
–
Итого… 92 600 000 рублей
Или, другими словами, 400 миллионов франков по курсу того времени. Приблизительно такую же цифру называет и английский посланник Гаррис. По его расчету, семейство Орловых получило с 1762 по 1783 годы от 40 до 50 тысяч душ крестьян и 17 миллионов рублей деньгами, дворцами, драгоценностями и посудой. Васильчиков за неполных два года: 100 000 рублей серебром, 50 000 р. золотыми вещами, дом с полной обстановкой стоимостью в 100 000 р., сервиз в 500 000 р., годовую пенсию в 20 000 р. и 7 000 душ. Потемкин за два года: 37 000 душ крестьян и драгоценностями, дворцами, пенсией, посудой около 9 000 000 р. Завадовский за полтора года: 6000 душ в Малороссии, 2000 душ в Польше, 1 800 душ в русских губерниях, 80 000 р. драгоценностями, 150 000 р. деньгами, сервиз в 30 000 р. и пенсию в 10 000 р. Зорич за год: имение в Польше ценою в 500 000 р., другое в 100 000 р. в Лифляндии, 500 000 наличными деньгами, 200 000 р. драгоценностями и командорство Мальтийского ордена в Польше, приносившее доходу до 12 000 рублей в год. Корсаков за шестнадцать месяцев: 150 000 рублей и при своем отъезде: 4000 душ в Польше, 100 000 р., чтоб расплатиться с долгами, 100 000 р. на первое обзаведение и 20 000 р. в месяц для путешествия за границей.
Эти цифры не требуют комментариев. В июле 1778 года кавалер Корберон писал из Петербурга графу Верженну:
«Новый фаворит Корсак (таково, по-видимому, первоначальное имя этого лица) только что произведен в камергеры. Он получил 150 000 рублей, и время его возвышения, которое вряд ли продолжится, будет по крайней мере блестящим для него и разорительным для государства. Это бедствие, от которого так страдает Россия, повторяется очень часто и вызывает ропот и недовольство в обществе, что могло бы иметь опасения впоследствии, если бы Екатерина II не была сильнее и предусмотрительнее всех, кто ее окружает. Все ропщут глухо, но она продолжает царствовать, и в силе ее духа – ее спасение… На днях в одном русском семействе вычислили, что стоил фаворитизм в настоящее царствование: общий итог достиг 48 миллионов рублей».
Но от фаворитизма страдала не только казна России. Князь Щербатов в полных достоинства выражениях указывал на развращающий характер этого учреждения, поставленного во главе общества и подававшего ему как бы пример. Рассуждая отвлеченно, временщики Екатерины, правда, соответствовали фавориткам Людовика XV, но к практической морали, как и к политике, отвлеченные понятия обыкновенно не приложимы, и различие полов до скончания веков, думаем мы, будет придавать глубоко неодинаковый характер одним и тем же поступкам, смотря по тому, совершены ли они мужчиной или женщиной.
И если Марии-Антуанетте пришлось многому удивляться и пережить не одну неприятную минуту при дворе тестя, то положение Марии Федоровны, второй супруги Павла, когда она соприкоснулась при своем приезде в Петербург с официальным скандалом двора императрицы, было несравненно тягостнее. Да к тому же любовницы Людовика XV никогда не влияли на судьбы Франции.
Один из товарищей Костюшко, Немцевич, рассказывает в своих «Записках», что, посетив в 1794 году дома, выстроенные для Екатерины при ее проезде в Крым в 1787 году, он заметил, что спальни государыни были везде устроены по одному образцу. Возле ее кровати висело большое зеркало, которое поднималось и опускалось на особой пружине; оно скрывало вторую кровать – кровать Мамонова. А Екатерине было в то время пятьдесят девять лет! Возвести беззастенчивость до такой откровенности – разве это не значило учить других разврату?
Очевидно, эта властная женщина просто не понимала, что она, как и все, подчинена непреложным законам женственности. Ведь сознательного, а тем более бравирующего цинизма в ней не было вовсе; нравственное чувство в ней не было убито, и ум не был извращен. Если оставить в стороне фаворитизм со всеми его последствиями, то Екатерина была скорее даже строга в области морали и вообще сдержанна и стыдлива. Целомудренность она ставила очень высоко и в разговорах иногда не позволяла себе ни одного двусмысленного выражения. Однажды по пути в Киев она просила графа Сегюра, сидевшего вместе с ней в экипаже, сказать ей какие-нибудь стихи. Он повиновался и стал читать стихотворение, по его словам, «немного легкомысленного и веселого содержания, но настолько приличное, что оно заслужило в Париже похвалы герцога Нивернэ и принца Бово, а также дам, добродетель которых равнялась их любезности». Но Екатерина нахмурила брови, перебила неосторожного посла каким-то не относящимся к делу вопросом и переменила разговор. В 1788 году адмирала Поля Джонса, приглашенного на русскую службу из Англии, обвинили в том, что он оскорбил молодую девушку, причисленную ко двору Екатерины. Императрица сейчас же отказала ему от места, как ни велик был в то время в России недостаток в людях, способных к командованию флотом. За подобный же поступок английский посланник Макартней тоже должен был оставить свой пост. В 1790 году, беседуя со своим секретарем о событиях, разыгравшихся во Франции, Екатерина обвиняла французских актрис, как она выражалась, «девок театральных», в том, что они развратили нравы всего народа. «От того и погибла Франция, – сказала она, – qu'on tombe dans la crapule et les vices; опера Буфф все перековеркала. Je crois que les gonvernantes franaises de vosfillessont des m… Смотрите за нравами!»
Она искренно не замечала при этом, что сама давно впала в разврат и содействовала падению нравов в России. Ей казалось вполне естественным писать Потемкину при его приемнике Мамонове: «Сашенька тебя любит и почитает, как отца родного». Она без всякого смущения расспрашивала сына и невестку о короле Польском, которого они видели при проезде через Варшаву. «Я думаю, – писала она им, – что его величеству польскому королю было очень трудно припомнить мое лицо таким, каким оно было двадцать пять лет назад, по портрету, который вы ему теперь показали».
«Никто не смел, – говорит принц де Линь, описывая Екатерину, – осуждать перед императрицей Петра I или Людовика XVI или позволить себе малейшее замечание насчет религии или нравов. Только иногда можно было сказать при ней что-нибудь рискованное, но непременно очень тонкое, что вызывало в ней улыбку. Сама же она никогда не говорила ничего двусмысленного ни о ком».
Заботясь об общественной нравственности, она издала указ, обязывающий содержателей публичных бань устраивать отдельные помещения для мужчин и для женщин и пускать в женскую половину только тех мужчин, присутствие которых было необходимо по делам службы, и врачей. Но при этом она делала странное исключение для художников, которые пожелали бы изучать женское тело по живым моделям.
Екатерину не раз обвиняли, имея в виду преимущественно последние годы ее жизни, в позорных наклонностях и привычках. Говорили, что, помимо малых приемов в Эрмитаже, там собирался иногда более интимный кружок, в который входили два брата Зубовых, Петр Салтыков и несколько женщин, – их имена мы предпочитаем умолчать. По поводу этих вечеров произносили имя Лесбоса, и к другим мифологическим отождествлениям великой Екатерины прибавлялось название Северной Кибелы. Нам претит разбираться в этих отвратительных суждениях. Но мы не смеем утверждать, чтобы Екатерина не заслужила их: разве эта грязь, поднятая вокруг ее имени после ее смерти, не была достойным для нее искуплением за совершенное ею зло?
Внезапная смерть Екатерины – она скончалась неожиданно в своей гардеробной – была, может быть, ее другим искуплением. Уже давно, как мы это знаем, носились слухи, что излишества, которым предается императрица, подточили ее крепкое здоровье. В мае 1774 года Дюран расспрашивал одного придворного о причине некоторых симптомов, тревоживших лейб-медиков ее величества; тот ответил ему, что «эти потери вызваны прекращением периодических очищений или истощением ослабевшего органа». В другой депеше, говоря об опасениях, которые внушали фавориту состояние здоровья императрицы, французский поверенный в делах писал:
«Ему известно то, чего, однако, почти никто не знает, а именно, что императрица упала на днях в обморок перед тем, как сесть в холодную воду, и этот обморок продолжался более получаса; что, по словам ее самых преданных слуг, у нее замечаются с некоторых пор странные подергивания и движения; что вследствие злоупотребления холодными ваннами и табаком она по временам точно теряет сознание и у нее появляются идеи, противоречащие ее характеру. Заключение, которое я вывожу из всего этого, то, что она страдает истерией».
В 1774 году эти предположени были преждевременны, но через двадцать лет они оправдались.
Мы просим наших читателей и особенно читательниц простить нас за то, что мы приподняли завесу, которую время и забвение набросило на все эти подробности. Нами руководило при этом только одно желание – и пусть оно послужит нам извинением, – вложить, за неимением других достоинств, как можно больше правдивости и искренности в этот очерк, который, несмотря на все препятствия и затруднения, неизбежные при его выполнении, глубоко привлекал нас удивительным и, может быть, единственным в своем роде разнообразием, сложностью и оригинальностью своих строго исторических данных, способных поспорить с измышлениями самого богатого и пылкого воображения, – и мы надеемся, что он заинтересует тем же и других.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нам остается теперь показать Екатерину в той среде, где она царствовала и жила с блестящей свитой ее сподвижников и товарищей, и в ослепительной рамке, созданной ею для своей славы. Мы надеемся исполнить когда-нибудь этот дополнительный труд. Пока же, заканчивая временно этот очерк, мы считаем своей обязанностью подвести ему краткий итог.
Екатерина была существом привилегированным. Среди прочих преимуществ они имела за собой то, что вокруг ее имени были исчерпаны всевозможные похвалы и всяческие поношения. В устах своих поклонников или хулителей она являлась поочередно то славой, то позором своего пола. Мы постарались примирить эти крайние мнения, сглаживая неточности, противоречия и заблуждения истории и предания; мы стремились начертать возможно ближе к истине нравственный и физический облик государыни и женщины, которую Вольтер называл «Catherine le Grand», а бесчисленные памфлетисты клеймили именем «Мессалины». И вот приблизительно к чему мы пришли.
Екатерина была принцессой ничтожного германского двора, и родители предназначали ее в жены какому-нибудь мелкому владетельному князю; ее француженка-гувернантка, m-lle Кардель, и дала ей соответствующее воспитание и образование. Но случай привел Екатерину в Россию, и здесь, в силу непредвиденных обстоятельств и своих выдающихся дарований, она заняла положение, на которое по рождению не могла рассчитывать. Поставленные между наследником престола, странности и пороки которого делали его решительно неспособным к царствованию, и императрицей, управлявшей Россией с грехом пополам, Екатерина почувствовала, что призвана сыграть на своей новой родине не только декоративную или династическую роль. Честолюбие влекло ее дальше. К осуществлению этих мечтаний о власти она сумела приложить редкую энергию и настойчивость, совершенно исключительные для ее возраста и пола. Стремясь привлечь на свою сторону как можно больше людей, она хотела показать себя достойной их преданности и доверия. Она занялась своим перевоспитанием. Упорной работой она усвоила себе и гений этого народа, которым надеялась в будущем управлять, и западную культуру, внесенную в Россию стараниями Петра I. Она изучила русский язык на уроках Ададурова и в беседах со старыми придворными дамами, приставленными к ней, и знакомилась с историей и политикой, читая Вольтера и Монтескье. Она читала, кроме того, и Брантома и Бейля и извлекла из них сведения, послужившие большой опорой ее честолюбивым планам, хотя, может быть, и в ущерб морали. Таким образом, она еще при жизни Елизаветы стала головой выше всех окружающих, возбуждая в них тревогу, надежды, ревность и опасения. Муж называл ее то «Madame la Ressource», то «ехидной», которую хотел раздавить. Елизавета смотрела на нее с завистью и ужасом. Но государственные люди, министры и иностранные послы стояли за нее, и, наконец, армия – эта сила, не имевшая себе равной в громадной и варварской России, свергавшая и низводившая на престол императоров и императриц, – обратила на нее свои взоры. Екатерина стала политической союзницей Бестужева и Вильямса и подругой нескольких прекрасных собой гвардейских офицеров. Ее молодость и пылкий темперамент восставали против ненавистного мужа, не очень, впрочем, настаивавшего на своих правах на нее, и против придворного этикета, тоже не слишком строгого, и Екатерина смело отдалась любви и не вполне законным наслаждениям. Сладострастная атмосфера двора, который по свободе нравов не уступал Западу, захватывала ее все сильнее. Но, по небывалому в истории счастью, она сумела согласовать свои интересы со страстями и любовь с политикой и среди избранников своего сердца или чувственности нашла себе могущественных помощников для достижения грядущего величия. Так, она сблизилась с прекрасным Сергеем Салтыковым, с изящным Понятовским и с удалым Григорием Орловым. Ко времени смерти Елизаветы все было уже готово, чтобы привести вопрос о престолонаследии в надлежащий порядок и поставить молодую женщину на место, по закону доставшееся ее мужу. Несколько смельчаков рискнули произвести один из тех придворных переворотов, к которым Россия почти привыкла за последнее время: на сцене появились Орловы, и Петр III «позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать».
Екатерина прибыла в Россию пятнадцати лет, а когда это событие совершилось, ей было тридцать три года. Слухи о красоте ее, так красноречиво воспетой в сложившихся о ней легендах, историей почти опровергаются. Но у нее было то, что ценнее красоты, – очарование. «Я нравилась, и в этом была моя сила», говорила она про себя. Правда, с годами ей пришлось прибегать к иным средствам, чтобы нравиться, и, конечно, не обаянием своего лица она пленила в 1789 году Зубова, когда ей было почти шестьдесят лет.
О духовном облике Екатерины можно было бы судить по характеристике ее, составленной ею самой, но многие черты этого самоописания далеко не точны. Екатерина отдает в нем дань истине, отказывая себе в «творческом уме», но говорит слишком снисходительно о кротости своего нрава и добродетельной стойкости своих принципов. Нам кажется, что она принадлежала к избранной породе великих честолюбцев, которых отличает их холодная, обдуманная, но готовая идти на всякий риск смелость, их властный ум, самоуверенность и способность не останавливаться ни перед чем для достижения своих целей. Фаталистическая вера, вдохновлявшая впоследствии Наполеона, жила и в великой русской императрице.
У нее тоже была своя звезда. Но ей эта звезда не изменяла, как Бонапарту, а только тускнела по временам. Поэтому Екатерина и могла остаться до конца жизни «непоколебимой». Она была оптимисткой до мозга костей. Она была также очень тщеславна. Она считала, что ее власть и могущество совершенно безграничны, – любила, чтобы другие были в этом так же твердо убеждены, как и она, и высказывали бы ей это открыто. Сами преувеличенные похвалы и лесть казались ей естественными и законными, когда были обращены к ней. А между тем она охотно подчеркивала в себе отсутствие самолюбия и кокетства. Она признавала, что может казаться вполне заурядной вне своего императорского сана. Она не обиделась на Лафатера, когда он пришел к такому заключению. Если они требовала себе почестей, то только как самодержице Всероссийской. Об этом августейшем титуле она составила себе чрезмерное представление, далеко превосходившее действительность, и ловкой политикой сумела в течение тридцати лет внушать эту иллюзию и Европе. В этом и заключалась тайна ее обаяния, как императрицы. Впрочем, разве не принадлежит мир, согласно новейшей теории, именно людям сильной веры и даже галлюцинатам? А лучезарная галлюцинация, которую видела перед собой Екатерина и на которую зачарованными глазами смотрел вслед за ней и весь Запад, создалась не только обманом чувств: наряду с фантастическими грезами в ней было также и много реального, и среди этого реального громадное место принадлежало личным качествам самой императрицы и прежде всего ее исключительной силе воли, которую, однако, ослабляла женственная непоследовательность ее ума, низводившая в Екатерине «великого человека» до обычного уровня ее пола. Екатерина всегда желала сильно, но слишком часто меняла свои желания. По ее собственному выражению, она «умела только начинать, ничего не доводя до конца». Но, по-видимому, России того времени и не требовалось ничего иного. Даже после Петра I в этой необъятной стране еще многое оставалось нетронутым. И Екатерина сыграла для своего народа роль побудительной силы, с необыкновенной настойчивостью и энергией неустанно двигавшей его вперед. Она не знала, что значит физическое и нравственное утомление, упадок духа или уныние, и большим самообладанием возмещала в себе природный недостаток хладнокровия и крайнюю живость характера. Трудоспособность ее была очень велика. По выражению одного поэта, она была «часовым, который вечно на часах». Неисчерпаемая веселость, вошедшая у нее в привычку и ставшая для нее как бы нравственным законом, помогала ей переносить всю тяжесть ее разнообразных трудов. В шестьдесят пять лет она охотно играла с детьми, и жмурки сохранили для нее свою прелесть. Ее моральное здоровье было превосходно. В общении с людьми у нее было столько терпимости и снисхождения, столько простоты, любезности и привета, что самые строгие судьи находили ее обворожительной. Она говорила, что сердце у нее от природы доброе и чувствительное, но жаловалась на то, что в силу политической необходимости не всегда может давать волю своим влечениям. Возможно, что она судила о себе справедливо. Но политика слишком рьяно завладела всеми ее чувствами и даже привязанностью к семье и в конце концов совершенно поглотила и ум и сердце Екатерины. В ее истории есть страницы, где мы не видим даже и тени доброты или отзывчивости. Щедрость ее вошла в поговорку: она и тут не знала меры. Она дарила много, но не умела толком дарить. Все, впрочем, служили ей охотно. Свою прислугу она баловала. Вопреки излишествам, которым она предавалась, в ее живом, сангвиническом, пылком темпераменте не замечалось никакого органического недостатка. Она не была истерична. Любовь была для нее естественным отправлением. Все же другие ее склонности и вкусы указывали на полную и физическую, и моральную уравновешенность ее натуры. В ней не было ничего чудовищного, но было зато многое, – если не все то, что составляет женскую прелесть.
Главная сила Екатерины заключалась в ее характере. Ум же ее был относительно невысок. Самобытность, которою она так любила хвалиться, проявлялась скорее в ее способе действовать, нежели в мышлении. Вы тщетно стали бы искать в ее сочинениях хотя бы одну оригинальную идею. Много здравого смысла и богатое воображение составляли, дополняя одно другое, сущность ее ума. Тот же громадный престиж, которым она, между тем, пользовалась именно благодаря этому уму, образовался искусственно под обаянием ее повелительной воли, ее тонкого умения вести взятую на себя роль и ее блестящего, разнообразного, живого разговора. Однако на остроумие она никогда не претендовала. В ее остротах сказывалось ее германское происхождение, и шутки ее были тяжеловесны. Ум Екатерины был по преимуществу ум практический, с большим запасом юмора и молодой жизнерадостности. Она сознавала, что полученное ей образование и не основательно и не разносторонне, и любила, напротив, выставлять на вид свое невежество. Она читала много: слишком много и неправильно, чтобы усвоить прочитанное. Знания ее, как отчасти и вся ее правительственная деятельность, представляли, по ее собственному выражению, «смесь чего-то отрывочного». Ее же научные опыты могут вызвать только улыбку. Она говорила и писала довольно нескладно на тех трех языках, которые употребляла обыкновенно. Но если она не изучила в совершенстве русский язык, то сумела зато понять самую душу русского народа и сделать эту душу своей.
Воззрения и понятия Екатерины отмечены тем же недостатком, что и ее поступки, – непоследовательностью. У нее было очень мало твердых и постоянных принципов и идей. Хотя и немка, она относилась с пренебрежением к доктринерам и доктринерству. Склад, ума ее был чисто эмпирический. Единственная идея, которой она осталась неизменно верна, – это представление о собственном величии, неразрывно сливавшееся у нее с представлением о величии той страны, которою она была призвана управлять.
Кроме того, у нее была политическая мечта, которую она тоже лелеяла всю свою жизнь: это была великая идея ее царствования, греческий проект, т. е., другими словами, завоевание Константинополя. Все же остальные ее воззрения и планы представляли полный хаос и противоречили одни другим. В политике она не раз говорила о своей республиканской душе и признавала в то же время, что лучшая из форм правления – самодержавие. В философии она называла себя всегда другом Вольтера, а иногда иезуитов. Ее идеи или, вернее, симпатии, сложившиеся у нее под влиянием воспитания и общения с философскими и освободительными тенденциями века, значительно изменились к концу ее царствования. Первый порыв ее либеральных стремлений сейчас же столкнулся с практикой власти, и она с удивлением увидела, в какую форму выливаются иногда гуманитарные идеи при осуществлении их в жизни. Это сперва поразило ее, а потом она испугалась. И кончилось тем, что ей пришлось огнем и мечом душить народное движение, поднятое Пугачевым во имя воли, а французская революция нашла в ней непреклонного врага.
В искусстве царствовать Екатерина была виртуозна. Ей немало помогало, конечно, и счастье: самые рискованные ее предприятия почти всегда кончались успешно, но многим она была обязана и лично себе. Ее выдержка, решительность, самообладание и власть над собой и над другими, ее высокомерная ясность духа в минуты самых жестоких испытаний положительно не знают себе равных в современной истории. Ее умение управлять людьми было исключительно, так как она ввела в него те приемы и средства, к которым прибегают женщины, чтобы покорять мужчин. Это была странная обольстительница, императрица – Цирцея. Но выбирала она людей не всегда удачно. Впрочем, она брала от них зато всю ту долю труда, энергии и талантливости, на которую они были только способны. Она сама служила им примером. В минуты кризисов она проявляла изобретательность, неутомимость и находчивость, граничившие почти с чудом. Кроме того, она ввела в политику несколько невиданных прежде и новых приемов: с первых шагов царствования она стала приводить в смятение всех дипломатов смелостью своих решений и намеренной резкостью и откровенностью речей, подобно сошедшему в могилу великому государственному деятелю современной Германии; как и он, она охотно прибегала к силе, которая в наши дни почти вершит судьбы мира, – к общественному мнению: она заставила служить себе печать, пользовалась рекламой, положила в некотором роде почин политическому журнализму. Она не брезговала, впрочем, и старинными приемами власти: у нее была своя тайная канцелярия. Но, несмотря на это высокое искусство управлять страной, и ей случалось иногда делать ошибки. Виной тому был ее оптимизм: она не только жила химерами, не замечая действительности, но часто намеренно закрывала на нее глаза, когда эта действительность не совпадала с ее мечтами. Во время ее знаменитого путешествия в Крым, походившего на прекрасную сказку, она не видела, сколько горя и нищеты пряталось за роскошными декорациями блестящей феерии, созданной на миг, чтоб пленить ее воображение. Но, благодаря ее большой личной энергии и умению вдохновлять других, правление ее достигло в общем больших результатов и в области внутренней и внешней политики.
Внутри империи ей пришлось прежде всего защищать престол от покушения, более или менее сходных с тем переворотом, с помощью которого она сама достигла когда-то власти. Из этой борьбы она вышла победительницей. Иван Антонович был убит в своей тюрьме, а Лже-Петр III привезен в клетке в Москву и предан казни. В своих законодательных начинаниях Екатерина была менее счастлива. Великая комиссия, призванная ею, чтобы выработать для России новое уложение, которое должно было превзойти все европейские своды законов, потерпела полную неудачу. Императрица, умевшая «только начинать», на этот раз долго не замечала, что для того, чтобы ее реформа увенчалась успехом, ей надо было «начать сначала», т. е. с уничтожения крепостного права. Но когда она поняла это, то сейчас же отступила назад. Ей не было дано разрубить этот Гордиев узел.
Она несколько усовершенствовала судебное ведомство, понизила степени наказания, бывшие до нее непомерно жестокими, но не уничтожила плети. Ее деятельность оказалась более плодотворной в области чисто административной. Здесь Россия обязана ей первыми попытками ввести правильное, систематическое внутреннее управление. Финансовая политика Екатерины заслуживает меньше похвалы. По сути говоря, это была политика изворотливости: Екатерина постоянно нуждалась в деньгах и для войн, и для роскоши, которой любила окружать себя, и для удовлетворения своих прихотей; и она не задумываясь доставала их, делая займы за границей и фабрикуя ассигнации у себя дома. Она положила этим начало режиму, который со времени ее смерти все дальше и больше развивался в России. Но России всегда приходилось платить дорого за свою славу.
Результаты внешней политики Екатерины у всех на глазах: она навсегда разбила могущество Оттоманской империи, завоевала Крым и несколько важных гаваней на Черном море и произвела раздел Польши. Но во всех своих предприятиях, приведших к этим результатам, она, несомненно, руководилась скорей своим безудержным и безграничным честолюбием, нежели соображениями справедливости, чести или хотя бы истинным пониманием интересов своего государства. Она прежде всего стремилась утолить свою беспокойную и почти болезненную потребность удивлять мир, заставлять говорить о себе, находиться в постоянном движении и шуме. К счастью для нее, первая турецкая война превратилась в ряд блестящих побед, а не поражений, которые, между тем, легко могли быть следствием беспечности и непредусмотрительности императрицы. Это была «война кривых со слепыми». При первом разделе Польши Екатерина сыграла роль орудия в руках Фридриха. Ко второму же и третьему разделу она была уже вынуждена, потому что захотела слишком многое предпринять сразу. Но при этом она потеряла, – и потеряла, пожалуй, безвозвратно, – возможность создать мирно и постепенно верховенство России над большой семьей славянских народов, отданных ею на растерзание честолюбивым соседям, – а приобрела только печальную славу участницы и чуть ли не зачинщицы бесчестного дела, которое опозорило ее век. Ее происки в сторону Польши и Турции естественно отдалили ее от Франции. Но зато, разорвав вековые связи, соединявшие Россию с Великобританией, она поставила этим первые вехи на пути сближения, создавшего франко-русский союз. И, как бы предчувствуя будущее, час которого еще, впрочем, не пробил, она мечтала сломить мощь своей соперницы Англии, напав на нее в Индостане. В общем она оставила своему преемнику наследство, увеличенное почти наполовину. Население империи возросло за время ее царствовании с 20 до 37 миллионов, – и соответственно этому раздвинулись и границы России к западу и югу.
Екатерина была другом Вольтера и всех философов вообще. Ей нравилось – или она делала вид, что ей нравится, – общество писателей, ученых, художников. Она любила – или думала, что любит, – книги, произведения живописи, ваяния и архитектуры. Она купила библиотеку Дидро, библиотеку фернейского патриарха, и поставщики ее музеев, Гримм и Рейфенштейн, выбивались из сил, чтобы удовлетворить всем ее требованиям. А между тем русская литература, наука и искусство мало чем обязаны ей. По отношению к Западу она играла роль мецената, главным образом потому что это служило ей рекламой. На зарождающуюся же духовную жизнь России, на первые робкие попытки развить самобытный русский гений, она смотрела или как равнодушный зритель, или как подозрительный жандарм. И в то же время она находила в писательстве искреннее удовольствие, до страсти любила строить и с большим увлечением отдавалась изучению русской истории. В этой области она тоже была инициатором, побуждающим к движению вперед дремлющие вокруг нее силы.
Екатерина писала и исторические сочинения, и комедии, и драмы, и повести, и сказки, и комические оперы; но больше всего она написала писем. Ее переписка с Гриммом – любопытный памятник, оставленный ею потомству. Она была, кроме того, и публицистом, и поэтом, и педагогом. Учрежденные ею школы стоят выше ее стихов: некоторые из них сохранились до сих пор. Но слава основателя народного образования в России принадлежат, однако, не ей, а ее современнику Новикову, которого она жестоко преследовала как врага.
Частная жизнь Екатерины, как ни скандальна она была с некоторой точки зрения, не отвечала тем картинам сладострастных оргий, которые связывались с ее именем в воображении ее современников и потомков и давали легендам и людскому злоречию богатую пищу. Большую часть этой жизни она посвящала труду и тихим радостям домашнего очага: она добросовестно выполняла свои сложные обязанности императрицы – чувство долга всегда было в ней неизменно и твердо – и находила удовольствие в невинных развлечениях. Она рано вставала и ложилась спать и отдыхала от работы или за чтением, или просматривая свои коллекции в Эрмитаже, или играя с детьми, которыми всегда любила окружать себя. Она увлекалась садоводством и украшением своей любимой летней резиденции – Царского Села, созданного всецело ею. Ее приемы в Эрмитаже, на которые допускалось только ограниченное число лиц, показывают, сколько в ней было простоты, непосредственности, веселья и приветливости в обращении с людьми.
Семейная жизнь Екатерины омрачилась в самом начале несчастным браком, ставшим ей вскоре ненавистным и приведшим к кровавой драме. Сын был отнят у нее с колыбели, и чувство материнства не успело развиться в ней, а впоследствии совершенно исчезло. Честолюбие и политика, толкнувшие ее посягнуть на права мужа и сына, убили в ней любовь к ним, вопреки голосу природы и нравственности. Но не доказано, чтобы она принимала участие в смерти мужа; и также не доказано, чтобы она хотела лишить своего сына престола. Зато вполне достоверно, что она была лучшей из бабушек.
Приехав в Россию, Екатерина застала здесь на ступенях трона форму царственного разврата, подобного тому, что господствовал и при других европейских дворах. Деля власть с рядом императриц, чередовавшихся одна за другой после Петра I и по странной случайности свободных от брачных уз и высокомерно презирающих требования морали, – на русском престоле царил мужской фаворитизм.
Достигнув этого престола при помощи нескольких влюбленных в нее смельчаков, Екатерина стала вести на высоте его ту же жизнь, что и ее предшественницы, – но только в более крупных и широких размерах. Она продолжала поддерживать своеобразный союз, доставивший ей власть, соединять политику с любовью. Отчасти это удалось ей: завоеватель Крыма был ее фаворитом и первым министром. Она искренно любила его. Она так же любила и Ланского, может быть, также Мамонова, и еще многих других. Любили ли они ее? Ответить на это утвердительно трудно. Но и отрицать этого тоже нельзя. Но если она и не внушала им любви, то всегда, до конца жизни, умела внушать уважение.
Это была необыкновенная женщина и великая императрица. Как первая, она доказала, что женщина может стоять на высоте самых трудных, самых ответственных обязанностей и долга; как императрица, она сделала для величия России столько же, сколько и Петр Великий. Не тем, – как утверждали некоторые, – что ввела Россию в лоно европейской культуры: в России и теперь так же мало европейского, как и двести лет назад. Это не Европа и не Азия, а шестая часть света, – сказал кто-то справедливо. Но этой самобытной России, которая, вероятно, останется таковой и впредь и, входя в круг европейских интересов, идет в то же время своим путем, подчиняясь своим, особенным законам развитая, и вдохновляясь западной культурой, не дает ей поглотить себя, – этой России, созданной Петром I, Екатерина II дала сознание ее силы, ее гения и ее исторического предназначения.
2 августа 1892 года.
ДОПОЛНЕНИЕ
Екатерина II и мнение Европы
Я уже упоминал об отношении Екатерины к западной прессе, и старался показать, насколько императрица умела ценить ее значение, опередив в этом отношении других европейских государей и пользуясь печатью с искусством, в котором никто не мог с ней соперничать. Читатель, надеюсь, с интересом отнесется к некоторым подробностям тех результатов, которых удалось достигнуть гениальной и обаятельной покровительнице Вольтера и которые способствовали как успеху ее политики, так и ее личной славе.
Принужденный ограничиться определенными рамками, я не могу в этом кратком очерке принимать во внимание периодическую печать, в то время не имевшую притом своего теперешнего значения. Ограничиваясь в этом отношении лишь некоторыми указаниями, я обращаю главное внимание на отдельные издания и на ту литературу, составляющую нечто среднее между книгой и журналом, которую Вольтер и его сподвижники с таким успехом применяли в форме «летучих листков». Именно в литературе этого рода находило для себя надлежащее выражение умственное движение того времени.
Вполне понятно, что в Германии Екатерине было очень легко завоевать симпатии и всеобщее одобрение – даже раньше, чем они были заслужены, так как немецкому патриотизму крайне льстило уже одно то, что незначительная Ангальт-Цербстская принцесса заняла престол великого Петра, и уже в 1745 г. в стихотворении, появившемся в цербстской печати, ее величали «великой Екатериной»:
- Es kennt und rhmt seit lnger Zeit
- Ein Urbild der Vollkommenheit
- In der Katherinen grosse Gaben…
В то же время в Гамбурге другой немецкий поэт уверял, что сам Петр Великий встретил бы победоносного соперника в лице счастливого супруга этой совершеннейшей из принцесс:
- Des Ersten Peters Geist und Rath
- Wird sich im Dritteu noch gedoppelt strker zeigen…
Франция довольно медленно проникалась энтузиазмом к Екатерине: общественное мнение находилось под сильным воздаянием философов, которые лишь тогда открыли новую Семирамиду в монархине «туманных стран, откуда должен был воссиять свет на всю Европу», когда императрица купила в 1765 г. библиотеку Дидро. С этой минуты она уже не просто великая монархиня – она богиня! и Дора (Dorat) восклицает:
- Par tes soins, il va done renaitre
- Се philosophe respect!..
Виньетка, украшавшая послание, весьма выразительно иллюстрировала отношения, установившиеся с тех пор между литературной семьей «почтенного философа» и его благодетельницей: Дидро был изображен у своего письменного стола; преклонив колени, он стремится облобызать ноги Екатерины, представленной в виде богини; троном ей служат облака, как и подобает богине; очевидно, они должны также напоминать то облако, которое в виде золотого дождя спустилось на прекрасную Данаю.
Удача Дидро прогремела на всю Европу, и повсюду, где только были нуждающиеся поэты или философы, составители «Энциклопедии» или сотрудники «Альманаха Муз» («Almanach des Muses»), явились желающие повыгоднее пристроиться к новому Олимпу, подававшему такие заманчивые надежды.
Немецкие философы, как ближайшие соседи России, надеялись, однако, не допустить своих французских собратьев занять первенствующее положение. «Теперь наша очередь! – восклицает ученый Брейденштейн, директор школы и музыкальной консерватории в Ганау. Как истый немец, он определяет достоинства похвал и их ценность:
- Katherinens Reich und Thron
- Wird Dichtern, Rednern, Weisen,
- Das Muster von Europa heisseh,
- Sie sind es schon![9]
Италия также желала получить свою долю, и, чтобы вернее добиться цели, поэт Лодовико Лаццарони (может быть, и в действительности бывший простым лаццарони) лично отправился в Петербург для поднесения кантаты, в которой фигурирует Юпитер, колеблющийся в выборе между Венерой и Минервой, а в конце концов отдающий предпочтение Екатерине! Заключение довольно смелое!
С этих пор поступки Екатерины уже не подвергаются критике, и она может спокойно делить Польшу, без малейшего неодобрения со стороны великодушных философов и чувствительных поэтов. Счастливая соперница Венеры и Минервы становится все требовательнее относительно качества похвал, всегда желательных, нередко – щедро оплаченных, чаще же всего – подвергающихся строжайшей критике.
В 1768 году французский астроном Шапп д’Отрош (Chappe d’Auteroche) убедился в этом собственным горьким опытом. Чтобы иметь право вполне сознательно судить о России и ее монархине, этот ученый, которому его соотечественники, к сожалению, мало подражали, решился проникнуть в недра Сибири. Он вынес из своего путешествия убеждение, что «рожденная в свободной (!) стране, воспитанная среди муз», Екатерина преследовала единственную цель – применять наилучшим образом «свой гений и свои познания». Но, увы! Изучая течение небесных светил, ученый не сумел наметить на небесном своде подобающее место самой яркой звезде европейского горизонта. За это его наградили эпитетами «осла» и «безмозглого аббата», что и было доведено до его сведения. Оставалось пожалеть, что его корабль не пошел ко дну; по крайней мере он был бы лишен возможности судить о малоизвестных ему предметах, например, клеветать, что в России распространено взяточничество! Как будто он не знал, что это строго запрещено. Этот невежда не умел даже правильно определить расстояние между Петербургом и Москвой, пытаясь утверждать, что между ними два дня пути, тогда как сама императрица совершала это путешествие в 52 часа.
Чтобы быть хорошо принятым в Петербурге, следовало хвалить без меры и льстить без оглядки. Екатерина сама заботилась об этом, и при появлении русского флота в Средиземноморье она получила в этом отношении полное удовлетворение. В Ливорно толпа жалких рифмоплетов встречает Алексея Орлова, известного своей щедростью, хором восторженных песнопений, посвященных, как, например, у Джианетти (Lucca, 1770), «alla sagra Maesta di Catarina II», а год спустя в Лондоне печатаются «Рассуждения о возникновении, развитии и завоеваниях Российской империи», причем итальянец Караччиоли (имя довольно известное) причисляет войны России с Турцией и Польшей к самым лояльным войнам в мире, и все дела императрицы Екатерины ставит выше деяний Петра Великого. Он решается также уверять, что русские женщины превосходят красотою женщин всего мира. Германия, где даже дети в гимназиях изощрялись в сравнениях великого Фридриха с великой Екатериной, конечно, опередила в энтузиазме все другие страны, и подражатели Клопштока, воспевая победу Орлова у Хиоса, призывали поэтов и историков древности, чтобы достойным образом прославить его подвиги, причем имя Эльфинстона, разумеется, вовсе не упоминается.
- Erhebt dich Kein Homer durch ewige Gedichte,
- So grbt ein ahderer Xenophon,
- Ein Orloff, deinen Sieg der Slerblichkeit zum Hohn,
- Tief in die Tafel dr Geschichte.[10]
Нашелся даже соотечественник и боевой товарищ Эльфинстона, приписавший хиосскую победу только гению императрицы и талантам Орлова, совершенно случайно попавшего в адмиралы.
Одерживая победы и расточая доходы своего государства ради престижа русского флага в Греческом архипелаге, Екатерина находит еще возможность кормить голодающую Европу! По крайней мере, так утверждает Н. L. Berendt в то самое время, когда, по более достоверным документам, Россия сама была вынуждена прибегнуть к ввозу иностранного хлеба. Но в европейской прессе ни желали обращать на это внимания. Даже честная Швейцария, вполне убежденная, что неурожаи не в состоянии истощить страну, управляемую такой государыней, возвещает устами анонимного автора: «On devrait n’obir qu’aux femmes sur la terre![11]
Франция потому лишь не принимает участия в этом концерте, что восточная политика Екатерины на этот раз слишком идет вразрез с традиционными понятиями, чувствами и интересами страны. Молчит и Вольтер, опасаясь за свою популярность, хотя не все его соотечественники разделяют его мнение. Впрочем, чтобы заставить хвалить себя и на языке Вольтера, Екатерине незачем обращаться в Париж. Уже упроченная слава и слишком дорого купленный опыт придворной жизни в Берлине удерживли фернейского старца на берегах Женевского озера, но некоторые его ученики соблазнились заманчивыми предложениями; даже в самом Петербурге Бодуэн, профессор университета, нашел удобным настроить свою лиру в соответствующем тоне, скромно оговариваясь, что
- Du chantre de Ferney les sons mlodiux
- Peuvent seuls ceulbrer des faits dignes des dieux![12]
В то время как в Варшаве, после несбывшихся надежд на помощь Блистательной Порты, поляки оплакивали утрату своих провинций и своей независимости, некто барон де Блиньер, капитан военной службы, писал, не обращая ни малейшего внимания на общее настроение:






