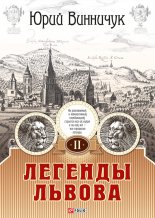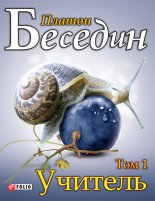Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
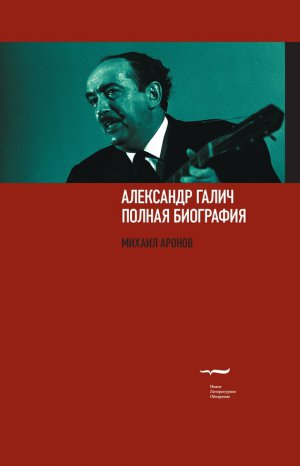
Вполне могла состояться встреча Высоцкого с Галичем и в 1963 году, поскольку актер Владимир Трещалов вспоминал, что Эльдар Рязанов «в фильм “Дайте жалобную книгу” по сценарию Галича пробовал Володю. Я видел эту фотопробу, потому что сам тоже пробовался, когда снимался в картине “Русский народ”»[854]. Судя по всему, Высоцкому предназначалась роль одного из двух главных героев, которые в одном из эпизодов поют под гитару куплеты рядом с домом директора ресторана «Одуванчик» Тани Шумовой.
Сохранилась афиша, приглашавшая всех желающих на вечер бардов в Доме культуры МГУ 19 января 1966 года: «Уважаемый товарищ! Приглашаем Вас на первое заседание КЛУБА ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ». Среди авторов-исполнителей, которые должны были там выступать, названы: М. Анчаров, А. Васильев, Б. Вахнюк, Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, А. Загот и Б. Хмельницкий[855].
Однако на этот раз встреча Высоцкого с Галичем не состоялась. Почему — можно узнать из дневниковой записи 16-летней школьницы Ольги Ширяевой, которая была лично знакома с Высоцким: «19.01.66. Вечер бардов в МГУ на Ленинских горах. Принимали участие В.В., Шапиро, Вахнюк, Визбор. Хмельницкий и Васильев приехали чуть позже, с выступления, кажется, на “Серпе и молоте”. <…> Анчаров вывихнул ногу, а у Галича — сердечный приступ, оба участия в вечере принять не смогли»[856].
Сергей Чесноков рассказал о встрече двух поэтов в 1968 году: «Александр Аркадьевич мне лично говорил, что к нему “…вчера приходил Владимир, спел новую песню”. Он записал ее и показал мне запись, это была только что написанная “Банька”. Галич очень высоко отзывался о ней и о Высоцком как о поэте. Разговор происходил в квартире Галича, на Черняховского, 4, в присутствии его жены Ангелины Николаевны. Дату точно не помню, но это определенно было в конце шестидесятых, вероятно, осенью 1968 года»[857]. Высокую оценку Галичем этой песни засвидетельствовал и анонимный современник: «Не мне лично, но в моем присутствии Галич однажды сказал, что мечтал бы быть автором “Баньки по-белому”»[858].
Известно еще одно свидетельство С. Чеснокова, относящееся, вероятно, к той же его встрече с Галичем: «Я помню, что Галич говорил при мне и даже, в общем, мне, потому что я был в это время у него дома: “Владимир — потрясающий поэт. Он не очень заботится о тщательном отделывании своих стихов”»[859].
Вероятно, Галич, с его стилистической изощренностью, полагал, что тексты Высоцкого производят столь мощное впечатление, несмотря на их недостаточную «отделку», или наоборот — производят впечатление благодаря этому, вследствие так называемого «обаяния ошибки» (хотя «ошибочность» если и была, то мнимая).
Алена Архангельская рассказывала, как в 1968 году после Новосибирского фестиваля вынуждена была уйти из Театра имени Моссовета, куда она получила распределение после ГИТИСа, и стала искать работу в других театрах. Вениамин Смехов, который был знаком с Юрием Авериным (вторым мужем Валентины Архангельской), привел ее в Театр на Таганке, и они вместе посмотрели спектакль «10 дней, которые потрясли мир» с участием Высоцкого: «Потом мы пришли в гримерку, и Веня познакомил меня с Высоцким. Володя сказал, что он очень любит и уважает Александра Аркадьевича и что они с Веней хотели бы мне помочь. На что я ответила, что мне очень нравится все, что они делают, но я актриса совсем другого плана и просто не сумею работать в вашем театре. <…> В ребятах было столько доброжелательности и открытости; они так хотели мне помочь, так дружно мне говорили: “Ну хочешь, мы уговорим Юрия Петровича тебя посмотреть?” Я помню, что очень упиралась, я боялась — это был совсем не мой театр»[860].
В свою очередь и Галич, по словам Алены, тепло отзывался о Высоцком: «Я думаю, что и отец не раз встречался с Володей Высоцким. Во всяком случае, папа очень любил его и не раз говорил о нем как об интересном актере и поэте»[861]’.
Другое свидетельство о встрече известно от фотографа Валерия Нисанова, которому Ольга Ивинская рассказывала, как однажды у нее на кухне Высоцкий и Галич пели по очереди свои песни[862].
Интересно, что Галич любил слушать песни Высоцкого не только в авторском исполнении, но и в хорошем исполнении других бардов. Один из таких случаев описал Леонид Жуховицкий: «Я помню, мне позвонил Сережа Чесноков и сказал: “Заболел Александр Аркадьевич, давай к нему сходим”. <…> И я вот помню, он лежал на кровати, полуприкрытый пледом. <…> Это было где-то, наверное, уже года через два после фестиваля, и уже Александра Аркадьевича выдавливали из страны. Мы понимали, что он должен уехать. Вадим Делоне, который был тогда на фестивале, он уже сидел. <…> Я помню, Галич сказал: “Ну вот, Вадим уже как бы на выходе”. Ему там год, по-моему, оставалось сидеть. Сережа спел тогда под гитару только что написанную песню Володи Высоцкого “Охота на волков”. Галичу песня понравилась. Мы его попросили почитать или спеть что-то новое. И он почитал и спел нам свою прекрасную поэму о Януше Корчаке…»[863] Сохранились и воспоминания Сергея Чеснокова об этом визите[864]. Он рассказывал, что врач по неосторожности занес Галичу инфекцию, и тот лежал в Ленинграде дома у Раисы Берг. Эта история описана в «Генеральной репетиции» и имела место в апреле — мае 1971 года. Следовательно, этим же временем датируется и визит к Галичу Жуховицкого с Чесноковым.
После того как в «Вечернем Новосибирске» была опубликована разгромная статья Мейсака, артист Театра на Таганке Рафаэль Клейнер принес эту статью Высоцкому. Тот, прочитав ее, грустно сказал: «Значит, скоро и до меня доберутся»[865]. И действительно: через месяц с небольшим, 31 мая, газета «Советская Россия» разразилась статьей В. Потапенко и А. Черняева «Если друг оказался вдруг», которая положила начало компании травли Высоцкого в советской прессе.
Добавим, что в семье коллекционера Михаила Крыжановского хранится гитара, на деке которой с левой стороны оба поэта оставили свои автографы. Сначала расписался Галич: «Мише! Которого я люблю. Александр Галич», а через некоторое время и Высоцкий: «И которого я тоже люблю, и у него лучшие записи. Мише. Высоцк»[866].
Хотя Галич и был театралом, но — удивительный факт: живя в Советском Союзе, он ни разу не видел «Гамлета» в постановке Юрия Любимова! И это тем поразительнее, что вскоре после премьеры этого спектакля 29 ноября 1971 года с Высоцким в главной роли он написал песню «Старый принц», где примерял образ Гамлета к самому себе. Причем уже в 1936–1937 годах, еще до рождения Высоцкого, учась в студии Станиславского, Галич репетировал роль короля Клавдия!
А в эмиграции он видел этот спектакль лишь однажды — в знаменитом парижском дворце Пале де Шайо (Palais de Chaillot) в ноябре 1977 года, за месяц до своей гибели (один из «Гамлетов» был сыгран 17 ноября). Об этом рассказал актер Театра на Таганке Дмитрий Межевич: «Последний раз с Александром Аркадьевичем мы виделись в 1977 году. Наш театр на Таганке был на гастролях в Париже. И он пришел на спектакль “Гамлет”. У меня было предчувствие — почему-то я его должен увидеть. И действительно, через шерстяной занавес, который был в “Гамлете”, я смотрю в партер: он сидит довольно близко, в ряду шестом, с Ангелиной Николаевной. Сердце у меня забилось. Это был где-то ноябрь 1977 года. И после спектакля я подошел к нему. Он не ожидал этого. От неожиданности он обернулся. Его первые слова: “Милый мой!..” И мы обнялись. Поговорили очень мало. Я спросил: “А вы что, видели этот спектакль в Москве?” Оказывается, нет, не видел он “Гамлета”. Только вот в Париже в этот день. Что-то немножко спросили друг друга, и Ангелина Николаевна заволновалась: “Лучше вам все-таки с нами не находиться — мало ли кто может присутствовать, и из ваших тоже…” И мы так вот распрощались, кивнули друг другу. Но это выражение лица, выражение глаз — оно до сих пор незабываемо»[867].
В 1995 году было опубликовано интервью Межевича, где он приводил другие детали своей встречи с Галичем: «А в декабре 1977-го в Париже Александр Аркадьевич приходил на наш “Гамлет” — уже постаревший, с палочкой. Страдавший от ностальгии. Я тогда (по-моему, единственный) подошел к нему после спектакля, хотя, конечно, очень боялся — сами понимаете, какое время»[868].
Незадолго до кончины Галич встречался и с другими артистами Театра на Таганке, причем сам же пришел к ним в гостиницу — настолько сильно соскучился по своему зрителю. Об этом рассказала актриса Театра на Таганке Виктория Радунская: «С Галичем в Париже мы встречались. Он пришел к кому-то в номер. И несколько человек сидели всю ночь и слушали песни Галича. <…> Мы пришли послушать. Сидели и слушали Александра Аркадьевича, который всю ночь пел. Потом мы уехали в Лион и Марсель. Из Марселя — прямо домой в Москву. Когда прилетели в Москву, узнали о том, что погиб Галич»[869].
10 декабря 1977 года театр вернулся в Москву, а Высоцкий остался в Париже еще на некоторое время — ему предстоял ряд концертов. 15 декабря он выступал с концертом в Париже. А накануне они с Михаилом Шемякиным хорошо погуляли, и на следующий день состояние Высоцкого было критическим: «Володе прислали записку о том, что умер Галич, и попросили сказать что-нибудь о нем. Володя же ничего об этом сказать был просто не в состоянии — его за кулисами с ложечки отпаивали шампанским. Я не знаю, просто не понимаю, как он выдержал тот концерт и каких усилий ему это стоило. Он был очень болен»[870].
А на записку из зала с просьбой что-нибудь сказать о Галиче Высоцкий не ответил потому, что как «советский гражданин» вынужден был вести себя лояльно и не хотел лишний раз «нарываться», однако, вернувшись из Франции, в своей машине после премьеры какого-то фильма передал Алене Архангельской фотографии с похорон ее отца, на которых присутствовал весь цвет французской эмиграции[871]. Более того, в передаче радиостанции «Голос Америки» от 5 августа 1980 года, посвященной памяти уже самого Высоцкого, диктор и вовсе заявил: «После трагической смерти Александра Галича Владимир Высоцкий включал в программы своих концертов песни этого знаменитого поэта-барда»[872]. Однако подтвердить справедливость данного высказывания пока не представляется возможным.
Таким образом, если отношение Галича к Высоцкому всегда оставалось в целом положительным, хотя и не лишенным критики, то отношение Высоцкого к Галичу было двойственным: имеются как отрицательные высказывания — о том, что он «не любил» Галича, относился к нему «с осторожностью» или вообще избегал встреч (М. Крыжановский, М. Шемякин, И. Дыховичный, Д. Межевич), так и положительные (А. Вернер, Д. Карапетян, В. Козачков, В. Тарасенко, А. Архангельская-Галич, интервью Высоцкого в Набережных Челнах).
Кроме того, если верить Людмиле Варшавской, на квартире которой в 1967 году в Алма-Ате состоялся концерт Галича, то Высоцкий во время своих приездов в Казахстан пел кроме и так неоднократно исполнявшейся им «Баллады про маляров, истопника и теорию относительности»[873], еще целый ряд его песен: «Многие песни Александра Галича разошлись с подачи Владимира Высоцкого. Тут песни про ужасную историю про Москву и про Париж, про то, как шизофреники вяжут веники, про товарища Парамонову, про прибавочную стоимость и многие другие. Высоцкий выступил популяризатором Галича. Входили в то число и его казахстанские песни»[874].
Поскольку Высоцкий действительно бывал с концертами в Казахстане — в частности, в 1970 и 1973 годах, — логично предположить, что на домашних концертах (хотя, возможно, и публично) он помимо собственных песен, пел и песни Галича. Кстати, все песни, которые перечислила Л. Варшавская, — шуточные и сатирические, причем «Красный треугольник», «Баллада о прибавочной стоимости» и «Право на отдых» («Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах») — откровенно антисоветские.
Что же касается «казахстанских песен» Галича, то здесь имеются в виду две: «Песня про генеральскую дочь» (1966) и «Баллада о том, как одна принцесса раз в месяц в день получки приходила поужинать в ресторан “Динамо”», написанная, по словам жены Александра Жовтиса Галины Плотниковой, во время его первого приезда в Алма-Ату в конце февраля — начале марта 1967 года[875]. Таким образом, Высоцкий исполнял и эти две песни, а ведь Варшавская добавила, что он пел «и многие другие»… Не исключено, что именно поэтому, скажем, песню «Право на отдых» так упорно приписывали Высоцкому авторы разгромных статей о нем.
Приписывались Высоцкому и другие песни Галича — например, «Красный треугольник». Очевидцем такого случая оказался Сергей Никитин: «Я однажды в Подмосковье, в дачных местах, гулял по лесу и наткнулся на костер. Вокруг костра сидели отдыхающие, видимо, из какого-то предприятия, рабочие. И вот одна женщина, такая дородная, говорит: “Давайте я вам сейчас расскажу Высоцкого” и начинает рассказывать: “Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать?”…»[876]
Вот и косвенное доказательство того, что Высоцкий исполнял эту песню, причем ее заключительные саркастические строки: «Она выпила “Дюрсо”, а я перцовую — / За советскую семью образцовую!», — перекликаются с горьким сарказмом концовки песни Высоцкого «За хлеб и воду», которая также датируется 1963 годом: «За хлеб и воду, и за свободу / Спасибо нашему совейскому народу! / За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе / Спасибо нашей городской прокуратуре!»
Вообще слово «советский» Высоцкий чаще всего произносил именно как «совейский»: «Не дам порочить наш совейский городок…», «Встречаю я Сережку Фомина, / А он — Герой Совейского Союза», «И хоть я во все светлое верил, / Например, в наш совейский народ…», «И всю валюту сдам в совейский банк», а на нескольких фонограммах исполнения «Пародии на плохой детектив» встречалось даже: «Жил в гостинице “Совейской” / Несовейский человек», «Сбил с пути и с панталыку / Несовейский человек», «А в гостинице “Совейской” / Поселился мирный грек», а также в исполнявшейся им песне Ахилла Левинтона «Стою я раз на стреме…» (известной и в исполнении Галича[877]): «Он предложил мне денег / И жемчуга стакан, / Чтоб я бы ему передал / Совейского завода план».
Не менее любопытно объяснение, которое давал Высоцкий этому нарочитому искажению: «Народ советский ведь слепой, как сова: живет и не видит, что творится вокруг. Вот и придумал я аллегорию, как в баснях, с совой. Так что на самом деле народ-то не советский, а совейский — слепой!»[878]
У Галича же слово «советский» всегда звучит вроде бы правильно, но неизменно с едким сарказмом, как в вышеприведенной цитате из «Красного треугольника». Приведем еще несколько примеров: «Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл: / Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!», «А им к празднику давали сига… / По-советски ж, а не как-нибудь там!», «Центральная газета / Оповестила свет, / Что больше диабета / В стране советской нет <…> Доступно кушать сласти / И газировку пить… / Лишь при Советской власти / Такое может быть!», «Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой!»[879].
И еще одна перекличка, связанная с «Красным треугольником». Эта песня начинается следующими словами: «Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать! / Вот стою я перед вами, словно голенький», а в ноябре 1971 года на одном из домашних концертов Высоцкий спел короткое «больничное» четверостишие и объявил его прологом к «Песне про сумасшедший дом»: «…кругом, словно голенький. / Вспоминаю и мать, и отца. / Грустные гуляют параноики, / Чахлые сажают деревца». Заимствование из песни Галича очевидно.
По свидетельству безвременно ушедшего исследователя бардовской песни Алексея Красноперова, автор ряда публикаций о Высоцком Людмила Томенчук сообщила ему в одном из писем, что слышала фонограмму, где Высоцкий объявлял: «А сейчас я спою три песни Галича», — и на этом, к сожалению, запись обрывалась.
В беседе с автором этих строк А. Красноперов сообщил также, что его близкий друг Олег Антонов (самодеятельный автор, член ижевского КСП, сам родом из Новосибирска) рассказывал, как однажды, будучи еще совсем юным, услышал в Новосибирске в 1967 году пленку, где Высоцкий пел три песни Галича: «Право на отдых», «Автоматное столетие» (авторское название — «Жуткий век») и еще одну, название которой Красноперов запамятовал. А поскольку в 1967 году Высоцкий действительно выступал в клубе «Под интегралом» (или, по крайней мере, прилетел с такой целью в Новосибирск[880]), то есть вероятность, что именно эту пленку и имел в виду Олег Антонов.
Так что со временем вполне могут обнаружиться неизвестные фонограммы с песнями Галича в исполнении Высоцкого, а таких песен, как выяснилось, немало: «Про физиков», «Красный треугольник», «Баллада о прибавочной стоимости», «Право на отдых», «Жуткий век», «Тонечка», «Памяти Б. Л. Пастернака», «Песня про генеральскую дочь», «Баллада о принцессе с Нижней Масловки». И, вероятно, это еще далеко не полный список.
Если же говорить о различиях в творчестве двух поэтов, то, оставляя в стороне жанровый аспект, это главным образом различие стилистическое: Галич публицистичен, саркастичен и литературен. Высоцкий метафоричен, ироничен и демократичен. То, о чем Галич говорил прямым текстом, Высоцкий часто выражал с помощью метафор, прозрачных или скрытых. Перекличек же в их произведениях существует великое множество — вплоть до буквальных совпадений, особенно там, где они касаются темы власти[881]. Разберем самые интересные из них.
Оба поэта в одних и тех же выражениях говорят о власти и ее приспешниках.
Галич: «И орут, выворачивая нутро, / Рупора о победах и доблести», «И вновь их бессловесный гимн / Горланят трубы», «Вопят прохвосты-петухи, / Что виноватых нет».
Высоцкий: «Кричат загонщики, и лают псы до рвоты», «И стая псов, голодных Гончих Псов, / Надсадно воя, гонит нас на Чашу».
Сходство здесь очевидно: вопят, орут, горланят — кричат, лают, воют; выворачивая нутро — до рвоты, надсадно. Функцию же псов в процитированных песнях Галича выполняют рупора и трубы, то есть советское радио и громкоговорители. Однако и образ псов также используется Галичем. В песне «Я выбираю Свободу» упомянуты собаки, которых власть спускает на того, кто выбрал свободу: «И лопается терпенье, / И тысячи три рубак / Вострят, словно финки, перья, / Спускают с цепи собак», а сами представители власти названы псарями («Песенка о рядовом»): «Пускай заседают за круглым столом / Вселенской охоты псари…»
Есть и другая перекличка на «собачью тему».
Высоцкий: «Гордо шагают, вселяя испуг, / Страшные пасти раззявив, / Будто у них даже больше заслуг, / Нежели чем у хозяев» («Наши помехи эпохе под стать…», 1972).
Галич: «И важничая, как в опере, / Шагают суки и кобели, / Позвякивая медальками, / Которыми их сподобили. / Шагают с осанкой гордою, / К любому случаю годною, / Посматривая презрительно / На тех, кто не вышел мордою» («Собаки бывают дуры…», 1966). Кстати, в этой песне Галича наблюдается общий мотив со стихотворением Высоцкого «Про глупцов» (1977). Сравним: «Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры, / И им по этой причине нельзя без номенклатуры» (Галич), «Всё бы это еще ничего, / Но глупцы состояли при власти» (Высоцкий).
В свое время, разбирая фильм «Бегущая по волнам», мы затронули использование Галичем приема «антисказки» на примере его песни «Чехарда с буквами». Этот прием встречается также в «Легенде о табаке», где «в дверь стучат! В двадцатый век… / Стучат!.. Как в темный лес, / Ушел однажды человек / И навсегда исчез!», и в «Колыбельной», где земная и потусторонняя жизни находятся «под присмотром конвойного»: «А утром пропавших без вести / Выводят на берег Леты».
Мотив «пропадания без вести» можно найти и в ряде произведений Высоцкого с «антисказочными» мотивами, например: «…А кто прямо пойдет — ничего не найдет / И ни за грош пропадет». Или: «А мужик, купец и воин / Попадал в дремучий лес. / Кто зачем: кто с перепою, / А кто сдуру в чащу лез. / По причине попадали, / Без причины ли. / Только всех их и видали — / Словно сгинули».
А у поэмы Галича «Вечерние прогулки» наблюдаются любопытные переклички с произведениями Высоцкого: «Уносите, дети, ноги, / Не ходите, дети, в лес, — / В том лесу живет в берлоге / Лютый зверь — ОБэХаэС!..» (правильно — ОБХСС, Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности)[882].
Лютый зверь в берлоге — это медведь, который в качестве олицетворения тоталитарной власти (советской или гитлеровской) нередко появляется у Высоцкого: «Растревожили в логове старое Зло, / Близоруко взглянуло оно на Восток. / Вот поднялся шатун и пошел тяжело — / Как положено зверю, свиреп и жесток», «А тем временем зверюга ужасный / Коих ел, а коих в лес волочил», «Злобный король в этой стране / Повелевал, / Бык-минотавр ждал в тишине / И убивал». Также в этой связи можно упомянуть «Марш футбольной команды “Медведей”».
Продолжая разговор об «антисказочных» мотивах, процитируем «Лукоморье» Высоцкого, в котором «бородатый Черномор» «давно Людмилу спер — ох, хитер!». Наблюдается явная параллель с «Салонным романсом» Галича: «А нашу Елену. Елену / Не греки украли, а век!» (позднее, в «Воспоминаниях об Одессе», 1973, Галич еще раз вернется к этому образу: «И снова в разрушенной Трое / “Елена!” — труба возвестит»). А образ века в его произведениях символизирует советскую действительность: «Но век не вмешаться не может, / А норов у века крутой! <…> И вот он враля-лейтенанта / Назначит морским атташе».
И в галичевском «Салонном романсе», и в «Песне о вещей Кассандре» Высоцкого Троя олицетворяет собой Россию: «А Троя? — Разрушена Троя! / И это известно давно», «Без умолку безумная девица / Кричала: “Ясно вижу Трою, павшей в прах”, / Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, / Во все века сжигали люди на кострах». Причем в последней песне, как и в «Салонном романсе», говорится о греке: «Конец простой — хоть не трагичный, но досадный: / Какой-то грек нашел Кассандрину обитель / И начал пользоваться ей не как Кассандрой, / А как простой и ненасытный победитель».
Особый интерес представляет разработка Высоцким и Галичем темы Правды и Лжи. В советские времена эти понятия были поставлены с ног на голову, и оба поэта по-своему констатируют эту ситуацию.
На этом приеме целиком построено «Заклинание Добра и Зла» Галича: «Но Добро, как известно, на то и Добро, / Чтоб уметь притвориться и добрым, и смелым, / И назначить при случае черное белым / И веселую ртуть превращать в серебро» (сравним у Высоцкого: «Притворились добренькими, / Многих прочь услали / И пещеры ковриками / Пышными устлали», «И будут вежливы, и ласковы настолько — / Предложат жизнь счастливую на блюде, / Но мы откажемся. И бьют они жестоко. / Люди! Люди! Люди!»). А своих противников — в том числе самого Галича — власть заклеймила как Зло и попыталась взвалить на них вину за свои собственные преступления: «И Добро прокричало, стуча сапогами, / Что во всем виновато беспечное Зло!», — в чем видится явная перекличка с «Притчей о Правде и Лжи» (1977) Высоцкого: «Тот протокол заключался обидной тирадой — / Кстати, навесили Правде чужие дела, — / Дескать, какая-то мразь называется Правдой, / Ну, а сама пропилась, проспалась догола», и с одним из его набросков 1969 года: «Слухи по России верховодят / И со сплетней в терцию поют. / Ну а где-то рядом с ними ходит / Правда, на которую плюют».
В песне «Я выбираю Свободу» (1968), как и позднее в «Заклинании Добра и Зла», Галич саркастически именует органы власти «Свободой», поскольку они сами себя так называют: «Я выбираю Свободу, / И знайте, не я один! /…И мне говорит “Свобода”: / “Что ж, — говорит, — одевайтесь / И — пройдемте-ка, гражданин!”». У Высоцкого же «зло называется злом», а «добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем» («Баллада о времени»), и положительные характеристики власти в его творчестве исходят, в основном, от представителей самой власти: «Всё путем у нечисти — / Даже совесть чистая!», «Мы спокойней суперменов — / Если где-нибудь горит, / В “01” из манекенов / Ни один не позвонит», «А впрочем, мы — ребята нежные, / С травмированной детскою душой» и т. д.
Если продолжить сопоставление «Заклинания Добра и Зла» с «Притчей о Правде и Лжи», то можно обнаружить еще ряд совпадений, например:
Галич: «И сказал Представитель, почтительно строг, / Что дела выездные решают в ОВИРе, / Но что Зло не прописано в нашей квартире / И что сутки на сборы — достаточный срок!»
Высоцкий: «Стервой ругали ее и похуже, чем стервой, / Мазали глиной, спустили дворового пса: / “Духу чтоб не было — на километр сто первый / Выселить, выслать за двадцать четыре часа!”»
Правда, у Галича речь идет о выдворении из страны, а у Высоцкого — из Москвы, но суть дела от этого не меняется.
Впервые же прием, представленный в «Заклинании Добра и Зла», был использован Галичем в песне «Мы не хуже Горация» (1965): «Что ж, зовите небылицы былями, / Окликайте стражников по имени! / Бродят между ражими Добрынями / Тунеядцы Несторы и Пимены».
Перед нами — яркий пример использования «чужого слова»: власть считает себя «Добром» — отсюда характеристика «Добрыня», которая, в отличие от традиционно положительного сказочного образа Добрыни Никитича, приобретает у Галича негативную — саркастическую — коннотацию и поэтому сопровождается авторским эпитетом «ражие».
Что же касается «тунеядцев Несторов и Пименов» (здесь, несомненно, содержится намек в том числе и на недавний процесс над «тунеядцем Бродским»), то «их имен с эстрад не рассиропили, / В супер их не тискают облаточный». Это напоминает песню Высоцкого «У меня было сорок фамилий…» (1963): «Мое имя не встретишь в рекламах / Популярных эстрадных певцов. / Но я не жалею!»
Далее в песне Галича вновь поднимается тема Правды и Лжи: «Бродит Кривда с полосы на полосу, / Делится с соседской Кривдой опытом», — что перекликается с «Песней-сказкой про нечисть» (1966) Высоцкого. В обоих произведениях идет речь об «опыте», которым «делятся» друг с другом представители власти:«Делится с соседской Кривдой опытом», но в песне Высоцкого говорится также и о зарубежных коммунистических движениях: «Из заморского из леса, / Где и вовсе сущий ад, / Где такие злые бесы / Чуть друг друга не едят, / Чтоб творить им совместное зло потом, / Поделиться приехали опытом».
В песне «Моя предполагаемая речь на предполагаемом съезде историков стран социалистического лагеря, если бы таковой съезд состоялся и если б мне была оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово» (1972) Галича также говорится о Кривде, но уже представленной в виде различных «правд», назначаемых властью: «Приходят слова, и уходят слова, / За правдою правда вступает в права <…> Сменяются правды, как в оттепель снег, / И скажем, чтоб кончилась смута: / “Каким-то хазарам какой-то Олег / За что-то отмстил почему-то!”»
Эта тема будет развита Галичем в «Марше мародеров» (1976), который имеет аналогии с его же «Ночным дозором» (1964) и двумя произведениями Высоцкого: «Маршем футбольной команды “Медведей”» и «Балладой о манекенах» (оба — 1973).
Основное отличие стихотворения Галича не только от названных песен Высоцкого, но даже и от «Ночного дозора» состоит в его крайней прямолинейности: «Упали в сон победители и выставили дозоры, / Но спать и дозорным хочется, а прочее — трын-тран. / И тогда в покоренный город вступаем мы, мародеры. / И мы диктуем условия и предъявляем права!»
Сравним с «Маршем» Высоцкого (обратим также внимание на жанр обоих произведений — «марш»): «Когда лакают / Святые свой нектар и шерри-бренди / И валятся на травку и под стол, / Тогда играют / Никем не победимые медведи / В кровавый, дикий, подлинный футбол».
Достаточно интересно, что эти мародеры, упоминавшиеся также в песне «Памяти Б. Л. Пастернака»: «А над гробом встали мародеры / И несут почетный КА-РА-УЛ!»[883], начинают действовать ночью, когда все спят (вспомним, что и аресты в советские времена часто происходили именно в это время суток). Такая же ситуация описывается в «Ночном дозоре», где речь идет о многочисленных памятниках Сталину, после XX съезда убранных в запасники и теперь вновь возвращающихся, и в «Балладе о манекенах» Высоцкого: «…когда живые люди спят, / Выходят в ночь манекены».
Что же касается парада уродов из песни Галича 1964 года, то он встретится и в стихотворении Высоцкого «Схлынули вешние воды» (1966): «<…> Вышли на площадь уроды, / Солнце за тучами скрылось. / А урод-то сидит на уроде / И уродом другим погоняет. / И это всё при народе, / Который приветствует вроде / И вроде бы всё одобряет».
Именно ночью мародеры захватили власть в городе (в стране), назвав себя победителями, а истинных победителей — мародерами: «Горнист протрубит побудку, сон стряхнут победители / И увидят, что знамя Победы не у них, а у нас в руках. <…> Историки разберутся — кто из нас мародеры, / А мы-то уж им подскажем, а мы-то уж их просветим. <…> И, стало быть, всё в порядке! И, стало быть, всё как надо! / Вам, мародерам, — пуля, а девки и марши — нам!»
Кстати, когда Галича исключали из Союза писателей СССР, то обвинили его именно в мародерстве (см. главу «Исключения из союзов»).
Теперь затронем мотив вранья представителей власти, который встречался в уже упомянутой песне Галича «Мы не хуже Горация»: «Что ж, зовите небылицы былями». В его песне «Бессмертный Кузьмин» (1968) встретится также: «Тогда опейся допьяна / Похлебкою вранья». Здесь перед нами — вариация образа ядовитого зелья, которое «варят» представители власти, пьют сами и заставляют пить других. У Высоцкого в «Разбойничьей» есть похожий образ: «Пей отраву, хоть залейся, / Благо денег не берут». Вспомним в этой связи еще одну песню Галича, которая называется «Песня о последней правоте» (1967): «И приятель мой, плут и доносчик, / Подольет мне отраву в вино», в чем видится явная перекличка с песней Высоцкого «Мои похорона» (1971): «Яду капнули в вино, / Ну а мы набросились. / Опоить меня хотели, но / Опростоволосились». Кроме того, песня Галича заканчивается следующими словами: «А приятель, всплакнув для порядка, / Перейдет на возвышенный слог…», — что вновь напоминает «Мои похорона»: «И почетный караул / Для приличия всплакнул». Как видим, в обоих случаях показывается лицемерие властей предержащих (сравним еще в песне Высоцкого «Веселая покойницкая», также написанной в 1971 году: «Бывший начальник — и тайный разбойник — / В лоб лобызал и брезгливо плевал»). Эти два мотива — возвышенный слог и всплакнув для порядка встречаются также в песне Галича «Памяти Пастернака»: «<…> На полчасика погрустнели <…> И терзали Шопена лабухи, / И торжественно шло прощанье». Сравним с той же песней Высоцкого «Мои похорона»: «Стали речи говорить — всё про долголетие», — и с черновым вариантом его же «Памятника», где скульптор «разразился приветствием-тостом / И хвалу нараспев произнес».
Что же касается мотива отравленного зелья, то он появится еще в одном стихотворении Галича («Кошачьими лапами вербы…», 1971), хотя и имеет другое смысловое наполнение: «А я и пригубить не смею / Смертельное это вино. / Подобно лукавому змею, / Меня искушает оно!»
Скорее всего, здесь перед нами — мотив чаши, которую должен испить лирический герой, но не может на это решиться. Этот мотив подробно разрабатывается и Высоцким: «Ох, приходится до дна ее испить — / Чашу с ядом вместо кубка я беру…», «Только чашу испить не успеть на бегу…», «И лучше мне молча допить / Бокал».
Говоря о теме «Правда и Ложь», нельзя обойти вниманием тесно связанный с ней мотив дальтонизма. Мы уже цитировали строку из «Заклинания Добра и Зла»: «И назначить при случае черное белым». Власть не только произвела «переоценку ценностей», но и установила эти новые «ценности» в качестве канона для всех людей. Рассмотрим в этой связи «Песню о синей птице» (1966) Галича и сопоставим ее с произведениями Высоцкого: «Был я глупый тогда и сильный, / Все мечтал я о птице синей. / А нашел ее синий цвет — / Заработал пятнадцать лет. / Было время, за синий цвет / Получали пятнадцать лет! <…> Было время, за красный цвет / Добавляли по десять лет! <…> Ох, сгубил ты нас, желтый цвет: / Мы на свет глядим, а света нет!»
Мотив дальтонизма вкупе с его вариациями — мотивами слепоты (сравним с написанной чуть позже «Колыбельной» Галича: «Незрячим к чему приметы?!») и слабого зрения («А как желтый блеск стал белеть, / Стали глазоньки столбенеть!») — подробно разрабатывается Высоцким: «…Потому что мы жили в бараках без окон, / Потому что отвыкли от света глаза!», «Я от белого света отвык», «Бродят толпы людей, на людей не похожих: / Равнодушных, слепых», «Сколько я, сколько я видел на свете их — / Странных людей, равнодушных, слепых», «Мы ослепли — темно от такой белизны, / Но прозреем от черной полоски земли», «И обязательное жертвоприношенье, / Отцами нашими воспетое не раз, / Поставило печать на наше поколенье, / Лишило разума и памяти, и глаз», «Куда идешь ты, темное зверье? / “Иду на Вы, иду на Вы!” / Или ослабло зрение твое? / “Как у совы, как у совы!”»
Этот мотив будет развит Высоцким и в стихотворении «Про глупцов» (1977), где советская власть представлена в образе трех глупцов, которые «спор вели <…> кто из них, из великих, глупее»: «…Встрял второй: “Полно вам, загалдели! / Я способен все видеть не так, / Как оно существует на деле!” / “Эх, нашел, чем хвалиться, простак, / Недостатком всего поколенья! / И к тому же все видеть не так — / Доказательство слабого зренья!”»
Привив другим людям способность «все видеть не так», власть сама от нее страдает. Этот «недостаток всего поколенья» упоминается также в полностью посвященном цветовой тематике стихотворении Высоцкого «Представьте, черный цвет невидим глазу…» (1972): «Есть, правда, отклоненье в дальтонизме, / Но дальтонизм — порок и недостаток», и в той же «Песне о синей птице» Галича: «Покалечены наши жизни!.. / А может, дело все в дальтонизме? / Может, цвету цвет не чета, / И мы не смыслим в том ни черта? / Так подчаль меня, друг, за столик. / Ты — дальтоник, и я — дальтоник. / Разберемся ж на склоне лет, / За какой мы погибли цвет…»
Слово «подчаль» говорит о том, что главный герой этой песни — безногий инвалид, проведший много лет в лагерях. В более ранней песне Галича — «Облака» (1962) — мы находим похожего героя, который провел в заключении двадцать лет и также сидит в пивной: «Я в пивной сижу, словно лорд, / И даже зубы есть у меня». Сходную тему разрабатывает Высоцкий в «Песне про снайпера, который через пятнадцать лет после войны спился и сидит в ресторане. Делать ему уже нечего» (1965). Причем в этой песне косвенно упоминаются вызов в суд и тюремное заключение главного героя (процитируем черновик): «И кляксой мерзкой / На белый лист / Легла повестка / На твою жизнь».
У главного героя «Песни о синей птице» есть реальный прототип. Слово Александру Галичу: «…на инвалидной коляске, вместо протезов было четыре колеса. Он сказал: “Подсадите-ка меня, братцы”. Мы выпили. Когда мы выпили, он рассказал нам такую историю» (Переделкино, на даче Пастернаков, 1974). Эту же трагическую для страны тему воспроизводит Высоцкий в стихотворении «Забыли», также написанном в 1966 году: «“Желаю удачи!” — сказал я ему. / “Какая там на хрен удача!” / Мы выпили с ним, посидели в дыму, / И начал он сразу, и начал: / “А что, — говорит, — мне дала эта власть / За зубы мои и за ноги? / А дел до черта — напиваешься всласть / И роешь культями дороги”».
В «Поэме о Сталине» Галича (конец 60-х) также встречается мотив физической искалеченности главного героя: «Я седой не по годам / И с ногою высохшей. / Ты слыхал про Магадан? / Не слыхал? Так выслушай!» Сравним с «Песней про Магадан» Высоцкого (1968): «Ты думаешь, что мне не по годам, / Я очень редко раскрываю душу, — / Я расскажу тебе про Магадан / — Слушай!».
Между тем содержание этих произведений, несмотря на внешнее сходство, различно: главный герой песни Галича рассказывает о своем лагерном прошлом, а лирический герой Высоцкого, как и в более ранней его песне «Мой друг уехал в Магадан», — о своей поездке к другу, «не по этапу».
Вместе с тем и Высоцкий, и Галич говорят о «заклейменности» всех советских людей: «Но мы-то знаем, какая власть / Нам в руки дала кайло. / И все мы — подданные ее / И носим ее клеймо» (Королева материка, 1971). Сравним в «Баньке по-белому» Высоцкого, где власть персонифицирована в образе Сталина, «въевшегося» в плоть и кровь главного героя: «Застучали мне мысли под темечком: / Получилось, я зря им клеймен. / И хлещу я березовым веничком / По наследию мрачных времен».
Еще одна интересная тема — власть-бог и власть-дьявол.
В галичевской «Поэме о Сталине» есть глава, которая называется «Клятва вождя». В ней Сталин напрямую называет себя богом и при этом ехидно пародирует Евангелие: «Если ж я умру (что может статься), / Вечным будет царствие мое» (ср.: «Царство Мое не от мира сего», Ин. 18: 36). Таким образом, происходит наделение советской власти божественными свойствами. Подобное сатирическое совмещение советских и христианских реалий встречается и в ряде других произведений Галича: «В ДК идет заутреня / В защиту мира!»[884], «Навсегда крестом над Млечным Путем / Протянется Вшивый Путь!», «По улице черной за вороном черным, / За этой каретой, где окна крестом…».
У Высоцкого этот прием представлен гораздо более обширно, но вместе с тем в более скрытой форме. Например, в «Побеге на рывок» (1977) действия стрелков, отстреливающих беглецов с вышки, приравниваются к «свыше», то есть «от Бога»: «Но свыше — с вышек — все предрешено», а убийство одного из беглецов саркастически приравнивается к крещению: «Но поздно: зачеркнули его пули — / Крестом: в затылок, пояс, два плеча…». А в «Райских яблоках» (1978) в образе ангелов представлены вологодские охранники, находящиеся на тюремных вышках: «Херувимы кружат, ангел окает с вышки — занятно!» (вариант: «…ангел выстрелил в лоб аккуратно»).
Подобно Богу, советская власть вездесуща, и от ее присутствия невозможно скрыться. Как сказано в песне Высоцкого «Про личность в штатском» (1965): «Со мной он завтракал, обедал, / Он везде за мною следом, / Будто у него нет дел». А в другой его песне — «Невидимка» (1967) — демонстрируется высшая степень «вездесущности» власти: «Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай, / Приходит ли знакомая блондинка — / Я чувствую, что на меня глядит соглядатай, / Но только не простой, а невидимка».
Сравним это с саркастическим комментарием Галича к «Песне про майора Чистова» (1966): «Посвящается нашим доблестным органам Комитета государственной безопасности в благодарность за их вечные опеку и внимание».
В песне Высоцкого «Таможенный досмотр» (1974) олицетворением всемогущества власти становится таможня, тщательно обыскивающая всех людей и даже влезающая к ним в душу, чтобы те — не дай Бог! — даже в мыслях не увезли с собой ничего недозволенного (процитируем черновик): «Зря ли у них рентген стоит: / Просветят поясницу, — / А там с похмелья все горит, / Не пустят в заграницу! / Что на душе? — Просверлят грудь, / А голову — так вдвое: / И всё — ведь каждый что-нибудь / Да думает такое!»
Похожий мотив встречается в только что упомянутой «Песне про майора Чистова»: «Я спросонья вскочил, патлат, / Я проснулся, а сон — со мной: / Мне приснилось, что я — Атлант, / На плечах моих — шар земной!», и все это кончилось так: «И открыл он мое досье, / И на чистом листе — педант! — / Написал он, что мне во сне / Нынче снилось, что я — Атлант!»
В этой песне упоминается досье, которое майор завел на главного героя, а в «Невидимке» Высоцкого говорится о невидимой книжке: «Я чувствую: сидит, подлец, и выпитому счет / Ведет в свою невидимую книжку», которая в различных вариациях упоминается и в других его произведениях: «Я однажды для порядка / Заглянул в его тетрадку — / Обалдел!» («Про личность в штатском»); «И особист Суэтин, / Неутомимый наш, / Еще тогда приметил / И взял на карандаш. / Он выволок на свет и приволок / Подколотый, подшитый матерьял» («Тот, который не стрелял»); «А самый главный сел за стол, / Вздохнул осатанело / И что-то на меня завел, / Похожее на дело» («Ошибка вышла»); «Халат закончил опись / И взвился, бел, крылат: / “Да что же вы смеетесь?” — / Спросил меня халат» («Общаюсь с тишиной я…»).
Партийные чиновники считают себя и свой режим «вечными». Вот как этот мотив реализован Высоцким в «Песне о несчастных сказочных персонажах» (1967), где происходит диалог между «добрым молодцем Иваном», в образе которого выступает лирический герой Высоцкого, и Кащеем Бессмертным, который является олицетворением власти: «И грозит он старику двухтыщелетнему: / “Щас, — грит, — бороду-то мигом обстригу! / Так умри ты, сгинь, Кащей!” А тот в ответ ему: / “Я бы — рад, но я бессмертный — не могу!” / “Я докончу дело, взявши обязательство!..” / И от этих-то неслыханных речей / Умер сам Кащей, без всякого вмешательства, — / Он неграмотный, отсталый был Кащей».
Сравним эту ситуацию с «Вечерними прогулками» Галича, в которой хмырь умирает, услышав смелые, обличительные речи, которые произносит в его адрес лирический герой Галича, выступающий в образе «работяги»[885]: «Хмырь зажал рукою печень, / Хмырь смертельно побледнел. / Даже хмырь и тот не вечен — / Есть у каждого предел».
Хмырь в творчестве Галича — одно из повторяющихся олицетворений власти. Сравним, например, с поэмой «Королева материка» (1971): «А еще говорят, что какой-то хмырь, / Начальничек из Москвы, / Решил объявить Королеве войну — / Пошел, так сказать, “на вы”», — и с «Историей одной любви…» (1968): «Приходили два хмыря из Минздрава, / До обеда проторчали у зава…»
Также власть зачастую бывает представлена в образе дьявола или сравнивается с ним. Этот прием используется во многих произведениях Высоцкого: в черновиках песни «Приговоренные к жизни»: «Мы в дьявольской игре — тупые пешки», в черновиках стихотворения «Пятна на Солнце»: «Всем нам известные уроды / (Уродам имя — легион) / С доисторических племен / Уроки брали у природы. / Им власть и слава не претили, / Они и с дьяволом на “ты”, / Они искали на светиле / Себе подобные черты». Также в ранней редакции стихотворения «Вооружен и очень опасен»: «Он, видно, с дьяволом “на ты” <…> В аду с чертовкой обручась, / Он потешается сейчас», в черновиках «Разбойничьей»: «Знать, отборной голытьбой / Верховодят черти. / Вся губерния в разбой / Подалась от смерти». А в песне «Переворот в мозгах из края в край…» власть (Ленин) прямо представлена в образе дьявола: «Тем временем в аду сам Вельзевул / Потребовал военного парада, / Влез на трибуну, плакал и загнул: / “Рай, только рай спасение для ада!”». Сравним это с «Поэмой о Сталине» Галича: «Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, / Не бойтесь пекла и ада, / А бойтесь единственно только того, / Кто скажет: “Я знаю, как надо!” / Кто скажет: “Всем, кто пойдет за мной, / Рай на земле — награда”». Совпадает даже рифма в обоих текстах. Сходство это, очевидно, не случайное: поэма Галича закончена, по-видимому, в 1969 году, а песня Высоцкого написана в 1970-м (год столетия со дня рождения Ленина, который и пообещал всем «рай на земле»). Процитируем в этой связи еще стихотворение Пастернака «Русская революция» (1918): «Он, — “С Богом, — кинул, сев; и стал горланить: — К черту! — / Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть! / Мы у себя, эй жги, здесь Русь да будет стерта! / Еще не все сплылось; лей рельсы из людей!» А у Высоцкого: «Ну что ж, вперед, а я вас поведу! — / Закончил Дьявол. — С богом, побежали!».
В песне Галича «Еще раз о чёрте» (1968[886]) лирического героя во время бессонницы посещает черт, являющийся олицетворением власти, и уговаривает его «продаться» — подписать договор. Ночью происходит действие и в песне Высоцкого «Про черта» (1965): «У меня запой от одиночества, / По ночам я слышу голоса. / Слышу вдруг: зовут меня по отчеству. / Глянул — черт. Вот это чудеса!» Сравним с другими произведениями Высоцкого: «Ночью снятся черти мне, / Убежав из ада», «Мне снятся крысы, хоботы и черти…», «Сон мне снится <…> На мои похорона / Съехались вампиры». Все эти переклички говорят о том, что данные произведения объединены сознанием лирического героя, а в свете рассматриваемого приема отождествления власти с дьяволом логично предположить, что и здесь нечисть является олицетворением власти.
Вспомним также, что ночью появляются мародеры в «Марше мародеров», памятники Сталину (парад уродов) в «Ночном дозоре», уроды в стихотворении Высоцкого «Схлынули вешние воды…», манекены в его же «Балладе о манекенах»; ночью появляется палач в одноименном стихотворении Высоцкого, и, кстати, наблюдается перекличка с песней «Про черта». Сравним: «Все кончилось, светлее стало в комнате», «Уже светало — наше время истекло». Различие, правда, состоит в том, что черт под утро исчезает, а в стихотворении «Палач», написанном через 12 лет, палач уже казнит лирического героя.
Важно еще отметить, что в «Разговоре с чертом» Галича присутствует отождествление XX века с веком каменным. Правда, дается оно от лица власти (черта), которая сама все прекрасно понимает: «И что душа — прошлогодний снег! / А глядишь — пронесет и так. / В наш атомный век, в наш каменный век / На совесть цена — пятак». Сравним у Высоцкого («Расскажи, дорогой», 1976): «Всё богатство души / Нынче стоит гроши». Отождествление современности с каменным веком встречается также в песне Высоцкого «Про любовь в каменном веке» (1969): «В век каменный и не достать камней?! / Мне стыдно перед племенем моим», — и в его же стихотворении «Много во мне маминого…» (1978): «Я — из века каменного, / Из палеолита <…> За камнями очереди, / За костями тоже».
В продолжение темы всемогущества власти обратимся к песне Галича «Колыбельная» (1966) и сопоставим ее с произведениями Высоцкого. Сразу же бросается в глаза саркастичность названия песни — оно резко диссонирует с содержанием: «Баю-баю-баю-бай! / Ходи в петлю, ходи в рай, / Гаркнет ворон на краю: / “Хорошо ль тебе в раю? / Засыпая — засыпай! / Баю-баю-баю-бай!”» Сравним с аналогичной ситуацией в «Балладе о манекенах» Высоцкого: «Вон тот кретин в халате / Смеется над тобой: / Мол, жив еще приятель? / Доволен ли судьбой?»
Что же касается образа ворона, то и в поэзии Галича, и в поэзии Высоцкого он является олицетворением власти и ее приспешников. Причем в трилогии «История болезни» ворон ведет себя точно так же, как его собрат в «Колыбельной»: «И ворон крикнул: “Nevermore!”, / Проворен он и прыток, / Напоминает: прямо в морг / Выходит зал для пыток» (у Высоцкого — пытки, у Галича — петля).
В песне Галича неспроста упомянут рай — дальнейшее развитие сюжета как раз и связано с разработкой этой темы. А раем так же, как и земной жизнью, распоряжается власть: «Но в рай мы не верим, нехристи, — / Незрячим к чему приметы! / А утром пропавших без вести / Выводят на берег Леты. / Сидят пропавшие, греются, / Следят за речным приливом. / А что им, счастливым, грезится? — / Не грезится им, счастливым».
Этот берег Леты, который, как оказалось, контролируется «конвойным», упомянут в сходном контексте и в «Кумачовом вальсе» (1973) Галича, целиком посвященном образу кумача, то есть красного знамени: «Так неужто и с берега Леты / Мы увидим, как в звездный простор, / Будут плыть кумачовые буквы…». Этот последний образ (кумач, или красный флаг) в творчестве Высоцкого встречается довольно редко — причем все случаи относятся к 1978–1979 годам (хотя в начале 60-х он исполнял песню Юза Алешковского «Товарищ Сталин» с некоторыми изменениями: «Вчера мы хоронили двух марксистов — / Мы их не накрывали кумачом»):
1) в черновиках «Райских яблок»: «Мне не надо речей, кумачей и свечей в канделябрах»;
2) в песне «Аэрофлот»: «Хотя бы сплюнул: всё же люди — братья, / И мы вдвоем и не под кумачом»;
3) в политическом стихотворении 1978 года: «Новые левые — мальчики бравые, / С красными флагами буйной оравою, / Чем вас так манят серпы да молоты? / Может, подкурены вы и подколоты?»
Здесь можно также упомянуть заграничный дневник 1975 года, где Высоцкий описывал свое впечатление от фильма «Айседора»: «Портреты Ленина во всех ракурсах, и все красно от кумача. Господи, как противна эта клюква. Стыдно».
Теперь сопоставим «Колыбельную» Галича со стихотворением Высоцкого «Я прожил целый день в миру / Потустороннем» (1975). Здесь лирический герой, вернувшийся «с того света»[887],начинает расхваливать потусторонний мир и призывать людей умереть. А поскольку тот свет в творчестве Высоцкого также контролируется властью[888], то лирический герой, расхваливающий царящее там изобилие, предстает в сатирических тонах — мотив авторского самобичевания (вероятно, чтобы не стать таким).
Высоцкий: «Там, кстати, выпить-закусить — / Всего навалом».
Галич: «Идут им харчи казенные, / Завозят вино — погуливают».
Высоцкий в своем стихотворении упоминает намеком и Сталина: «Там этот, с трубкой… Как его? / Забыл… Вот память!» «Этот с трубкой» встречается и в «Ночном дозоре» Галича: «То он в бронзе, а то он в мраморе, / То он с трубкой, а то без трубки». Наблюдаются и другие сходства.
Высоцкий: «Там встретились кто и кого / Тогда забрали».
Галич: «Сидят палачи и казненные, / Поплевывают, покуривают».
В обоих случаях представлен «единый» загробный мир — в нем нет разделения на ад и рай: скорее даже воссоздается некое подобие царства Аида в греческой мифологии. И в этом «царстве» встретились палачи и жертвы, уже побратавшиеся и не таящие друг на друга обиду и вражду. Однако в «Колыбельной» Галича власть распоряжается не только загробной жизнью, но и «прошлым» советской истории: «Придавят бычок подошвою… / И в лени от ветра вольного / Пропавшее наше прошлое / Спит под присмотром конвойного». Сравним с песней Высоцкого «Зарыты в нашу память на века…» (1971): «Одни его лениво ворошат, / Другие неохотно вспоминают, / А третьи даже помнить не хотят, / И прошлое лежит, как старый клад, / Который никогда не раскопают», и со стихотворением 1979 года: «Мы бдительны — мы тайн не разболтаем, / Они в надежных, жилистых руках. / К тому же этих тайн мы не знаем, / Мы умникам секреты доверяем, / А мы, даст бог, походим в дураках».
Эти надежные, жилистые руки напоминают галичевских престарелых вождей, которые «в сведенных подагрой пальцах / Крепко держат бразды правленья», что в свою очередь перекликается с мотивом гнилости представителей власти в ряде произведений Высоцкого: «А урод — на уроде, / Уродом погоняет. / Лужи высохли вроде, / А гнилью воняет» («Схлынули вешние воды», 1966), «Гнилье / Ваше сердце и предсердие!» («Мистерия хиппи», 1973). Стоит упомянуть также образы гнили и трясины, в которые погружается страна: «Но рано нас равнять с болотной слизью, / Мы гнезд себе на гнили не совьем» («Приговоренные к жизни», 1973).
Кроме того, власть сама всех гноит.
Галич: «А маршала сгноили в Соловках» («У лошади была грудная жаба…», 1961), «Сгнило в вошебойке платье узника…» («Засыпая и просыпаясь», 1966).
Высоцкий: «…А не то я, матерь вашу, всех сгною!» («Песня о нечисти», 1966). Сравним также с замыслами отставного чекиста в песне Галича «Заклинание» (1963): «Волны катятся, чертовы бестии, / Не желают режим понимать! / Если б не был он нынче на пенсии, / Показал бы им кузькину мать!» А в песне Высоцкого, также написанной при Хрущеве — в 1963 году, читаем: «Но сам Хрущев сказал еще в ООНе, / Что мы покажем кузькину им мать!»
В песне Галича «Занялись пожары», как и в «Набате» Высоцкого (обе — 1972) встречается образ всемирного пожара: «А мы утешаем своих Маргарит, / Что просто земля под ногами горит, / Горят и дымятся болота — / И это не наша забота! <…> Вот так же, за чаем, сидела семья, / Вот так же дымилась и тлела земля, / И гость, опьяненный пожаром, / Пророчил, что это недаром!»
Нетрудно догадаться, что гость, опьяненный пожаром, — это один из рьяных приверженцев советской власти, который поддался «обаянию» надвигающейся катастрофы. Родственный образ встречается в «Русских плачах» Галича: «О Россия-Расея, / Чем пожар не веселье?!» и «Набате» Высоцкого: «Но у кого-то желанье окрепло / Выпить на празднике пыли и пепла, / Понаблюдать, как хоронят сегодня, / Быть приглашенным на пир в преисподней».
Еще в одном стихотворении 1972 года («Памяти Живаго») Галич использует образ пожара как символ разрушительной деятельности советской власти: «Опять над Москвою пожары, / И грязная наледь в крови… / И это уже не татары, / Похуже Мамая — свои!», что перекликается с песней Высоцкого «Пожары» (1978): «Пожары над страной — всё выше, злее, веселей».
Предупреждение о катастрофе, к которой должно привести правление советской власти, обещавшей людям «рай на земле», встречается и в последней главе «Размышлений о бегунах на длинные дистанции» (1969), где идет речь о «том, кто знает, как надо»: «И рассыпавшись мелким бесом, / И поклявшись вам всем в любви, / Он пройдет по земле железом / И затопит ее в крови, / И наврет он такие враки. / И такой наплетет рассказ, / Что не раз тот рассказ в бараке / Вы помянете в горький час». Сравним со стихотворением Высоцкого «Слева — бесы, справа — бесы…» (1976): «И куда, в какие дали, / На какой еще маршрут / Нас с тобою эти врали / По этапу поведут?»
Теперь обратимся к военно-лагерной тематике.
Мы намеренно объединили эти две темы, поскольку в произведениях Высоцкого и Галича они нередко соседствуют друг с другом. Например, оба поэта говорят о том, что во время Второй мировой войны советским зэкам давали в руки оружие.
Галич: «А нас из лагеря — да на фронт» («Песня о синей птице», 1966).
Высоцкий: «А у лагерных ворот <…> Надпись: “Все ушли на фронт”» («Все срока уже закончены», 1964).
Примерно в одно время (1963 год) оба поэта пишут песни о штрафниках: Высоцкий — «Штрафные батальоны», Галич — «Левый марш» (вариант названия — «Марш штрафников»). Правда, Галич лишь сравнивает лирическое мы, к которому относит и себя, со штрафниками, а в песне Высоцкого лирическое мы непосредственно выступает в образе штрафников.
Сравнение со штрафниками, то есть с людьми, находящимися в ситуации смертельного риска, присутствует также в стихотворном посвящении Высоцкого «К 50-летию К. Симонова» (1965): «…И со штрафной Таганки в этот день / Мы поздравляем с вашим юбилеем».
Разберем еще одну строфу из «Левого марша»: «И не странно ли, братья серые, / Что по-волчьи мы, на лету, / Рвали горло за милосердие, / Били морду за доброту?»
Обращение к соотечественникам братья серые является эвфемизмом слова «волки» и встречается у Галича, кажется, только в «Левом марше». Ирония, с которой употребляется это словосочетание, подчеркивается последующим негативным сравнением с волками, которые «рвали горло за милосердие, / Били морду за доброту» (мотив междоусобной войны встречается и в песне «Бессмертный Кузьмин»: «На брата брат идет войной…»). Это объясняется тем, что образ волков Галич использует лишь в отрицательном смысле — как олицетворение власти: «Обкомы, горкомы, райкомы <…> В их залах прокуренных волки / Пинают людей, как собак. / А после те самые волки / Усядутся в черные “Волги”, / Закурят вирджинский табак», или ее прислужников: «И ты будешь волков на земле плодить / И учить их вилять хвостом!» У Высоцкого же волки могут выступать как олицетворение обыкновенных, «нормальных» людей («Охота на волков», «Конец охоты на волков») — власть в таких произведениях, соответственно, представлена в образе егерей и стрелков, — так и в качестве олицетворения власти («Погоня», «Песенка про Козла отпущения»),
Рассмотрим еще две параллели на военную тему. В галичевском «Вальсе, посвященном уставу караульной службы» (1965) рядовой солдат попадает под трибунал из-за того, что «не помер, как надо, / Как положено <…> по ранжиру» (такую претензию к нему предъявляет «прокурор-дезертир»), и робко пытается оправдаться: «Еле слышно отвечает солдат: / “Ну не вышло помереть, виноват”».
Напрашивается параллель с «Песней о погибшем летчике» Высоцкого (1975): «Мне ответ подвернулся: / “Извините, что цел!”».
В песне «Ошибка» (1964) Галич констатирует: «Если зовет своих мертвых Россия — / Так, значит, беда». А в песне Высоцкого «Он не вернулся из боя» (1970) также говорится, хотя и в несколько ином ключе, о павших как о помощниках живых: «Наши мертвые нас не оставят в беде, / Наши павшие — как часовые».
Мы уже затрагивали «Поэму о Сталине» Галича. Теперь обратимся к ней вновь, но остановимся теперь на лагерной тематике.
В этой поэме «столетья, лихолетья и мгновенья сомкнулись в безначальное кольцо», то есть происходит совмещение двух эпох — древнеримской и советской: «Но тут в вертеп ворвались два подпаска / И крикнули, что вышла неувязка, / Что праздник отменяется (увы!), / Что римляне не понимают шуток, / И загремели / Поддавшие на радостях волхвы».
Подчеркнутые слова представляют собой одну из реалий советской жизни. Встречается она и в некоторых произведениях Высоцкого, например в «Лекции о международном положении, прочитанной заключенным, посаженным за мелкое хулиганство» (1979), или в повести «Жизнь без сна» (1968): «<…> Нет, это один свидетель в протоколе написал, а его — за политическое хулиганство».
А использование Римской империи в качестве аллегории Советского Союза — достаточно характерный для Высоцкого прием: достаточно назвать песню «Про семейные дела в Древнем Риме» (1969) и «Песенку-представление Робин Гуся» (1973), написанную к дискоспектаклю «Алиса в Стране чудес»: «Я вам клянусь, я вам клянусь, / Что я из тех гусей, что Рим спасли». Этот гусь, в образе которого выступает здесь сам поэт (и еще будет выступать в одном из последних стихотворений «В стае диких гусей был второй…», 1980), выполняет здесь ту же функцию, что пророчица Кассандра в «Песне о Вещей Кассандре»: «Без умолку безумная девица / Кричала: “Ясно вижу Трою павшей в прах”, / Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, / Во все века сжигали люди на кострах», — и волхвы в «Песне о вещем Олеге» (обе — 1967). Соответственно, и Рим и Троя являются олицетворением Советского Союза (как, кстати, и в стихотворении Окуджавы «Римская империя времени упадка…»).
Вернемся к «Поэме о Сталине»: «Уже светало, розовело небо, / Но тут раздались гулко у вертепа / Намеренно тяжелые шаги, / И Матерь Божья замерла в тревоге, / Когда открылась дверь — и на пороге / Кавказские явились сапоги».
Подчеркнем: намеренно тяжелые шаги. Именно так действовали представители КГБ, когда приходили арестовывать людей.
И у Высоцкого, и у Галича сапоги являются непременным атрибутом власти, воплощением которой в поэме Галича является Сталин. Сравним также в его «Ночном дозоре»: «Вот сапог громыхает маршево, / Вот обломанный ус топорщится». Кстати, в этой песне говорится о «марше», который совершают памятники Сталину.
Вот еще несколько цитат из произведений Галича: «И Добро прокричало, стуча сапогами, / Что во всем виновато беспечное Зло!», «<…> Я слышу, как гудят грузовики / И сапоги охранников грохочут — / И топчут каблуками тишину! <…> Грохочут сапоги на всю страну!», «Сгинул мой кораблик <…> Попросту при обыске / Смяли сапогами», «О чем он думает теперь, / Теперь, потом, всегда, / Когда стучит ногою в дверь / Чугунная беда?!» Слово чугунная говорит о том, что у тех, кто пришел арестовывать главного героя, были подкованные сапоги. Этот атрибут подробно представлен и в творчестве Высоцкого. Достаточно процитировать песни «Побег на рывок», «Гололед», «Люди середины» и «Песню о Волге»: «Взвод вспотел раза три, / Пока я куковал. / Он по мне до зари / Сапогами ковал», «Не один, так другой упадет — / Гололед на земле, гололед… / И затопчут его сапогами», «Сегодня каждый третий — без сапог, / Но после битвы — заживут, как крезы. / Прекрасный полк, надежный, верный полк — / Отборные в полку головорезы!», «Долго в воды пресные / Лили слезы строгие / Берега отвесные, / Берега пологие, / Плакали, измызганы / Острыми подковами, / Но уже зализаны / Злые раны волнами».
И в «Поэме о Сталине» Галича, и в «Песне о вещем Олеге» Высоцкого встречается похожий мотив избиения: «И, понимая, чем грозит опала, / Пошли волхвы молоть что ни попало, / Припоминали даты, имена… / И полетели головы. И это / Была вполне весомая примета, / Что новые настали времена»; «Ну, в общем, они не сносили голов — / Шутить не могите с князьями. / И долго дружина топтала волхвов / Своими гнедыми конями».
Правда, у Галича «полетели головы» не волхвов, а тех людей, чьи «даты, имена» волхвы под воздействием пыток («Их в карантине быстро укротили — / Лупили и под вздох, и по челу») «припоминали», то есть речь идет о массовых репрессиях в СССР. У Высоцкого же волхвы являются образом инакомыслящих — тех, кто предупреждает власти о близящемся развале страны, и за это власть уничтожила самих волхвов. (Причем и в «Песне о вещем Олеге», и в «Поэме о Сталине» волхвы «навеселе» — характерная примета эпохи: «Как вдруг прибежали седые волхвы, / К тому же ». «И загремели на пятнадцать суток / на радостях волхвы».)
В песне «Русские плачи» (1974) Галич также будет использовать образ князя Олега и его войска как олицетворение советской власти: «На степные урочища, / На лесные берлоги / Шли Олеговы полчища / По немирной дороге. / И, на марш этот глядючи, / В окаянном бессилье, / В голос плакали вятичи, / Что не стало России!», причем марш здесь — это тот же марш мародеров и парад уродов из других его произведений. Сравним также с полчищами, представленными в черновиках «Баллады о ненависти» (1975) Высоцкого: «Косые, недобрые взгляды / Ловя на себе в деревнях, / Повсюду сновали отряды / На сытых, тяжелых конях. / Коварство и злобу несли на мечах, / Чтоб жесткий порядок в стране навести, / Но ненависть глухо бурлила в ручьях, / Роса закипала от ненависти».
Важно отметить, что в главе «Рождество» галичевской поэмы Сталин «явился» наутро: «Уже светало, розовело небо <…> Кавказские явились сапоги». Эти два мотива — внезапное появление власти и появление ее ранним утром — встречаются еще в некоторых произведениях Галича, например в «Заклинании Добра и Зла»: «Представитель Добра к нам пришел поутру» (здесь говорится об изгнании главного героя из страны). С мотивом внезапного появления представителей власти тесно связана тема ареста:
Высоцкий: «Вспоминаю, как утречком раненько / Брату крикнуть успел: “Пособи!”, / И меня / Повезли из Сибири в Сибирь» («Банька по-белому»).
Галич: «А беда явилась за полночь, / Но не пулею в висок: / Просто в путь, в ночную заволочь / Важно тронулся возок. <…> Едут трое: сам — в середочке, / — по бокам» («Гусарский романс»).
Впрочем, арест может случиться и вечером, как, например, в «Чехарде с буквами» Галича: «Как-то в вечер неспокойный / Тяжко пенилась река, / И явились в Колокольный / Три сотрудника ЧК, / А забрали, Б забрали, И не тронули пока». Сравним с песней Высоцкого «Зэка Васильев и Петров зэка»: «Я доказал ему, что Запад — где закат, / Но было поздно — нас зацапала ЧК, / Зэка Петрова, Васильева зэка».
Но вернемся к «Поэме о Сталине» и обратимся к упомянутому выше мотиву избиения властью людей: «А три волхва томились в карантине. / Их в карантине быстро укротили: / Лупили и под вздох и по челу. / А римский , жаждая награды, / Им говорил: “Сперва колитесь, гады, / А после разберемся, что к чему”». Эта ситуация один к одному напоминает только что упомянутую песню «Зэка Васильев и Петров зэка»: «Потом приказ про нашего . / Что он поймал двух крупных уголовников. / Ему за нас — и деньги, и два ордена, / А он от радости все бил по морде нас».
А под вздох они (палачи) «лупили» друг друга и в «Плясовой» Галича: «Как когда-то, как в годах молодых, / И с оттяжкой, и ногою под дых». Этот мотив встречается и у Высоцкого, но применительно к избиению властью рядовых людей, в том числе и самого лирического героя: «И отправляют нас, седых, / На отдых, то есть бьют под дых», «Как злобный клоун, он менял личины / И бил под дых внезапно, без причины», «Когда ударили под дых — / Я — глотку на замок…» и т. д. А мотив избиения представителями власти друг друга закамуфлирован Высоцким в сказочную форму: «Билась нечисть грудью в груди / И друг друга извела», «Пока хищники меж собой дрались, / В заповеднике крепло мнение…»
Говоря о мотиве избиения, нельзя не вспомнить галичевский «Опыт ностальгии»: «Обкомы, горкомы, райкомы <…> В их залах прокуренных волки / Пинают людей, как собак», — что можно сравнить с целым рядом произведений Высоцкого: «И кулаками покарав, и попинав меня ногами…», «А какой-то танцор бил ногами в живот…», «И топтать меня можно, и сечь» и др.
Вышеупомянутая «Плясовая» Галича построена на повторах слова «палач» и возникающих при этом ассонансах: «Очень плохо палачам по ночам, / Если снятся палачи палачам, / И как в жизни, но еще половчей, / Бьют по рылу палачи палачей». А в концовке песни присутствует убийственный сарказм: «Палачам бывает тоже страшно — / Пожалейте, люди, палачей!», что можно сравнить с одним из поздних стихотворений Высоцкого, в котором использован аналогичный прием: «Накричали речей / Мы за клан палачей, / Мы за всех палачей / Пили чай — чай ничей. / Я совсем обалдел, / Чуть не лопнул, крича. / Я орал: “Кто посмел / Обижать палача?!”»
Теперь обратимся к двум аллегорическим произведениям: это песня Галича «Летят утки» (1966) и стихотворение Высоцкого «В стае диких гусей был второй…» (1980): утки, как и гуси, являются здесь аллегорией людей. Правда, у Галича их изначально всего шесть, а у Высоцкого — целая стая, то есть все население страны.
Сюжет стихотворения Высоцкого посвящен описанию полета гусей-людей и уничтожению их стрелками-властью (вообще в произведениях Высоцкого люди часто бывают представлены в образе животных и птиц: кабанов, мангустов, волков, гусей и т. д., а власть в таких случаях выступает в образе стрелков-егерей): «Мечут дробью стволы, как икрой, / Поубавилось сторожевых. / Пал вожак, только каждый второй / В этом деле остался в живых». Сравним у Галича: «Грянул прицельно с надветренной / В сердце заряд, / А четверо, четверо, четверо / Дальше летят!..»
У Галича, как и у Высоцкого («Мечут дробью стволы, как икрой») присутствует мотив беспорядочных ударов со стороны власти: «Вьюга полярная спятила — / Бьет наугад!», «Такой по столетию ветер гудит, / Что косит своих и чужих не щадит…». У Высоцкого этот мотив встречается еще чаще: «Вылетали из ружей жаканы, / Без разбору разя, наугад, / Будто радостно бил в барабаны / Боевой пионерский отряд», «Кто-то злой и умелый, / Веселясь, наугад / Мечет острые стрелы / В воспаленный закат», «И стрелы ввысь помчались». Вспомним и фразу, сказанную Высоцким Г. Внукову: «Сметут когда-нибудь и меня, как всех метут»[889].
Видя тотальное исчезновение людей, оба поэта пытаются собрать оставшихся в живых.
Галич: «И, как трубач спозаранок, / Уцелевших я друзей собираю»[890](«Уходят друзья», 1963).
Высоцкий: «Словно бритва, рассвет полоснул по глазам <…> Я на глазах полупьяных стрелков / И скликаю заблудшие души волков» («Конец охоты на волков», 1978).
Теперь сопоставим концовки песни «Летят утки» и стихотворения «В стае диких гусей был второй…». У Галича эта концовка представляет собой прозаическую вставку: «И если долетит хоть один, если даже никто не долетит — все равно стоило, все равно надо было лететь!» То есть здесь еще сохраняется пусть призрачная, но надежда, что, может быть, кому-то повезет… У Высоцкого же заранее предсказано, что финал будет печальным: «И кого из себя ты ни строй — / На спасение шансы малы: / Хоть он — первый, хоть двадцать второй — / Попадет под стволы». Но это и понятно: стихотворение Высоцкого написано в 1980 году, когда диссидентское движение уже было фактически разгромлено, лучшие умы либо были вынуждены молчать, либо эмигрировали из страны, либо находились в ссылках, тюрьмах и лагерях, либо были уничтожены. Сравним с аналогичным мотивом в черновиках «Конца охоты на волков» (1978): «Разбросана и уничтожена стая».
Теперь обратимся непосредственно к лагерной тематике.
Галич («Летят утки»): «Мутный за тайгу / Ползет закат, / Строем на снегу / Пятьсот зэка».
Высоцкий («Райские яблоки»): «И огромный этап — тысяч пять — на коленях сидел».
Как видим, Высоцкий показывает более масштабную картину: в его песне ВСЯ страна является лагерной зоной, а Галич изображает ОДИН ИЗ ЛАГЕРЕЙ, на примере которого воссоздает типичную для того времени ситуацию. Но позднее, в «Опыте ностальгии», он также будет использовать образ страны-лагеря: «Над блочно-панельной Россией, / Как лагерный номер, — луна».
Наблюдаются многочисленные переклички между песней Галича и «Побегом на рывок» Высоцкого, который также посвящен лагерной тематике.
В обоих произведениях действие происходит зимой и упоминаются собаки, натасканные ловить беглецов.
Галич: «И стоял вертухай с овчаркою, / И такую им речь откалывал…»
Высоцкий: «А за нами двумя — / Бесноватые псы».
Приведем еще одну перекличку — между набросками к «Побегу на рывок» Высоцкого и песней Галича «Летят утки».
Высоцкий: «И про то, что / Теперь . / Но, бывает, заноет / И станет душить. / Эта сказка — старье. / Что старье бередить? / Ты уснешь под нее — / Я не стану будить».
Галич: « хмуриться, хватит злобиться, / , / Но когда по ночам бессонница, / Мне на память приходит снова: / Мутный за тайгу / Ползет закат, / Строем на снегу / Пятьсот зэка».
Сравним в том же «Побеге на рывок»: «Положен строй в порядке образцовом, / И взвыла “Дружба” — старая пила».
В песне «Облака» главный герой говорит: «Я подковой вмерз в санный след, / В лед, что я кайлом ковырял!» Аналогичная ситуация — в песне Высоцкого «В младенчестве нас матери пугали…» (1977), также посвященной лагерной теме: «И мерзлота надежней формалина / Мой труп на память схоронит навек». Причем следующие строки из этой песни: «Здесь мы прошли за так на “четвертак”, за ради Бога…» — вновь напоминают галичевские «Облака»: «Ведь недаром я двадцать лет / Протрубил по тем лагерям», а также «Фантазию на русские темы…»: «Четвертак на морозе, / Под охраной, во вшах…»
И когда речь заходит о «той» эпохе, оба поэта используют сходные обороты.
Галич: «И все это было когда-то уже, / В каком-то кромешном году!», «Говорят, что когда-то в тридцать седьмом, / В том самом лихом году, / Когда в тайге на всех языках / Пропели славу труду…».
Высоцкий: «И хлещу я березовым веничком / По наследию мрачных времен», «Мы — тоже дети страшных лет России», «Вы, как вас там по именам, — / Вернулись к старым временам?», «В те времена укромные, / Теперь почти былинные, / Когда срока огромные / Брели в этапы длинные».
Следующая тема, которую мы затронем, — это «Песни и застолье в творчестве Высоцкого и Галича». Данная тема зачастую связана с темой власти, советских чиновников, поскольку те регулярно устраивали у себя застолья и для увеселения приглашали различных исполнителей песен.
В качестве отправного пункта рассмотрим «Песню о Тбилиси» (1969) Галича. Здесь лирический герой описывает свое пребывание на одном из таких пиршеств: «Вокруг меня сомкнулся, как кольцо, / Твой вечный шум в отливах и в прибоях. / Потягивая кислое винцо, / Я узнавал усатое лицо / В любом пятне на выцветших обоях»[891].
Напомним, что песня написана в самый разгар реабилитации Сталина, приуроченной властями к 90-летию со дня его рождения: «И вновь зурна вступала в разговор, / И вновь с бокалом истово и пылко / Болтает вздор подонок и позер…» Этот «подонок и позер» (ср. в песне «На сопках Маньчжурии»: «Толстомордый подонок с глазами обманщика…») является одним из тех, кто восхвалял начавшийся в то время откат к сталинизму и прославлял «мудрого вождя». Аналогичную ситуацию воспроизводит Высоцкий в песне «Я скоро буду дохнуть от тоски…» (1969), действие в которой происходит в Батуми, а функцию «подонка и позера» здесь выполняет «тамада», который «всех подряд хвалил с остервененьем» (у Галича — истово и пылко), после чего «был у тамады / Длинный тост алаверды / За него — вождя народов — / И за все его труды. <…> Обхвалены все гости, и пока / Они не окончательно уснули, / Хозяина привычная рука / Толкает вверх бокал “Киндзмараули”» (Галич также упоминает бокал)[892].
В песне Высоцкого прямо говорится о «пересмотре решений» XX съезда, на котором были осуждены преступления Сталина: «И вот уж за столом никто не ест, / И тамада над всем царит шерифом, / Как будто бы двадцатый с чем-то съезд / Другой — двадцатый — объявляет мифом».
Лирический герой Высоцкого так же, как и лирический герой Галича, «потягивал винцо»: «О, как мне жаль, что я и сам такой — / Пусть я молчал, но я ведь пил не реже…» А пил он, как можно догадаться, то же, что и тамада, — «Киндзмараули» — любимое сталинское вино. Кавказский колорит в обеих песнях (во-первых, марка вина; во-вторых, то, что действие происходит в Тбилиси и в Батуми) подчеркивает грузинские корни Сталина. Но, в отличие от Высоцкого, Галич прямо называет имя вождя: «И это все — и Сталин, и хурма, / И дым застолья, и рассветный кочет…»
Мотив самодурства советских чиновников получает развитие в «Новогодней фантасмагории» (1970) Галича и в «Смотринах» (1973) Высоцкого.
В «Смотринах» сосед, являющийся собирательным образом власти, устраивает у себя «гулянку» в честь свадьбы своей дочери и, напившись, начинает «толкать речь»: «Сосед орет, что он — народ, / Что основной закон блюдет: / Мол, кто не ест, тот и не пьет, / И выпил, кстати. / Все сразу повскакали с мест, / Но тут малец с поправкой влез: / “Кто не работает — не ест, — / Ты спутал, батя!”» Сравним с «Королевой материка» (1971) Галича: «…Но начальник умным не может быть, / Потому что — не может быть. / Он надменно верит, что он — не он, / А еще миллион и он, / И каждое слово его — миллион, / И каждый шаг — миллион».
Причем этот начальник, как и сосед, тоже «орет»: «Он гонял на прожарку и в зоне, и за, / Он вопил и орал: “Даешь!”»
В «Смотринах» сосед «после литра выпитой» захотел, чтобы лирический герой развлек его песнями: «Сосед другую литру съел / И осовел, и опсовел, / Он захотел, чтоб я попел — / Зря, что ль, поили?! / Меня схватили за бока / Два здоровенных мужика: / “Играй, паскуда, пой, пока / Не удавили!”» Похожая ситуация изображена в «Новогодней фантасмагории» Галича, где тоже есть сосед, но лирического героя никто не заставляет насильно петь: «…И опять кто-то ест, кто-то пьет, кто-то плачет навзрыд… / “Что за праздник без песни? — мне мрачный сосед говорит, — / Я хотел бы, товарищ, от имени всех попросить: / Не могли б вы, товарищ, нам что-нибудь изобразить!”»
Галич очень точно и вместе с тем пародийно воспроизводит речевые штампы и манеры обращения советских чиновников.
Еще одним собирательным образом власти в этой песне является полковник, поведение которого сродни поведению соседа в «Смотринах» Высоцкого: «А полковник-пижон, что того поросенка принес, / Открывает “боржом” и целует хозяйку взасос. / Он совсем разнуздался, подлец, он отбился от рук, / И следят за полковником три кандидата наук. <…> Кто-то ест, кто-то пьет, кто-то ждет, что ему подмигнут, / И полковник надрался, как маршал, — за десять минут».
Сравним у Высоцкого: «Сосед другую литру съел / И осовел, и опсовел…»
Точно так же ведет себя и вертухай (сотрудник МГБ) в «Фантазиях на русские темы…» (1969) Галича, где ситуация обратная — на этот раз вертухай приезжает в гости к герою-рассказчику: «…Свесив сальные патлы, / Гость завел “Ермака”. / Пой, легавый, не жалко <…> Гость ворочает еле / Языком во хмелю. / И гогочет, как кочет, / Хоть святых выноси, / И беседовать хочет / О спасеньи Руси». А в «Новогодней фантасмагории» полковник, напившись, тоже готов «завести» песню: «Вон, полковник желает исполнить романс “Журавли”, / Но его кандидаты куда-то поспать увели». А перед этим в честь пьяного полковника присутствующие начали петь дифирамбы, а лирический герой должен был его развлекать своими песнями: «Над его головой произносят заздравную речь, / И суют мне гитару, чтоб общество песней развлечь…» Но опять же, в отличие от «Смотрин» Высоцкого, силой лирического героя здесь никто петь не заставляет, и он даже может возразить: «Ну помилуйте, братцы, какие тут песни, пока / Не допили еще, не доели цыплят табака».
В «Смотринах» главный герой постоянно противопоставляет свое неблагополучие изобилию, царящему во владениях власти: «Там, у соседа, пир горой, / И гость — солидный, налитой, / Ну а хозяйка — хвост трубой — / Идет к подвалам, / В замок врезаются ключи, / И вынимаются харчи, / И с тягой ладится в печи, / И с поддувалом»[893].
Похожая ситуация, хотя и в несколько ином ключе, разрабатывается Галичем в песне «По образу и подобию» (1968): «…А у бляди-соседки гулянка в соку, / Воют девки, хихикают хахали. / Я пол-литра открою, нарежу сырку, / Дам жене валидолу на сахаре».
Вот как оба поэта описывают неблагополучие своих героев.
Высоцкий: «А у меня — сплошные передряги: / То в огороде недород, то скот падет, / То печь чадит от нехорошей тяги, / А то щеку на сторону ведет».
Галич: «…А у бабки инсульт, и хворает жена, / И того не хватает, и этого, / И лекарства нужны, и больница нужна, / Только место не светит покедова».
Оба героя вынуждены выслушивать упреки своих жен: «Чиню гармошку, и жена корит», «Под попреки жены исхитрись-ка, изволь, / Сочинить переход из це-дура в ха-моль». Кстати, употребление таких сугубо музыкальных терминов служит дополнительным указанием на то, что ролевой (якобы) герой в песне Галича является авторской маской.
Оба героя хотя и описывают своих соседей крайне негативно, но тем не менее идут к ним в гости.
Галич: «И еще раз налью, и еще раз налью, / И к соседке схожу за добавкою…»
У Высоцкого же герой сначала отвергает приглашения соседа (поскольку знает, что тот хочет развлечься его песнями), но потом соглашается: «Сосед маленочка прислал — / Он от щедрот меня позвал, / Ну я, понятно, отказал, / А он — сначала. / Должно, литровую огрел — / Ну и, конечно, подобрел… / И я пошел — попил, поел — / Не полегчало».
Ситуация с противопоставлением возникает и в песне Галича «Желание славы» (1968[894]) — здесь лирический герой поет песню, действие в которой происходит в больнице, где встречаются бывший надзиратель (вертухай) и бывший зэк: «Справа койка у стены, слева койка, / Ходим вместе через день облучаться, / Вертухай и бывший номер такой-то, / Вот где снова довелось повстречаться! <…> Вертухай и бывший номер такой-то — / Нам теперь невмоготу друг без друга. / И толкуем мы о разном и ясном: / О больнице и больничном начальстве, / Отдаем предпочтение язвам, / Помереть хотим в одночасье». Как видим, здесь противопоставление уже нивелируется, а единение зэка и вертухая подвергается жесткой сатире.
После того как умирает вертухай, герой-рассказчик по нему скорбит: «Я простынкой вертухая накрою… / Все снежок идет, снежок над Москвою, / И сынок мой (по тому ль по снежочку?) / Провожает вертухаеву дочку». Подобная ситуация возникает и в «Больничной цыганочке», в которой умирает начальник героя-рассказчика: «Нет, ребята, такого начальничка / Мне, конечно, уже не найти!»
Сарказм по поводу такого отношения к вертухаям присутствует еще в некоторых произведениях Галича, например, в песне «Всё не вовремя», где вертухай ведет главного героя на расстрел: «В караулке пьют с рафинадом чай, / Вертухай идет, весь сопрел: / Ему скучно, чай, и несподручно, чай, / Нас в обед вести на расстрел!» Наблюдается явное сходство со стихотворением Высоцкого «Палач» («Ах, прощенья прошу, важно знать палачу, / Что, когда я вишу, / Я ногами сучу <…> Как жаль, недолго мне хранить воспоминанье / И образ доброго, чудного палача») и с аллегорической песней «Заповедник» (1972), в которой «шубы не хочет пушнина носить — / Так и стремится в капкан и в загон. / Чтобы людей приодеть, утеплить, / Рвется из кожи вон».
Галич едко высмеивает любое сочувствие по отношению к палачам: «Палачам бывает тоже страшно — / Пожалейте, люди, палачей!» А объединение палачей и их жертв он подвергает беспощадной сатире: «Сидят палачи и казненные, / Поплевывают, покуривают». Однако это объединение подается исключительно как внешнее. У Высоцкого же оно бывает представлено одновременно как внешнее и как «внутреннее» (мотив — «власть во мне»): наиболее яркий пример — стихотворение «Палач» («Но он залез в меня, сей странный человек, / И ненавязчиво, и как-то даже мило»).
Говоря о теме застолья, нельзя обойти вниманием тесно связанный с ней образ заборов, стен, которыми власть имущие отгораживаются от простых людей. Например, в «Больничной цыганочке» Галича начальничек главного героя лежит в отдельной палате: «Ему нянечка шторку повесила, / Создают персональный уют, / Водят, к гаду, еврея-профессора, / Передачи из дома дают!» Впервые же мотив отделенности власти от народа возникает в песне «За семью заборами», написанной Галичем совместно со Шпаликовым.
Обличение власть имущих за то, что они отгородились от народа и предаются чревоугодию, встречалось и в одной из первых песен Высоцкого («Ленинградская блокада», 1961): «Граждане смелые, / А что ж тогда вы делали, / Когда наш город счет не вел смертям? — / Ели хлеб с икоркою, / А я считал махоркою / Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам». Эти строки напоминают «Плясовую» Галича (1969): «Белый хлеб икрой намазан густо, / Слезы кипяточка горячей. / Палачам бывает тоже грустно, / Пожалейте, люди, палачей!»
Как правило, представители власти стараются всячески обезопасить свои пиршества и гулянки от посторонних глаз. Процитируем в этой связи несколько произведений Галича, написанных в 1973 году: «И дач государственных охра / Укроет посадских светил, / И будет мордастая вохра / Следить, чтоб никто не следил» («Опыт ностальгии»), «Облеченный секретной задачей, / Он и ночью, и пасмурным днем / Наблюдает за некою дачей, / За калиткой, крыльцом и окном. / Может, там куролесят с достатка, / Может, контра и полный блядёж… / Кумачовый блюститель порядка, / Для кого ты порядок блюдешь?!» («Кумачовый вальс»). Сюда примыкает «Письмо в семнадцатый век», в котором подробно описывается «меню государственного обеда» на даче одного из высокопоставленных чиновников.
Нетрудно заметить, что все эти песни написаны уже после исключения Галича из творческих союзов и лишения его средств к существованию. Поэтому он с особой яростью обличает роскошь и лицемерие власть имущих.
Теперь для сравнения обратимся к «Сказочной истории» (1973) Высоцкого, где «в белокаменных палатах» собрались на банкет вельможные персоны и охраняют их бдительные сотрудники КГБ: «И стоят в дверном проеме / На великом том приеме / На дежурстве и на стреме / Тридцать три богатыря. / Им потеха — где шумиха, / Там ребята эти лихо / Крутят рученьки, но — тихо, / Ничего не говоря». И там тоже царит невообразимое изобилие еды: «На приеме, на банкете, / Где икорочка в буфете, / Лососина, / Вы при случае пойдите. / Ох, попьете, поедите… — / Дармовщина!» Неудивительно, что лирического героя Высоцкого туда не пригласили (как сказано в другом стихотворении: «Я был завсегдатаем всех пивных — / Меня не приглашали на банкеты»; ср. у Галича в «Больничной цыганочке»: «Я с начальством харчи не делю»).
Эти белокаменные палаты из «Сказочной истории» Высоцкого отделяет от народа мост, что через ров. А в черновиках «Баллады о времени» (1975), где говорится о противостоянии лирического мы («вольных стрелков») власти, которая попыталась отгородиться от них, запершись в своем замке, есть такие строки: «Не помог ни водою наполненный ров, / Ни запоры, ни толстые стены. / Занят замок отрядами вольных стрелков, / Ну а с ними придут перемены». Процитируем еще черновик «Баллады о манекенах» (1973): «Живут, как в башнях из брони, / В воздушных тюлях и газах», а также первоначальный вариант песни «Аисты» (1966): «А по нашей земле / Стон стоит, / Благо стены в Кремле — / Толстые». То есть власть заперлась в Кремле и из-за толстых стен не слышит «стоны» простых людей.
И, наконец, заключительная тема этой главы — «человек и власть» в поэзии Высоцкого и Галича. Но для начала рассмотрим подтему «власть и толпа».