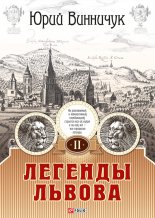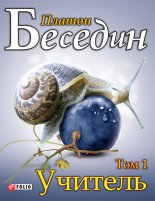Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
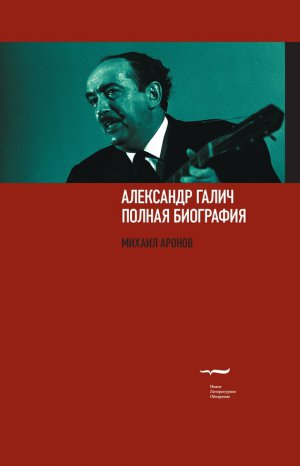
Стал знаменитым лозунг «министра иностранных дел» Германа Безносова: «Перекуем мечи и орала на интегралы!» Были и другие лозунги, с которыми в дни праздников клуб выходил на демонстрацию: «Люди, интегрируйтесь!», «Перекуем орало на интеграле!», «Радость — народу!».
В 1966 году многие городковские ученые выступили в защиту Синявского и Даниэля, а позднее — авторов и распространителей самиздата А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, В. Пашковой и А. Добровольского. Когда же в январе 1968-го состоялся суд над этой четверкой, на стенах зданий появились лозунги: «ЧЕСТНОСТЬ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ», «СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАВНО ФАШИСТСКОМУ», «БЕЗОБРАЗНЫЙ СУД НАД ГРУППОЙ ГИНЗБУРГА-ГАЛАНСКОВА — ЕЩЕ ОДНО ПЯТНО НА КРАСНОМ ЗНАМЕНИ СВОБОДЫ», «НАМ НУЖНЫ УЧЕНЫЕ, А НЕ ПОЛИТИКИ». В то время за это полагалось от трех лет лагерей, но виновных в Академгородке так и не нашли. А тут еще знаменитое «письмо 46-ти», подписанное представителями интеллигенции Академгородка в связи с «процессом четырех».
Письмо было отослано в органы власти 19 февраля, то есть еще до начала фестиваля бардов, но гроза разразилась позже.
По времени «процесс четырех» совпал с одним из важнейших событий в соцлагере, которое получило название «Пражская весна». В самом начале марта в Академгородок прилетели чешский социолог Павел Махонин и соратник Дубчека один из известнейших деятелей Пражской весны Зденек Млынарж. Их приезд вызвал огромный ажиотаж. «Ночами мы не отходили от приемников, — вспоминает Вадим Делоне, — слушали первые сообщения западного радио о Пражской весне — все жили только этим. Заявление Дубчека о частичной отмене цензуры, демонстрации в Праге с требованиями морального осуждения и изгнания с государственных постов тех, кто замешан в расправах над невиновными. Эти сообщения радовали, объединяли нас. И многим казалось, что стена между нами и свободой медленно рушится»[562].
Вот на каком фоне готовился фестиваль авторской песни. После того как была установлена новая дата его проведения, всем бардам снова разослали приглашения.
Галичу было отправлено персональное приглашение 16 февраля на бланке клуба «Под интегралом»[563]. Любопытно, что все приглашения подписал первый секретарь Новосибирского райкома ВЛКСМ. Сделал он это потому, что отношения между райкомом и клубом «Под интегралом» были крайне сложными. Райкомовцы заявили, что готовы оказать фестивалю финансовую поддержку в обмен на полный контроль над организаторами… Разумеется, такое условие для руководства клуба было неприемлемо, и тогда в конце февраля райком выдвигает ультиматум: залитовать репертуар всех авторов (еще раньше обком партии попросил магнитофонные записи песен приезжающих авторов, и организаторы подобрали им самые лиричные и «безопасные» песни, которые обком одобрил), и это при том, что многие барды приезжали впервые и никто не знал, с чем они будут выступать, да и клуб «Под интегралом» всегда был противником цензуры. Поэтому руководство клуба отказалось подчиниться приказу, и райком комсомола принимает решение запретить проведение фестиваля. Дело тут же вынесли на райком партии, который был более высокой инстанцией по сравнению с райкомом комсомола. Тогда Анатолий Бурштейн идет ва-банк и распоряжается продать первые три тысячи билетов из уже отпечатанных пятнадцати. На следующий день билеты разошлись за четыре часа. Теперь оставалось сделать последний решительный шаг, и Бурштейн идет в райком партии и заявляет, что нельзя отступать, поскольку огромное количество людей поставлено известность, билеты проданы и в случае отмены фестиваля клуб потеряет свой авторитет, а сам Бурштейн своим присутствием в Академгородке ручается за полный контроль над фестивалем… В результате 1 марта было получено долгожданное «добро». К этому времени от большинства бардов, в том числе и Галича, уже поступили телеграммы о прибытии[564].
Надо сказать, что в райкоме ВЛКСМ находились в принципе такие же молодые ребята, что и во главе клуба «Под интегралом». И те и другие состояли в комсомоле, но райкомовцы были в большей степени связаны идеологическими догмами и установками…
Между тем история с запретом фестиваля еще не закончилась: как только в Новосибирск прибыли барды, а вместе с ними журналисты, социологи, литературные критики и музыковеды, в дело вмешался обком партии, обеспокоенный приездом Галича. Тут же началось всеобщее ожидание, качание на весах: запретят — не запретят. «Нас везут в Академгородок, — рассказывал Леонид Жуховицкий, — и сообщают нам первую приятную новость: фестиваль запретили. Мы приезжаем туда, через два часа говорят: нет, кажется, все-таки разрешили. И вот так каждые два часа. <…> Тогда мы сделали такую хитрость. Мы организовали там пресс-бюро. И ребята меня выбрали руководителем этого пресс-бюро. Конечно, пресс-бюро было абсолютно липовое. Это была полная афера. Но московские журналисты — я везде тычу свое удостоверение, прикрываю, что “Крестьянка”. Смотрите — “Правда”. “Правды” тогда побаивались. Приехал еще из Барнаула Жора Целмс, корреспондент “Комсомольской правды”. Ну, в общем, как-то в последний момент это разрешили». По словам Жуховицкого, переломный момент наступил, когда президенту «Интеграла» Бурштейну партийное начальство заявило: «Фестиваль проводить можно, но чтобы Галич не пел». Остальные же барды оказались порядочными людьми и в ответ на это сказали: «Ну и мы тогда не будем петь!»[565] После этого партийное начальство пошло на попятную.
Итак, фестиваль начал обретать реальные черты. Но на какие же деньги удалось его провести? Начальный капитал был предоставлен научно-производственным объединением «Факел», существовавшим при райкоме комсомола. О том, как функционировала эта фирма, рассказал Станислав Горячев, исполнявший обязанности директора ДК «Академия» (в то время — ДК «Москва»): «Она брала подряды на всякие внедренческие работы, и молодые научные сотрудники нанимались этой фирмой на временную работу. А разницу между полученными от заказчика средствами и выплаченной зарплатой, по договоренности с райкомом комсомола, тратили на разные общественные дела. Вот откуда были деньги. Получился некий квартет: “Факел” как заработавший деньги, райком комсомола как могущий эти деньги обналичить, “Интеграл” как организатор и ДК “Академия” как головная организация у клуба, располагающая собственным залом. Вот четыре эти организации и решили провести в марте 1968 года один из первых больших фестивалей бардов»[566]. Базовыми же организациями для проведения фестиваля стали клуб «Под интегралом» и Совет творческой молодежи при Советском райкоме ВЛКСМ Новосибирска.
Оргкомитет фестиваля, состоявший в основном из руководства клуба «Под интегралом» и местных популяризаторов авторской песни, все сделал «на уровне»: пустил специальный автобус, который курсировал от аэропорта до Академгородка, оплатил участникам проживание (правда, москвичей и ленинградцев как особо важных гостей разместили в 12-этажной гостинице «Золотая долина», а делегации из других городов поселили в третьем студенческом общежитии НГУ), покрыл все расходы на питание и сумел снять большие залы для выступлений. До самого последнего момента председателем оргкомитета был Валерий Меньшиков, но перед официальным открытием было решено подстраховаться, и председателем уговорили стать члена-корреспондента Сибирского отделения АН СССР из Института ядерной физики Дмитрия Ширкова.
Стоит назвать имена людей, благодаря которым смог состояться этот фестиваль: президент клуба «Под интегралом» Анатолий Бурштейн; вице-президент клуба песни Андрей Берс; «премьер-министр», бард Григорий Яблонский; «министр песни» Валерий Меньшиков; «министр иностранных дел» Герман Безносов; «министр социологии» Юрий Карпов. Ну и, конечно, весь оргкомитет — 160 человек, чей подвиг будет выглядеть особенно впечатляюще, если учесть, что денежные запасы «Интеграла» составляли около 10 тысяч рублей[567] (для сравнения: инженер тогда получал 120 рублей в месяц) — это были как раз деньги, вырученные от продажи билетов. Да и время на дворе, как рассказывает Леонид Жуховицкий, «было очень голодное. Но нас водила по каким-то там столовкам 18-летняя девушка, она была у них министром финансов. Она нас водила по всем этим кафешкам и кормила тем, что тогда можно было достать. А время было фантастически голодное. И у нее была такая большая драная хозяйственная сумка, которую она все время забывала где-то там под столиком. Потом мы возвращались за этой сумкой. И хорошо, что она была драная. Потому что никакой вор на нее не мог польститься. А в этой сумке были все финансы “Интеграла”»[568].
Позднее Галич вспоминал: «В Новосибирске на аэродроме еще лежал глубокий снег, и вот, стоя на снегу, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнища с весьма двусмысленной надписью: “Барды! Вас ждет Сибирь!”»[569]
Но если в Новосибирске снег еще лежал, то в самом Академгородке, как утверждает свердловский бард Лев Зонов, его уже не было[570]. А наличие упомянутой Галичем надписи подтверждает Вадим Делоне, живший в то время в Новосибирске, правда, в его изложении она выглядит несколько иначе: «Над клубом, где проходил конкурс бардов и менестрелей, красовался двусмысленный лозунг: “Поэты! Вас ждет Сибирь!”»[571]
В фестивале приняло участие 27 авторов из 12 городов, причем 11 из них уже были лауреатами различных конкурсов и слетов: из Москвы прилетели Александр Галич, Владимир Бережков, Анатолий Иванов, Арнольд Волынцев, Борис Рысев, Сергей Смирнов, Сергей Крылов, Сергей Чесноков, Евгений Гангаев и опоздавший на один день Борис Круглов; из Ленинграда — Юрий Кукин и Валентин Глазанов; из Минска — Арик Крупп, трагически погибший через три года в горах; из Свердловска прибыла делегация во главе с одним из руководителей Клуба песни Уральского политехнического института Евгением Горонковым — Лев Зонов, Александр Дольский, Валерий Хайдаров. И еще был ряд малоизвестных авторов из других городов. Средний возраст выступавших составлял 26 лет…
Бросается в глаза отсутствие, за исключением Галича, известных бардов. У каждого на это были свои причины. Кто-то находился в отъезде (Окуджава) или пропадал в геофизической экспедиции (Городницкий), кто-то был персоной нон грата, и его просто не пустили на фестиваль (Туриянский), кому-то КГБ пригрозил потерей работы, если он сядет в поезд Москва — Новосибирск (Ким), кто-то сам не захотел усугублять свои взаимоотношения с властями (Высоцкий). Но когда во время одного из домашних концертов в Новосибирске кто-то сообщил, что Визбор не приехал, потому что не желает петь «на десерт у академиков», Галич, к тому времени уже остро ощущавший нехватку кислорода, отложил гитару и сказал: «Это пижонство. Дали бы петь где угодно, хоть под забором. Только бы дали»[572].
За два дня до своего отъезда из страны, на прощальном концерте в Москве, он прямо рассказал о причинах, побудивших его принять участие в Новосибирском фестивале: «Мне все-таки уже было под пятьдесят. Я уже все видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуем. И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду»[573].
В четверг 7 марта Галича из новосибирского аэропорта Толмачево привезли домой к Герману Безносову, который жил в однокомнатной квартире напротив Дома ученых (там должна была проходить большая часть концертов — председатель совета Дома ученых профессор Олег Федорович Васильев не только поддержал саму идею фестиваля, но и дал согласие на его проведение в стенах ДУ).
Войдя в квартиру, Галич подошел к ее хозяину и представился: «Здравствуйте, я Галич». Тот в шутку ответил тем же: «Здравствуйте, я Безносов». После чего Галич спросил: «А выпить — найдется?»[574] Выпить нашлось, и Галич дал импровизированный концерт, подкрепляясь время от времени горячительными напитками. Он не пропускал ни одного тоста, но при этом не хмелел. Помимо Галича, в квартире Безносова находились журналисты Леонид Жуховицкий и Евгений Шатько и, конечно же, руководство клуба «Под интегралом». Сначала обсудили проблемы, связанные с организацией фестиваля, а потом решили обговорить песенный репертуар Галича. Дали ему в руки гитару, и начался многочасовой «показ» песен. Наконец Галич отложил гитару и сказал: «Примерно так. Так что, ребята, выбирайте»[575].
Все молчали, поскольку трудно было представить себе эти песни звучащими с официальной сцены. Галич это понял и сказал: «Смотрите, ребята, песен много. Можно выбрать те, что поспокойнее». Но тут слово взял Анатолий Бурштейн и произнес решающую фразу: «Видите ли, Александр Аркадьевич, если вы не будете петь свои главные песни, все, что мы организовали, просто потеряет смысл»[576].
Вечером 7 марта в 19 часов в Большом зале Дома ученых, еще до официального открытия, состоялось предварительное выступление бардов. Тысячеместный зал — самый большой в Академгородке — был забит до отказа, но, несмотря на это, далеко не все желающие смогли туда попасть. Любовь Качан, жена председателя местного комитета профсоюзов СО АН Михаила Качана, находилась тогда в «эпицентре» событий: «Стояли на балконе, в проходах и даже в дверях. Авансцена напоминала витрину в электронном магазине по количеству и разносортице поставленных на ней записывающих устройств. И было что записывать!»[577] На этом концерте Галич спел три песни: «Старательский вальсок», «Закон природы» и «Я принимаю участие в научном споре…».
Потом участников фестиваля пригласили в ресторан Дома ученых, где им был оказан торжественный прием. Но этого приема удостоились не все: свердловская делегация, например, вообще не получила пригласительных билетов…
В ночь на 8 марта в Новосибирск прилетела ленинградская делегация — Юрий Кукин, Валентин Глазанов, Владимир Фрумкин и Михаил Крыжановский, — и их тут же отвезли в гостиницу Академгородка. Глазанов вспоминает: «Рано утром в дверь нашего с Юрой Кукиным номера постучали, и вошел красивый высокий человек с усами в бобровой шапке и аристократической шубе с бобровым воротником. В одной руке он держал бутылку водки, в другой кефир. “Проклятый город, — сказал он, — все магазины еще закрыты, а закусить нечем, вот только кефиром удалось разжиться”. Так я впервые увидел великого Александра Галича.
Пригласив Фрумкина с Крыжановским и распив принесенное, мы еще на какое-то время остались в гостинице. Потом пришли организаторы фестиваля и повели нас на “установочное” собрание. Справедливости ради, надо сказать, что Галич на него не пошел. На встрече первого секретаря Академгородка с собравшимися участниками фестиваля мы услышали почти буквально следующее: “Друзья! Против организации этого фестиваля очень возражали обком и горком Новосибирска. Однако под мою личную ответственность нам разрешили провести это мероприятие. Сегодня в зале Дома ученых будет алле-концерт всех участников. Так вот, я прошу вас не петь никаких антисоветских песен — для того, чтобы фестиваль сразу не закрыли”.
Вечером в торжественной обстановке начался концерт. Попутно замечу, что поскольку Александр Аркадьевич на собрании не был, то он пел то, что хотел»[578].
Это было уже 8 марта, а днем ранее аналогичную беседу с первыми прибывшими участниками (свердловцами и красноярцами) провел Анатолий Бурштейн. К 16 часам руководителей обеих делегаций созвали в холл гостиницы «Золотая долина», где Бурштейн дал им инструкции. «Он рассказал нам, что идеологическая обстановка в Новосибирске вокруг фестиваля неблагоприятная, — вспоминает Евгений Горонков, — просил обратить внимание на политическую направленность репертуара наших авторов и для хорошего первого резонанса исключить из выступлений остросоциальные песни. Первый внефестивальный концерт отдали красноярцам и нам»[579].
8 марта в 12 часов утра состоялась пресс-конференция, на которой один из чиновников Главлита, пытаясь сорвать в первую очередь выступление Галича, начал задавать Бурштейну коварные вопросы: «Как вы понимаете, всякое сообщение сведений неопределенному кругу лиц, в том числе исполнение песен на открытой эстраде, — это публикация. Все ли тексты имеют визу Главлита?»[580], но Бурштейн мастерски обходил все острые углы и сумел отстоять Галича.
А вечером в 18.30 состоялось наконец торжественное открытие фестиваля бардов, посвященного десятилетию Академгородка и пятилетию клуба «Под интегралом». Председатель оргкомитета, физик-ядерщик Дмитрий Ширков сказал, что этот фестиваль посвящен не только юбилеям революции и Академгородка, но и женщинам «в их законный день». После этого выступил президент федерации авторской песни Сергей Чесноков и были зачитаны поздравительные телеграммы от Булата Окуджавы, Михаила Анчарова, Новеллы Матвеевой и Ады Якушевой. Аналогичные телеграммы прислали Владимир Высоцкий и Юлий Ким, но их, видимо, запретили оглашать, поскольку оба этих автора были не в чести у власть имущих.
Начался концерт-презентация, где каждый участник спел всего две песни плюс одну на бис. Юлий Ким со слов очевидцев рассказал предысторию этого концерта: «Перед громадным гала-концертом, где каждый мог спеть две-три песни, не больше (особенно из гостей), все встретились за кулисами, и Толя Бурштейн сказал: “Давайте договоримся не дразнить гусей. Давайте споем что-нибудь более-менее нейтральное — будет все начальство, — чтобы они не закрыли нашу лавочку сразу. Не будем давать для этого повода”. Все дружно согласились, а Галич впереди всех — ну как тертый московский писатель, который всю кухню эту знает. Все подали небольшие свои списочки того, что они будут петь, и Галич тоже подал самое свое легкое». И далее Ким приводит рассказ Юрия Кукина, который оказался свидетелем следующего эпизода: «Перед самым выступлением Галич прошел в буфет и там хлопнул полный стакан водки. Внешне это на него не подействовало, но плечи его расправились. Он вышел к микрофону и спел все поперек того, что он заявил»[581]. Этот рассказ дополняет свидетельство Владимира Бережкова о том, как Галич, прежде чем выйти к микрофону, на пару с Вадимом Делоне «принял» стакан водки[582]. Правда, было этого не перед самым выходом Галича на сцену, а перед началом всего концерта-презентации.
Начался концерт. Двое ведущих сидели на сцене в углу за журнальным столиком и представляли выступавших. Звучали в основном туристские и костровые песни. Воспользовавшись моментом, руководитель свердловской делегации Евгений Горонков отправился за кулисы, чтобы договориться с Галичем о его приезде в Свердловск и заодно спросить, почему он поет не стоя, как все барды, а сидя на стуле. Галич ответил, что не умеет петь стоя[583]. Тогда Горонков вызвался его научить — каким-то шпагатиком подвязал гитару, отрегулировал его длину и дал гитару Галичу, чтобы тот попробовал: «Он надел шпагатик на шею — неудобно, говорит. Так шпагатик надо пропустить под мышку под правую руку, объясняю я и поправляю, как надо. О, — заулыбался Галич, — теперь хорошо, удобно»[584].
Галич с Кукиным должны были завершать концерт. Перед началом концерта Галич попросил ведущего концерта Владимира Фрумкина представить его во время своего выступления. Перед выходом на сцену, несмотря на выпитый стакан водки, Галич ходил за кулисами взад-вперед в обнимку с гитарой, глотал валидол, нервничал. Наконец Фрумкин объявляет: «Выступает Александр Галич!» Галич говорит: «Ну, я пошел», и выходит на сцену — на этот раз с подвешенной через плечо гитарой — и скромно садится за столиком в глубине сцены. «Когда я вышел к микрофону, — вспоминает Фрумкин, — я решил как-то немножко его оградить от неминуемых побоев, которые ему предстояли. Я пытался обратить все его смелое, прямое творчество вспять, в прошлое, в то уже осужденное Хрущевым, XX и XXII съездом прошлое, связать со Сталиным, со сталинизмом. Я тогда процитировал строчки из Шостаковича: “Человеческая память — инструмент далеко не совершенный. Она часто и многое склонна забывать. Но художник этого права не имеет”. И вот, я говорю, перед вами сейчас выступит художник, который именно так поступает в своей жизни, в своем творчестве <…>. И, когда я закончил (а это длилось несколько минут), я оглянулся на него, и он развел руками: и это все? Я был совершенно обескуражен. Он, очевидно, решил, что я о нем лекцию прочитаю. Ему очень хотелось услышать профессиональный разбор своего творчества. Но, так или иначе, он вышел»[585].
А выйдя, сразу же выдал «залп» в виде «Памяти Пастернака».
Здесь необходимо сделать маленькое отступление. Перед открытием фестиваля Галича познакомили с врачом-биологом Раисой Берг. Впервые она услышала его песни в Новосибирске весной 1965 года, когда Елена Вентцель при первой встрече принесла ей домой магнитофонную ленту и попросила, чтобы ее дети вышли из комнаты. А летом того же года, под Москвой, на Можайском море, неподалеку от деревни Бородино, комитет московского комсомола созвал летнюю школу и предоставил для ее слушателей и лекторов свой спортивный лагерь. «Мы, преподаватели, жили в доме, — вспоминает Раиса Берг, — а молодежь — в палатках. Глубокой ночью, закрыв наглухо все окна, мы слушали Галича: магнитофонную запись. Утром перед павильоном, где подавали завтрак, орал магнитофон. Комсомольцы слушали Галича. В первом ряду стоял Тимофеев-Ресовский и только что не крякал от удовольствия, а может быть, и крякал, боюсь наврать»[586].
После Новосибирска пути Александра Галича и Раисы Берг пересекутся еще не раз, причем однажды — в ситуации, когда для Галича в буквальном смысле будет решаться вопрос жизни и смерти (весной 1971 года он будет умирать от тяжелейшей инфекции, занесенной ему по неосторожности врачом «скорой помощи»[587]), а пока состоялось их знакомство: «Я купила билеты на концерт в Доме ученых, а на открытие не купила. Выступление 27 певцов меня не прельщало. Стоя в очереди за билетами в Дом ученых, я наизусть читала «На смерть Пастернака». Но когда наступило время открытия фестиваля, меня заело. Пошла. Стою перед стеклянной стеной вестибюля концертного зала. За стеклом Галич, уже без пальто, идет с Голенпольским, моим другом, профессором английского языка. Голенпольский познакомил меня с Галичем, купили мне билет. «Я слышал о вас от Елены Сергеевны Вентцель, — сказал Галич, — скажите, какие песни можно, по-вашему, спеть?» — «К чести вашей должна сказать — ни одну из известных мне песен спеть нельзя. Спойте “На смерть Пастернака” и “Под Нарвой”»[588].
Галич прислушался к совету Раисы Берг, спев рекомендованные ею песни и добавив к ним «Балладу о прибавочной стоимости» (правда, судя по хронологии исполненных песен, на бис он спел именно «Ошибку»),
Упомянутый Раисой Берг профессор НГУ Танкред Голенпольский также оставил подробные воспоминания о концерте 8 марта: «Вечером яблоку негде было упасть. Говорили, что тысячи две с половиной. Молодежь сидела на полу, стояла. Входные двери уже давно заперли. Пришли представители Президиума Сибирского отделения с женами. Запомнил академика Трофимука, причастного к обнаружению нефти в Татарстане. Запомнил — за разгромные выступления после концерта. Естественно, Международный отдел, а как без них. Ученые, кто-то из городского и областного аппарата, кое-кто из актеров театра “Красный факел”. Вначале выступали Кукин, Чесноков, другие. Интересно. <…> И, наконец, Галич. Поначалу в зале слегка искрило. Он удивительно чувствовал зал. Казалось, точно знал, где сидел официоз, и там, где надо, обращался к ним “И вам джерси, и вам…”, “До чего мы гордимся, сволочи”. Эта прицельная стрельба вызывала легкий хохоток. Пел блистательно, мурашки бегали по спине. Было страшно и радостно. Не останавливают. Значит, можно. Или только ему? Знали, что он пел в Дубне ограниченному контингенту отдельно взятого института. Постепенно зал накалялся. А он давил все мощнее. Буря аплодисментов. Попросил “Боржоми”. Принесли. Ушел за кулисы, попил. Вышел. Начал самые эмоционально сильные вещи. Мы, зал, забывали, что он поет»[589].
Благодаря рассказу Виктора Славкина мы знаем, что Галич вышел попить боржоми, исполнив «Балладу о прибавочной стоимости»: «В Академгородке зал покатывался от хохота, а социологи срочно переписывали слова, чтобы потом использовать песню в качестве учебного пособия. “Боржом… Если бы можно было достать боржом”, — выбегает Александр Аркадьевич за кулисы, воспользовавшись затянувшейся овацией.
Достают боржом, и Галич поет еще. Целое отделение»[590].
Однако главным событием этого вечера стала песня «Памяти Пастернака», с которой Галич и начал свое выступление: «…Ах, осыпались лапы елочьи, / Отзвенели его метели… / До чего ж мы гордимся, сволочи, / Что он умер в своей постели! / “Мело, мело по всей земле, / Во все пределы. / Свеча горела на столе, / Свеча горела…” / Нет, никакая не свеча, / Горела люстра! / Очки на морде палача / Сверкали шустро! / А зал зевал, а зал скучал — / Мели, Емеля! / Ведь не в тюрьму и не в Сучан, / Не к высшей мере! / И не к терновому венцу / Колесованьем, / А как поленом по лицу — / Голосованьем! / И кто-то, спьяну, вопрошал: / “За что?.. Кого там?..” / И кто-то жрал, и кто-то ржал / Над анекдотом… / Мы не забудем этот смех, / И эту скуку! / Мы поименно вспомним всех, / Кто поднял руку! / “Гул затих. Я вышел на подмостки. / Прислонясь к дверному косяку…” / Вот и смолкли клевета и споры, / Словно взят у вечности отгул… / А над гробом встали мародеры / И несут почетный КА-РА-УЛ!».
По мнению Генриха Алтуняна, строки: «Очки на морде палача / Сверкали шустро», — относятся к первому секретарю Московского горкома партии Николаю Егорычеву, принимавшему участие в травле Пастернака и действительно носившему очки[591]. Хотя то же самое приложимо и к главному идеологу страны Суслову, который с середины 1950-х состоял в Президиуме ЦК КПСС и руководил травлей Пастернака.
Многие слушатели в Большом зале Дома ученых, конечно, знали о трагической судьбе Пастернака, о той травле, которой он подвергся в связи с публикацией на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии, но так, как об этом сказал Галич, — в жесткой, публицистической и даже обвинительной форме, не говорил еще никто. Все встали. Сначала наступила мертвая тишина, а потом — громовая овация и крики: «Спасибо! Браво! Спасибо!»
В «Генеральной репетиции» Галич будет с благодарностью вспоминать эти минуты: «Я только что исполнил как раз эту самую песню “Памяти Пастернака”, и вот, после заключительных слов, случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты. Будь же благословенным это мгновение!»
Впрочем, встал не весь зал. Первые несколько рядов, которые занимали партийные функционеры, продолжали сидеть. По словам Сергея Чеснокова, их шеи «стали красными и вдавились в сиденья»[592]. Владимир Фрумкин говорит, что «это была совершенно незабываемая картина! Они как бы втянули голову в плечи и оглядывались назад и не знали, как им поступить: встать или не встать»[593], а Юрий Кукин утверждает, что «сидело девять человек — это были самые глупые (весь обком умный встал), это были комсомольцы, как ни странно; они все-таки выдержали — просидели»[594].
Если верить Александру Раппопорту, ныне президенту новосибирского «Клуба Александра Галича», то Галич, исполняя заключительные строки песни о Пастернаке, произнес по слогам слово КА-РА-УЛ, после чего «повернул гитару грифом вперед и повел им — “расстрелял” сидящее в первом ряду и поеживающееся партийное начальство»[595]. К сожалению, не сохранилась концовка видеозаписи этой песни, и поэтому невозможно проверить данное высказывание.
После того, как Галич спел «Ошибку», зал его не отпускает — просит еще песни. А что петь? Хотя, казалось бы, какая разница, ведь крамола уже прозвучала… В общем, возникла небольшая заминка. Галич растерянно посмотрел за кулисы, оттуда вышел Фрумкин, и они о чем-то пошептались[596]. После этого выступление Галича, уже вне официальной программы, продолжилось.
После каждого концерта вспыхивали горячие дискуссии об авторской песне и, конечно, о песнях Галича. Аспирантка Ольга Кашменская вспоминала: «Однажды я схлестнулась в споре с руководителем нашего института академиком Трофимуком, которому показалось, что в своей песне “Мы похоронены где-то под Нарвой” Саша Галич поет “что-то не то”. Меня же эта песня потрясла своей правдивостью, поскольку я войну знала не понаслышке — была на фронте санитаркой»[597].
Вышеупомянутый академик Трофимук был резко против песен Галича и говорил, что молодежи все это не нужно. А в самой последней дискуссии, которая проходила в зале ТБК (Торгово-бытового комбината) 12 марта, участвовала одна девочка, во время концерта восьмого числа сидевшая в пятнадцатом ряду зрительного зала. И она высказалась достаточно необычно: «Теперь я скажу несколько слов о Галиче. О нем очень трудно говорить. Это очень большой художник. Он умеет видеть очень тонко и очень остро и высказать это. Но вот когда я восьмого слушала Галича, то, вы знаете, я испугалась. Когда запел Галич, я не знала, куда деваться. Это было страшно, я чего-то испугалась. И смотрю: сидящие впереди меня уши, шеи вдруг начали наливаться кровью. Я сразу думаю: боже мой, ну что такое? Действительно, сидели впереди меня мужчины (я тоже их не буду называть) из литературного мира. Вдруг смотрю: уши наливаются краской, шеи стали багровые, и тишина мертвая. Я хочу сказать свое мнение. У Галича несколько односторонняя позиция. Такое впечатление, что ему в детстве разбили розовые очки, и он так и не научился видеть светлое. Он видит черное, и видит это очень хорошо, очень тонко, он все это подмечает и все это говорит, и бросает это в публику. Вот его песня “Баллада о прибавочной стоимости”. Это очень хорошая песня, острая песня. Но, вы знаете, ее надо действительно преподнести. И он преподносит это. Но я считаю, что он ее неправильно преподносит. У него столько злости…»[598] И эту девочку, которая любит носить «розовые очки», тут же с радостью поддержал академик Трофимук[599].
Во время дискуссий аудитория резко разделялась в зависимости от отношения к песням Галича, хотя, как говорил Сергей Чесноков, «практически никто не отрицал, между прочим, даже самые забубенные идеологи, что, да, это интересно. Но пафос был такой: нельзя молодежи слушать про то, что реально происходит в стране, просто нельзя»[600]. И действительно, право таких песен на существование признал, хотя и не без оговорок, даже первый секретарь Советского райкома КПСС В. П. Можин во время дискуссии в зале ТБК 12 марта: «Для меня понятно следующее: песни Галича — социальная сатира. <…> Во всех этих вещах, затрагивающих очень острые социально-политические проблемы, важна позиция автора. Потому что недостатков у нас хватает. Все эти недостатки можно по-разному интерпретировать. Можно преподнести с болью в сердце, можно говорить о них как явлении нежелательном, но можно это обыгрывать, на этом деле играть и тем самым давать пищу нашим идеологическим врагам»[601].
Во время дискуссии Можину задали вопрос о том, не являются ли песни бардов антисоветскими, и секретарю райкома пришлось оправдываться, примиряя занимаемую им должность с тем, что прозвучало со сцены: «Песни, которые мы здесь обсуждали, в том числе и песни Галича, — это не контрреволюция, не антисоветчина. Если бы это было, мы бы этого просто не допустили, потому что это, кроме всего прочего, было бы противозаконно. Но я хочу еще раз подчеркнуть и просто посоветовать Александру Аркадьевичу, что позиция автора должна быть в ряде случаев более четко выражена. И еще, мне кажется, есть некоторая излишняя злость, или, вернее, озлобленность»[602].
Вместе с тем, по свидетельству одного из участников московского КСП Алексея Пьянкова, «все эти секретари обкомов, комсомолов плакали и рыдали, говорили: “Слушайте, вы должны нас понять: то, что вы пели, действительно это так здорово! Мы сами проходили [через всё это], видели, как люди зазря умирали и так далее. Можно еще раз повторить, но уже в узком кругу?”»[603]
В обсуждениях, которые проходили в Большом зале ДУ, участвовали даже академики и лаборанты. Поклонники творчества Галича пытались, как говорит Жуховицкий, «легализовать» его сатирические песни и с этой целью приводили цитаты из классиков марксизма-ленинизма — говорили, например, что это борьба с недостатками и т. д. Тут им на помощь приходила спасительная ленинская фраза: «Без самокритики мы погибнем», которую они умело использовали в своих выступлениях[604].
Однако если на представителей старшего поколения (типа академика Трофимука) песни Галича воздействовали как красная тряпка на быка, то на молодежь они производили потрясающее впечатление. Светлана Воропаева, которой в 1968 году было чуть более двадцати, на 40-летии фестиваля так описывала свое тогдашнее состояние: «Я помню, что в зале у меня если физически и не был открыт рот, то внутренне — и рот, и уши, и глаза — во всю ширь! Хотя я, например, судорожно стеснялась признаться, что не знаю, что такое Треблинка. Дахау, Освенцим — знаю, а Треблинка — нет. Кто такой вертухай — тоже не знала. В зале тишина была — слепой не понял бы, есть народ или нет. А народу было более двух тысяч, и проходы заняты. Но тишина — звенящая… Кажется, и сердца не бились, и кровь по жилам не текла, все замерли! Потому что такая правда нам открылась, такая смелость!.. И мы — все вместе»[605].
Может создаться ложное впечатление, что Галич вообще ничего не боялся. Но нет — по свидетельству той же Светланы Воропаевой, все было по-другому: «Один на один он говорил мне, что боится, и очень. Глупо, мол, когда человек не боится. Но есть что-то выше. Когда хочешь что-то отстоять — это для тебя важнее, остаться человеком гораздо важнее»[606].
Еще откровеннее Галич был с Танкредом Голенпольским: «Обедали в Доме [ученых]. Стало известно, что выступления Галича в институтах Сибирского отделения ему запрещены. Саша был задумчив. Казалось, он чего-то ждет. Выпили вина. И вдруг он сказал, видимо, то, о чем думал: “Знаешь, я не герой. Ссылка так ссылка. Радости мало. Я ведь знаю, что против меня не ветряные мельницы”. Пауза. Пригубил бокал. И вдруг его голова как-то втянулась в плечи: “Только бы по лицу не били”»[607].
Информацию о запрете концертов Галича в Новосибирске подтверждает академик Вениамин Сидоров: «…мероприятия фестиваля планировались во всем Новосибирске, но были запрещены обкомом. Был запрещен и концерт А. Галича, особо же исполнение песни “Памяти Пастернака”. Но Сибирское отделение Академии наук и лично его президент академик Михаил Лаврентьев, несмотря на запрет, разрешили концерты А. Галича и других бардов в Академгородке»[608].
Однако Александр Дольский считает иначе: «При небольшом количестве населения в Академгородке этого зала [в Доме ученых] оказалось мало, и два кинотеатра еще нам отвели[609]. То есть потребность в этом была великая у людей. И несколько концертов было в самом Новосибирске»[610].
Хотя, судя по всему, Дольский говорит о выступлениях не Галича, а других бардов, которых тоже не обошли стражи закона. В перерыве одного из концертов в Новосибирске к участникам подошел секретарь обкома по идеологии и сказал: «Может, там у вас, в Москве и Питере, это все и хорошо, но у нас другой край, и здесь не надо “раскачивать” народ такими песнями»[611].
8 марта в 22 часа после окончания концерта в Доме ученых Герман Безносов открыл конкурс красоты «Мисс Интеграл-68», состоявшийся в зале Торгово-бытового комбината, который был одним из филиалов клуба «Под интегралом» и располагался по улице Золотодолинской, 11.
Галич, будучи знатоком и ценителем женской красоты, согласился стать председателем жюри этого конкурса. Участие в нем приняли около тридцати красавиц. В результате Мисс Интеграл-68 стала десятиклассница школы № 166 Академгородка Наталья Лещёва, а будущая кинозвезда Ирина Алферова (в то время — также школьница) была названа журналистами «Мисс Пресса».
По окончании конкурса, как вспоминает Валентин Глазанов, «был стол. И после того, как все было выпито, кто-то из организаторов сказал, что у него дома есть одна недопитая бутылка водки. Человек сорок пошло к нему ночью домой. И там никто, кроме Галича, не пел. А он был в ударе — и от выпитого, и от обилия молодых и красивых девушек. Одно только он рассказал в начале, когда кто-то попробовал амикошонствовать с ним. “Когда-то, Михаил Аркадьевич Светлов, — сказал Галич, — попросил не называть его в подобной компании Мишей, а величать по имени и отчеству”. И все поняли, что и с Галичем нужно поступать точно так же»[612].
Этим организатором был Танкред Голенпольский. По окончании концерта-презентации все участники поехали к нему домой, и Галич продолжил петь. «Потом, когда мы завалились толпой ко мне домой, положив на мое плечо свою красивую руку и глядя прямо в глаза, он спросил: “Ну как?” — “Это я должен спросить тебя — ну как?” — ответил я. Мы ушли на кухню. В моей трехкомнатной квартире, где я жил один, было человек двадцать. Надо было разместить всех городских на ночлег, потому что автобусы уже не ходили. Он выпил пару кружек кофе и прилег отдохнуть минут на сорок. “Ты знаешь, — продолжал он, — я об этом мечтал столько времени. Я уже не верил, что это произойдет”. <…> В комнату все время открывали дверь. “Спойте еще, ну немножко, Александр Аркадьевич? Ну, ведь такое, наверное, раз в жизни”. Не помню кто, кажется Сергей Чесноков или Саша Дольский, так же блистательно игравший на гитаре, как Сергей, заставил своей игрой его все же подняться, да так лихо, словно он не пел три часа. И он заиграл, и снова запел. А ему, оказывается, предстоял еще в 11 часов ночи один концерт в нашем огромном Доме культуры — кинотеатре. Аудитория была другая. Полно молодежи. Чинов не было видно. Были ребята с гитарами. Еще до начала, откуда-то сбоку доносилось что-то из Галича. Значит, ребята знали его песни и теперь ждали самого. И он вышел. Гром аплодисментов. Приятель из института ядерной физики наклонился ко мне: “Знаешь, это не овация зала. Это время принимает его”»[613].
Единственное, что вызывает здесь сомнения, — это время ночного концерта — 11 часов вечера. Если в 10 часов только начался конкурс красоты, после которого барды поехали домой к Голенпольскому, то концерт Галича в кинотеатре «Москва» мог состояться лишь глубокой ночью.
Триумфальное выступление Галича в первый день фестиваля вызвало резко отрицательную реакцию чиновников, и они решили не допустить его дальнейших концертов. В свою очередь организаторы фестиваля бросили все силы на то, чтобы Галич продолжал петь.
9 марта на пресс-конференции в Доме ученых после вступительного слова Анатолия Бурштейна выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ и заявил: «Мы категорически против, ибо фестиваль — это политическая ошибка»[614].
Тем временем обком комсомола запретил городские концерты Галича, и для того, чтобы снять этот запрет, требовалось вмешательство обкома партии. Такая парадоксальная ситуация, похоже, возникла впервые.
Представитель райкома партии, контролировавший фестиваль, сказал Бурштейну, что Галича нужно отстранить от концертов. Тот передал эти слова Галичу, который воспринял их совершенно спокойно — вероятно, уже был готов к такому повороту событий. А Бурштейн тоже не слишком переживал, поскольку знал, что академики, для которых должен был состояться специальный концерт лауреатов фестиваля, не потерпят его отмены. Так и случилось. Благодаря вмешательству Сибирского отделения Академии наук и лично ее президента Лаврентьева запрет на выступление Галича был снят (было даже два таких выступления: одно — для членов Дома ученых и их семей, а другое — в ресторане Дома ученых, где были организованы дружеский ужин и выступление наиболее интересных бардов). Тот же представитель райкома партии вновь подошел к Бурштейну и с грустью сообщил: «Ну, знаешь, Толь, академики хотят все-таки послушать. Придется ему разрешить»[615]. После чего организаторы фестиваля отдали Галичу второе отделение целиком.
9 марта барды выступали одновременно на нескольких площадках, и билетов на них уже не хватало. Утренние концерты начинались в десять утра, дневные — в двенадцать, затем в четыре часа шли дискуссии, в семь часов — вечерние концерты, и в двенадцать — ночные. Как вспоминал об этом Галич, «мы пели по двадцать четыре часа в сутки: мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу, естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь»[616].
Вследствие того, что концерты проходили в разных местах, было трудно уследить за их расписанием. Поэтому организаторы придумали так называемую систему «Жень». По Академгородку ходили люди с надписью на груди: «Женя». Участники обращались к ним с вопросом: «Женя, скажите, пожалуйста, где будет мой концерт?» Тот смотрел в блокнот и отвечал примерно следующее: «Ваш концерт состоится в два часа ночи в помещении такого-то института»[617].
Хотя официально записывать концерты не разрешалось, однако на сцену выставлялись десятки микрофонов, идущих к частным магнитофонам. Первоначально магнитофонами была заставлена вся сцена, но горкомовцы, придя в зал Дома ученых и увидев такую картину, тут же принялись за дело. Вот свидетельство очевидца: «Дают приказ, то бишь совет: все магнитофоны убрать. Шум пошел, гам, свободы склонять-спрягать начали. Поладили на том, что все магнитофоны уберут, а песни запишут на клубный магнитофон, и пленки с записями сдадут немедля в горком на дослушивание. Под лично-партийную ответственность организаторов»[618].
Однако зрители тут же протянули к сцене от своих магнитофонов шнуры с микрофонами, так что все концерты были записаны, и чиновники ничего не могли с этим поделать.
О том, к каким хитростям прибегали желающие записать концерты Галича, рассказал Леонид Жуховицкий: «Галич пел свои песни в Доме ученых в Большом зале. И вот там четыре микрофона. Один микрофон поставили ребята из “Интеграла”, чтобы для себя все сохранить. Еще один микрофон был, если я не ошибаюсь, — партком. Еще какой-то микрофон был из города. А четвертый микрофон был просто загадочный, и шнур от него уходил в какие-то неведомые то ли глубины, то ли выси. Вообще не знал никто, что это за микрофон. И только когда потом мы вернулись в Москву и меня пригласили к секретарю ЦК комсомола Камшалову, он мне сказал: “Мы 18 часов в ЦК комсомола слушали вот эти ваши концерты и дискуссии”»[619].
9 марта в 16.30 в Большом зале Дома ученых состоялся сольный концерт Галича. Это было его самое длительное официальное выступление на большой аудитории (не считая ночных концертов в кинотеатре «Москва») — притом, что все песни, разумеется, заранее согласовывались с оргкомитетом.
На концерте Галич особо не нарывался и даже вроде готов был не петь еще раз «Памяти Пастернака», но публика начала скандировать: «Па-стер-нак! Па-стер-нак!», и Галич уступил. На одном из концертов начальство пыталось согнать его со сцены, но зал просто не допустил этого. Популярность Галича была такова, что, как говорит Татьяна Янушевич, «Галич трое суток “держал сцену”, все бросали свои дела и бежали в Дом ученых даже в халатах и шлепанцах»[620]. Всего же на концертах с 7 по 9 марта побывало около шести тысяч человек[621].
В тот же день, 9 марта, в восемь часов вечера состоялся закрытый концерт Галича для академиков. Здесь он уже «отрывался» по полной программе — спел двадцать восемь песен, среди которых помимо «Памяти Пастернака», были и другие произведения из цикла «Литераторские мостки» («Возвращение на Итаку», «Снова август», «На сопках Маньчжурии»), а также целый ряд песен о чекистах и особистах: «Песня про майора Чистова», «Заклинание», «Вальс, посвященный уставу караульной службы», «Слава героям», «Ночной дозор» и другие.
Кроме того, Галич давал и множество частных концертов. Например, как вспоминает журналистка Инна Пожарская, он пел у членкоров СО АН СССР Т. И. Заславской и В. А. Кузнецова, а также у академиков А. Г. Аганбегяна и А. Д. Александрова[622].
Во время фестиваля Галич все время находился под неусыпным надзором КГБ, и по Академгородку даже ходила про него такая шутка: идет по улице лирик, а за ним — два физика в штатском.
Местные власти применяли все возможные средства для того, чтобы сорвать концерты Галича. За шесть дней, которые продолжался фестиваль, в кинотеатре «Москва» было проведено 14 (!) финансовых ревизий: каждый день — утром и вечером. Но интегральцы были людьми учеными (в прямом и в переносном смысле) — утром они брали билеты, вечером сдавали деньги, и 15-тысячная смета сходилась с точностью до нескольких десятков рублей.
Была еще попытка сорвать один из концертов в ДУ путем проведения так называемых «мер противопожарной безопасности». Зал был, естественно, заполнен до отказа — люди стояли даже в проходах между рядами. И вдруг перед самым началом концерта к исполняющему обязанности директора ДК «Москва» Станиславу Горячеву подошел инспектор пожарной охраны и сказал: «Делай что хочешь — вот тебе десять минут, но чтобы в проходах никого не было». Тот передал эту информацию Анатолию Бурштейну: мол, так и так — надо людей с проходов убрать. Бурштейн сделал объявление, и через пять минут в проходах никого не было — все сели друг другу на колени…[623]
Во второй половине фестиваля подступы к ДУ были забиты черными «Волгами» — из Новосибирска прибыло большое начальство и за закрытыми дверьми стало решать вопрос: что же делать с этим безобразием? Виктор Славкин говорит, что было принято решение устроить дискуссию, которая состоялась почему-то в баскетбольном зале. Привезли туда молодых ребят-комсомольцев, пришли и сами обкомовцы. Дискуссия шла стоя. Чиновники решили не говорить обо всех песнях Галича, а сосредоточиться на одной — посвященной Пастернаку, поскольку считали, что это и есть главный состав преступления. Аргумент у них был такой: «Почему он НАС называет сволочами?» — «До чего ж мы гордимся, сволочи…» Вот характерная реплика одного из чиновников: «Почему это я — сволочь? Я работник райкома, завсектором питания сельскохозяйственных животных. Какое отношение я имею к Пастернаку?» И это же стали повторять другие чиновники… Тут раздался чей-то голос в защиту Галича: «Но ведь он же говорит: МЫ — сволочи, то есть он и себя тоже причисляет». — «Это его личное дело! Ко мне это не относится. Почему я — сволочь? Он где-то жил в Москве, Пастернак, его там похоронили. И потом: “А у гроба встали мародеры…” — что это такое? Оскорбление!» И еще они говорили: «Что это значит: мы поименно вспомним всех, кто поднял руку?» Мол, еще угрожает нам…[624]
В разгар этого спора выступил 53-летний ученый-кибернетик Игорь Полетаев, более известный как «инженер Полетаев» (именно с ним спорил Илья Оренбург на тему «Нужна ли в космосе ветка сирени?») и предложил компромиссный вариант: «Конечно, свобода нужна. Но должен быть забор, за который нельзя. Так устроено общество». А тем временем у шведской стенки стоял прислонившись Юрий Кукин и курил. Когда Полетаев закончил свою речь, он бросил сигаретку и вальяжной походкой тренера по фигурному катанию двинулся к собравшимся, встал в середину круга и сказал: «Хорошо, пусть будет забор. Но слово из трех букв на этом заборе я имею право написать!»[625]
Поразительно, но почти такую же фразу, согласно воспоминаниям Юрия Кукина, произнес и сам Галич: «Ситуация была такая: весь Академгородок за Галича, а партия — обком и горком — против. Александру Аркадьевичу сказали: мы, мол, поставим забор с колючей проволокой, но вас не пропустим. “Что ж, — ответил он, — на заборе легче писать”.
А дальше случилась вообще невероятная вещь. Когда третий секретарь обкома объяснял Галичу, что в его творчестве неправильно и что нехорошо, Аркадьич ему и преподнес: “Не буду объяснять Вам, что я автор сценариев двенадцати фильмов, за которые получил Госпремии, что я автор множества пьес, которые идут на сценах всего Союза и за рубежом, это и так всем культурным людям известно. Но ведь я еще и член Литфонда СССР, член парткома Союза писателей по работе с молодежью”.
Но его попросили, чтобы спел чего-нибудь помягче да полегче. Ну, Галич пообещал: “Что ж я не понимаю, что ли?” И опять полез на рожон, спел “Памяти Пастернака” — это в 68-м-то году!»[626]
Для того чтобы справиться с Галичем, партийное начальство попыталось изолировать его от молодых бардов. Галич это понял и однажды ночью пришел к Кукину и сказал: «Юра, я уже многих обошел с такой вот просьбой: кто может, спойте хотя бы по одной моей песне». Кукину хватило смелости выполнить эту просьбу, чем он оказал Галичу большую моральную поддержку: «…на концерте, когда мы все выступали и никто, даже Саша Дольский, не спел Галича, я видел, как грустью, но не злой, а обреченной какой-то, наливались глаза у Аркадьевича. Черт знает почему, но плюнул я на все и отважился — исполнил песню Галича. И ничего страшного не произошло. А вот глаза у него просветлели, он сразу как-то воспрял»[627].
Впрочем, Дольский не разделяет это мнение: «Юрка говорит неправду: “Даже Саша Дольский не спел его песни, а я вот осмелился, один только и спел”. Ерунда какая! <…> Песни Галича никто не знал[628]. У него длинные тексты, их еще надо было выучить. Того же “Парамонова” я тогда только слышал. Потом уже, через год-два, я пел его песни на концертах. Они мне нравились. Я исполнял “Прибавочную стоимость”… Тогда же мы просто не знали что-то из его творчества. Поэтому появление Галича действительно воспринималось как чудо»[629].
Все дискуссии на фестивале вращались в основном вокруг четырех песен Галича: «Памяти Пастернака», «Закона природы», «Баллады о прибавочной стоимости» и «Ошибки». Одна из дискуссий была настолько острой, что Галичу стало плохо, и его отвезли в больницу.
На пресс-конференции, созванной новосибирским партийным начальством, Кукина и Глазанова спросили, знают ли они песни Галича. Те ответили: «Мы не только знаем — мы их поем на своих выступлениях!» — «А вот спойте “Закон природы”». Они спели. И эта песня возмутила чиновников больше, чем «Памяти Пастернака» и другие «страшные» песни Галича, которому они прямо заявили: «Вы, Александр Аркадьевич, восстаете против главного принципа нашей жизни, нашего общества — коллективизма, морально-политического единства партии и народа! Что это значит — “не надо шагать в ногу”?! Что это значит — “кто как хочет”?!»[630].
Невероятно разгневала идеологов и «Баллада о прибавочной стоимости», в которой они увидели клевету на советских коммунистов. Их реакцию запечатлел Леонид Жуховицкий, который 12 марта выступал в роли ведущего на одной из дискуссий, посвященной роли песни в обществе[631]: «Какие барды, какие проблемы — разговор только о Галиче. Сережа Чесноков говорит что-то о языке Александра Аркадьевича и в доказательство тезиса, умница, поет три его песни. Потом выступает плотный щекастый парень, секретарь Новосибирского обкома комсомола по идеологии, и ругает “Балладу о прибавочной стоимости”. Логика выступления: герой баллады, коммунист, собирается из-за наследства переселиться в капстрану. Выходит, все коммунисты готовы из-за наследства переселиться в капстрану? <…> Зал шумит, топает ногами, я с умеренным успехом взываю к порядку. “А где тут социалистический реализм?” — торжествующе уличает Галича секретарь.
После я его спрашиваю: “А что такое социалистический реализм?”
Он, подумав, поясняет примером: “Вот, допустим, у нас есть старые улочки — развалюхи, сараи. Может их художник нарисовать? Может. Но если он социалистический реалист, он где-нибудь сбоку обязательно нарисует подъемный кран, тогда будет и правда, и перспектива…”»[632]
Этот «плотный щекастый парень», которого звали П. Осокин, возмущался не только «Балладой о прибавочной стоимости», но и песней о Пастернаке (с ударением на последнем слоге): «Какое сегодня имеется основание, допустим, у товарища Галича (шум в зале), — одну минуточку! одну минуточку! — выступая со своей вещичкой, вещью, извиняюсь, о Пастернаке, бросать такое обвинение? (Шум в зале.) Притом я обращаю внимание на интонации: “Мы не забыли” или “Мы не забудем!”. Что значит “Мы не забудем”? (Шум в зале.) Я обращаю внимание на интонации. Здесь передо мной товарищ Галич выступал и как раз говорил об авторском праве исполнителя. Как он преподносит те или иные вещи? И говорит о том, что мы не забудем, я провел для себя такую аналогию: дескать, мы это всё запомним и припомним. Кому? (Шум в зале.) Один момент! Тихо! Товарищи дорогие, что такое сатира, я не хуже вас понимаю»[633].
Однако Осокин получил достойный отпор от физика-ядерщика, доктора наук и поэта В. Захарова. Он сказал, что тону предыдущего оратора свойственны «безапелляционность, категоричность, неуважительность, вплоть до того, что там “штучки” или, как он это сказал, “вещички”. Это пахнет критикой всем нам памятных времен». Также он отметил «абсолютную неподготовленность, часто безграмотность» выступления Осокина, чем вызвал аплодисменты в зале. По словам Захарова, «задача сатирика состоит в том, чтобы показать это явление, показать возможно более ярко, может быть, гротескно. Показать так, чтоб все видели, ткнуть мордой в это дело. Вот в чем состоит задача сатирика, и Галич великолепно, по-моему, с ней справляется. Что касается “Баллады о прибавочной стоимости”, она целиком и полностью укладывается в эту задачу сатирика. Тут чувствуется прямая преемственность от Маяковского и Кольцова. Вот что я хочу сказать. И, по-моему, это прямое развитие лучших традиций нашей литературы»[634].
Следует сказать несколько слов и о выступлении заместителя заведующего отделом пропаганды Новосибирского горкома комсомола Вячеслава Винокурова во время дискуссии 12 марта в зале ТБК. Сначала он заявил, что «не может быть никаких запретов, коль жанр существует». Но тут же добавил, что должно быть два «забора»: эстетический и идеологический, после чего назвал пример, вызвавший у него наибольшее возмущение: на концерте 11 марта в ДК «Юность» один автор из Севастополя исполнил «песню о роте, расстрелянной заградотрядами. Такие случаи действительно у нас были. Но когда об этом поет, скажем, 22-летний автор, это не бьет, товарищи. Это не бьет. Это просто плохо[635]». Далее Винокуров сделал комплимент двум аполитичным бардам: «Многие песни Юрия Кукина нам нравятся. Мы готовы их пропагандировать — например, “За туманом” и так далее. Дальше — песни Саши Дольского», которые «почти все нам нравятся. Кукина — то же самое», и, наконец, перешел к Галичу, чье творчество «занимает особое место. Тут я позволю себе несколько резких слов в его адрес», выразив решительное несогласие с мнением одного своего знакомого — о том, что «товарищ Галич якобы похож на хирурга. Если у человека болит или нарывает палец, он делает операцию». Галич, сказал Винокуров, скорее похож на хирурга, который оперирует не палец, а «оттяпывает руку. Мне кажется, что именно такое здесь происходит»[636].
В ходе дискуссии стало ясно, что чиновники хотят вообще запретить песни с социально-политической тематикой, и поэтому Танкред Голенпольский заметил: «Если мы не будем петь всякие разные песни, в том числе песни Галича, то не исключено, что нам придется петь какую-то одну песню, например: “В открытом море не обойтись без Кормчего!”»[637] (эта популярная в те годы китайская песня о Мао Цзэдуне прозрачно намекала на другого «кормчего» — Сталина).
Вероятно, именно эту дискуссию имел в виду Валентин Глазанов, когда говорил, что «в один из последних дней состоялась дискуссия о самодеятельной песне, где представители партийной власти высказывали много нареканий в адрес Галича, а он, прикидываясь, говорил: «Ну, что вы, ведь это я написал комсомольскую песню “До свиданья, мама, не горюй”, и “Физики” — тоже»[638].
Причем уже входе фестиваля, 11 марта, первый секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ Ю. Балабанов и ответственный организатор ЦК ВЛКСМ В. Жуков направили первому секретарю Новосибирского обкома КПСС Ф. С. Горячеву письмо, в котором указывалось: «Совершенно ясно, что на роль идейного вдохновителя “бардов” претендует член Союза писателей А. Галич. Именно из его уст звучит ничем не прикрытая злобная антисоветская направленность “жанровой пародийной песни” с открытым призывом “шагать не в ногу”»[639].
Помимо дневных концертов в Доме ученых в кинотеатре «Москва» постоянно шли ночные концерты — с 12 до 5 утра. Вечером там демонстрировались фильмы, а уж по окончании киносеансов ночь всецело принадлежала бардам. И все залы опять были забиты до отказа. На одном из своих выступлений Галич обратился к зрителям со словами: «Я сейчас взглянул на часы — половина третьего ночи! Нам-то ладно, нам дали сцену, и мы рады петь. Но как же вы-то высиживаете?» В ответ раздались громовая овация и крики: «Пойте!»[640]
Об одном из таких концертов имеются несколько свидетельств, которые хорошо дополняют друг друга. Первое принадлежит Валентину Глазанову: «Помню ночной концерт в каком-то кинотеатре Академгородка. Было много участников, концерт продолжался с двенадцати часов ночи до четырех утра. В середине концерта в зал пришли Галич и Кукин, которые где-то перед этим выступали (а потом они, как говаривал Городницкий, конечно выпили). Зал прервал аплодисментами выступавшего на сцене и попросил спеть Галича, но он сказал: “Товарищи, на сцене поет прекрасный автор Юра Лосев, не будем ему мешать”. Но потом, по-моему, он все же спел, хотя, может быть, и нет»[641].
Галич все-таки пел — об этом подробно рассказал один из организаторов фестиваля Владимир Соколов, уточнивший, что Галич с Кукиным пришли около трех часов ночи: «В первый и последний раз со сцены выступал Галич. Запомнился знаменитый “ночной концерт”. Где-то в полночь все барды собрались за кулисами и быстро уточнили программу. Начали выступать. Где-то около трех ночи в зрительном зале появились заглянувшие на огонек Галич и Юра Кукин. Их заметили и прислали записку с просьбой разрешить им выступить. Оба поднялись за кулисы, где как раз стоял и я. Тут стало ясно, что оба весьма навеселе после банкета. Первым пошел выступать Кукин и начал с “А я еду за туманом…”. Галич взял гитару и стал мне показывать пародию на Кукина. В это время из зрительного зала прибежал Андрей Берс (из тех самых Берсов, что и жена Толстого Софья Андреевна). Он гневно зашептал: “Кто тут у вас блажит? Мы Кукина не слышим!” Пришла очередь Галича. Перед тем как выйти на сцену, он сказал мне: “Если я упаду — выйдешь на сцену, скажешь, что у меня сердечный приступ. Возьмешь меня НА РУКИ и унесешь за кулисы!” Ни фига себе! Во мне весу тогда было 64 кг, а в Галиче — под сотню!
Галич начал выступление с песни “Баллада про маляров, истопника и теорию относительности”. Прибегает Берс, говорит, что в зале сидят кагебешники. Главный у них улыбается и доволен. Галич переходит к известной “Балладе о прибавочной стоимости”. Берс опять за кулисами: “Кагэбэшник уже не смеется!” Третья песня — “Памяти Пастернака” со словами “Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку!”. Потомок Софьи Андреевны уже вползает за кулисы: “Все, ребята! Еще немного — и будут всех брать на выходе!” Но где-то под утро концерт закончился благополучно. Все плохое было позже…»[642]
(10 марта в ДК «Москва» в 24.00 Галич в той же последовательности спел практически те же три песни, только вместо «Баллады о прибавочной стоимости» прозвучала «Ошибка».)
Поскольку Владимир Соколов говорит, что Галич пришел на этот концерт в кинотеатре «Москва» после банкета, то можно предположить, что он состоялся в ночь с 11 на 12 марта, а сам банкет имел место 11-го числа — такая датировка следует из воспоминаний Раисы Берг[643].
На этом банкете присутствовало множество известных гостей, среди которых был 20-летний поэт и диссидент Вадим Делоне. В Академгородке он оказался в конце 1967 года после того, как 22 января принял участие в демонстрации на Пушкинской площади в Москве в защиту арестованных Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Вадима тут же арестовали, но дали ему год условно, и, чтобы он не натворил чего-нибудь еще, его дед, знаменитый академик Борис Делоне, отправил внука подальше от Москвы к своему ученику, академику А. Д. Александрову, который поселил его в своем коттедже и даже дал рекомендацию на поступление в НГУ.
Так вот, выступая на банкете, Вадим сказал, что Галич вернул поэзии свойство хлеба. А по окончании фестиваля прочитал ему написанное там же, в Новосибирске, стихотворение, которое так и называлось — «Александру Галичу»: «Мы заботами заболочены, / Очертила нас четко очередь, / И не хочется быть за бортом нам, / В дон-кихоты идти не хочется. <…> От обид кричать не положено, / А положено челобитничать, / Непреложное все изложено, / Если хочешь жить — надо скрытничать. / Надо скрытничать, надо каяться / В том, что было, и в том, что не было, / Только небо в глазах качается, / Небо тоже чего-то требует. / Вот и кинулся он, вот и бросился / В безнадежный бой и неравный, / Хоть и волосы не без проседи / И здоровьишко в неисправности. / Обвинили его в человечности, / Били кривдою так, чтоб корчился. / Мол, чего он связался с Вечностью / И с Бессмертием в заговорщиках. / От обид кричать не положено, / А положено челобитничать, / Непреложное все изложено, / Если хочешь жить — надо скрытничать»[644].
После выступления на банкете Вадима Делоне попросили выступить Раису Берг, и она сказала следующее: «Я присутствую здесь с двойственным чувством. Мы приобщены к таинствам свободы. Миллионы за стенами дворца, где мы вкушаем ее, лишены даже крох. Подумаем о них. Наш пир — пир во время чумы»[645].
Когда участники банкета уже порядочно выпили, какая-то женщина с белыми глазами, как ее называл потом Галич, стала кричать ему, что он воспевает Пастернака, Зощенко, Цветаеву, Мандельштама, а тех, кто на полях сражений отстоял Родину и встал на защиту социализма, не воспевает, что он занимается пасквилями и т. д.[646] На защиту Галича встала Раиса Берг: «Вы нарушаете правила честного боя. Имя вашего противника известно вам, а ваше имя неизвестно ему и никому из присутствующих. Назовитесь». Тут же ярость этой женщины обрушилась на Раису Львовну, но она восприняла это спокойно, поскольку главное было сделано — она отвела удар от Галича.
Банкет закончился в полночь, и Галича проводили в гостиницу. А в два часа ночи, как рассказывает Раиса Берг, за ним приехали организаторы фестиваля и отвезли в кинотеатр «Москва», где зал уже был заполнен учениками математической школы Академгородка, и Галич пел для них.
О другом ночном концерте, состоявшемся в Горном институте, рассказал его непосредственный участник Юрий Кукин: «Я выступал вместе с Александром Аркадьевичем Галичем в одном концерте, который начался в четыре часа утра. Поскольку все концерты с участием Галича были запрещены, люди сразу прибежали в этот зал, в Горный институт, сели со спальниками и сидели с шести вечера до четырех утра, и никто их не мог выгнать. Нас посадили в середину зала, чтоб милиция нас за руки не вытащила, и мы сидели и ждали начала концерта. Он начался в четыре часа, и мы пели часа четыре примерно, до утра. Галич там пел очень много песен. Это был, по-моему, первый и полный его публичный концерт в принципе»[647].
Такую же напряженную атмосферу во время ночных выступлений Галича запомнил и казанский автор-исполнитель Эдуард Скворцов: «Концерт Галича проходил в кинотеатре — по окончании всех сеансов, около двенадцати ночи. Зал был набит битком, все сидели в пальто, шубах — было очень холодно. И вот появился Александр Аркадьевич — очень импозантный, такой, знаете, салонный лев. Он, кстати, разительно отличался от бардов тех лет. Помимо песенок под гитару, мог подойти к роялю и на довольно приличном уровне исполнить Гершвина. Чувствовалось: хорошо воспитан, интеллигент… Свой концерт в Новосибирске Галич начал с известных песен, но все их слушали с особым вниманием, ведь одно дело — слышать его в записи, совсем другое — вживую… Потом он разошелся и начал петь такую антисоветчину! Помню, зал буквально замер, когда Галич запел “Леночку Потапову”: “А утром мчится нарочный ЦК КПСС, В мотоциклетке марочной ЦК КПСС, Он машет Лене шляпою, спешит наперерез — Пожалте, Л. Потапова, в ЦК КПСС!” <…> Кажется, ему было очень важно показать, что он ничего и никого не боится, что он протестует. А тем временем ощущение, что по окончании концерта всех нас могут забрать, витало в воздухе. Но этого, слава богу, не случилось»[648].
Кстати, музыкальные произведения Гершвина в исполнении Галича услышал и Владимир Фрумкин. Прозвучали они в зале ДУ — судя по всему, перед концертом-презентацией 8 марта. Фрумкин же должен был сказать о Галиче вступительное слово: «Войдя в Дом ученых сибирского Академгородка перед тем знаменитым и злополучным концертом, с которого и начались все главные беды Галича, я услышал, как кто-то за занавесом наигрывает “Рапсодию в стиле блюз” Гершвина. Заглянул туда — за роялем сидел Галич. По слуху ли он играл “Рапсодию”, по нотам ли выучил — не знаю, постеснялся спросить. Позже, в Москве, он сказал мне, что ноты знает, но свои песни записывать не решается, не хочет… И попросил это сделать меня — чтобы отправить на Запад для публикации»[649].
Там же Галича застал и Юрий Кукин, рассказавший о том, почему Галич стал играть Гершвина: «Галича спросили в новосибирском Академгородке: “Александр Аркадьевич, почему вы не хотите научиться играть на гитаре?” Галич не ответил, молча сел за рояль и блестяще исполнил “Голубой прелюд” Гершвина»[650]. А Танкред Голенпольский услышал, как Галич исполнял песню Лайонела Барта «From Russia with love» из одноименного английского фильма о Джеймсе Бонде (1963): «Пообедав в Доме ученых, я прошел в концертный зал, где вечером произойдет событие. У рояля сидел человек и тихо играл, подпевая на английском. Играл великолепно. Его я не знал. Мелодия знакомая — “From Russia with love”. Девушка, сидевшая рядом, была мне знакома — Светланка. “Танкред, Александр Галич”. Он встал, красивый, элегантный, голова чуть тронута сединой. Спросил: “Вы будете вечером?” Мягкий интеллигентный голос. “Народ знает?… Думаете, много будет?”»[651].
К этим воспоминаниям примыкает свидетельство Светланы Воропаевой: «Помню, как они с Танкредом играли на фортепьяно в четыре руки популярные в те годы мелодии из французских фильмов “Мужчина и женщина” и “Шербурские зонтики”»[652].
На свою беду, помимо основных концертов, Галич выступил еще на одном, незапланированном. На фестивале присутствовали ветераны войны, и они спросили свердловского барда Льва Зонова: «Что у вас происходит?» — «Фестиваль самодеятельной песни» — «А кто у вас самый главный?» — «Александр Галич». И ветераны захотели, чтобы Галич выступил у них, причем один.
Галич и выступил, зарядив им обойму из своих политических песен. Реакция у фронтовиков была примерно такая же, как у партийного начальства: полное и категорическое неприятие. Подобная реакция на «правду жизни» была вполне предсказуемой, поскольку мировоззрение в таком возрасте поменять практически невозможно. И не случайно разгромная статья о Галиче, которая появится через месяц после фестиваля, будет написана одним из фронтовиков…
В продолжение темы о восприятии песен Галича людьми старшего поколения приведем воспоминания Сергея Никитина: «…был случай, когда я по радио спел Сонет Шекспира № 66: “Зову я смерть, мне видеть невтерпеж достоинство, что просит подаянья”. И в редакцию пошли письма от пенсионеров с вопросами: “Почему по радио передают Галича?” Главного редактора чуть сгоряча не уволили, но оказалось, что это слова Шекспира»[653].
Об этом же случае рассказала Татьяна Никитина: «…один “народный мститель” написал разгневанное письмо в ЦК: “Почему Никитин поет песни Галича в эфире?!” Оказалось, что он услышал “Сонет 66” Шекспира, который однажды “сгоряча” пустили по радио в исполнении Сергея с его музыкой… (В той же передаче звучали стихи Д. Самойлова “Смерть царя Ивана” и т. д.)»[654]
Во вторник 12 марта, в 19.00, состоялся заключительный гала-концерт лауреатов — Галича, Кукина и Дольского. Началось все с того, что обком запретил выступление Галича, и тогда два других лауреата, помимо собственных песен, спели по одной его песне, и концерт состоялся. Но что властям Новосибирска удалось сделать — так это запретить видеосъемку последнего концерта. Пытаясь не допустить выступление Галича, они вновь предприняли попытку его сорвать. «Когда я подошел к залу Дома ученых, — вспоминал Галич, — я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных “Волг”. Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом прибежал ко мне и сказал, что прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса, и они собираются устроить обструкцию. Я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил этакую веселую злость. Я выхожу на сцену и чувствую спиной ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни “Промолчи”, а потом “Памяти Пастернака”. Я спел эту песню. Аплодисментов не было. Зал молчал… зал начал вставать. Люди просто поднимались и стоя, молча смотрели на сцену… Я оглянулся и увидел, что молодчикам тоже пришлось встать»[655].
В автобусах же находились те, кто по приказу начальства должен был устроить Галичу «сеанс народного гнева». Эту ситуацию подробно описала Раиса Берг: «Перед началом концерта я стояла в вестибюле. Подошел Галич. Анонимный звонок предупредил его, что два автобуса с рабочими Севзапсельмаша отправлены из Новосибирска в Городок на его выступление. Рабочие забросают его — “жидовскую морду, антисоветчика” — школьными чернильницами-непроливашками. “Я не боюсь. Я как пришел на своих ногах, так и уйду, но что будет с теми, кто приглашал меня и устраивал фестиваль?” — ‘‘Я старая женщина, — сказала я ему, — но, если кто-либо в моем присутствии позволит себе словесный выпад, не то что бросить в вас чернильницу, я, не задумываясь, буду бить его по морде. И таких, как я, — только к тому же молодых и сильных — в зале будет 90 процентов. Эти поборники советской власти делают свои дела в приемной у начальства или с оружием в руках во время обысков и арестов. Никто из них не решится даже пикнуть”. Так и было.
Галич пел у меня дома. Он рассказывал, что его вызвали в спецотдел Президиума Академии и проводили с ним воспитательную работу, упрекая его в антисоветской пропаганде. Он защищался, говорил, что он сатирик, поэт…»[656]
Однако фестиваль на этом еще не закончился. Желающих послушать бардов, в таком количестве еще никогда не приезжавших в Академгородок, было так много, что организаторы решили устроить еще один прощальный концерт в кинотеатре «Москва». И гвоздем этого концерта стало, конечно же, выступление Галича, которое, по словам Леонида Жуховицкого, состоялось «уже к концу фестиваля, причем время выделили с 12 ночи. Этот концерт длился до четырех утра. Кинотеатр “Москва” вмещал тысячу человек. Пришло народу намного больше. Там были такие металлические двери. Эти двери выломали, и все, кто пришел, ворвались в этот зал, и до четырех утра слушали песни Галича»[657]. Об этом же концерте рассказал Валерий Меньшиков: «Это был последний концерт, когда мы уже завершили фестиваль, и все-таки оставался концерт, объявленный в кинотеатре “Москва” в Академгородке. И тут началось. Он был объявлен в восемь часов вечера. Вдруг неожиданно возникает директор этого кинотеатра и говорит: “Вы извините, мы не можем этот концерт провести, потому что у нас на восемь — кинофильм, а нам надо план отрабатывать”. Мы говорим: “Хорошо. На двенадцать часов”. — “Нет, на двенадцать тоже нельзя”. В общем, концерт начался где-то после двенадцати часов ночи. Многие там сидели приехавшие из Новосибирска, им спать негде было. Тем не менее они пришли на этот концерт, и концерт длился до четырех ночи. Там пускали всех уже — открыли двери, пожарники воевали, потому что выносили стулья на сцену, человек сто сидело на сцене, кто-то полулежал, кому стульев не хватило[658]. Вот это был завершающий аккорд фестиваля»[659].
После окончания заключительного концерта жюри назвало тройку лучших бардов фестиваля. Несмотря на запрет обкома, Гран-при был присужден Галичу. Второе место занял Кукин, третье — Дольский.
На закрытии, перед вручением призов, все барды вышли на сцену и хором спели знаменитую «Бригантину» на стихи Павла Когана, погибшего в 1942 году: «В флибустьерском дальнем синем море / Бригантина поднимает паруса».
А потом Анатолий Бурштейн начал награждать лауреатов.
Юрию Кукину передали через москвичей (так как всем ленинградцам пришлось уехать, не дожидаясь закрытия фестиваля) приз «За лучшую песню об Академгородке» — химическую колбу, наполненную табачным дымом, который символизировал туман из его песни: «А я еду, а я еду за туманом, / За мечтами и за запахом тайги». На колбе было написано: «Туман Академгородка».
Александра Дольского (также заочно) наградили шпагой, которой когда-то сражались на дуэлях. Это был приз «За лучшую песню о женщине», и его передали другому свердловчанину — Льву Зонову.
Далее был вручен приз Сергею Чеснокову за активное участие в дискуссиях, и Бурштейн от имени прессы даже предложил присвоить ему титул «главного теоретика».
И, наконец, главный приз фестиваля объявил Леонид Жуховицкий: «Все вы видели, каким успехом на концертах пользовался Александр Аркадьевич Галич (продолжительные аплодисменты). Товарищи, успокойтесь! Вы ему аплодируете не последний раз сейчас[660]. Но многие из вас не знают, что этот концертный успех — ничто по сравнению с тем колоссальным успехом, которым он пользовался на дискуссиях, потому что девяносто процентов времени было посвящено там именно песням Галича. Причем польза от этого была колоссальная, потому что одни были за, другие — против, но спор велся в таком темпе, что извилины у людей росли прямо на глазах (смех, аплодисменты). Мы сперва хотели присудить приз за самую бесспорную песню фестиваля, которая понравилась бы всем. Были такие песни, но никто почему-то не запомнил их названия. Это наше с вами общее упущение. Тогда мы решили за самую спорную, за самую острую песню фестиваля присудить приз именно Галичу (аплодисменты)»™[661].
Этим призом стал традиционный для русского писателя инструмент — пластмассовое «гусиное» перо, которое вместе с другими призами накануне закрытия фестиваля купил в киоске уцененных товаров Герман Безносов.
После церемонии вручения все участники фестиваля спели еще две песни: «Пиратскую» (1961) Юлия Кима («По бушующим морям / Мы гуляем здесь и там, / И никто нас не зовет / В гости. / А над нами — черный флаг, / А на флаге — белый знак: / Человеческий костяк, / Кости!») и песню Александра Дулова «Хромой король» («Железный шлем, деревянный костыль») на стихи бельгийского франкоязычного поэта Мориса Карема в переводе Михаила Кудинова[662].
Наконец, Анатолий Бурштейн произносит финальную фразу: «Разрешите официально закрыть наш праздник песни и пожелать всем нашим гостям дальнейших успехов. Спасибо вам, ребята!»
В тот же день в памятном альбоме Германа Безносова Галич оставляет свой автограф: «Мария Волконская еще собирается, а я уже здесь, как будто всегда был здесь! Нет, видать, я и вправду рожден для Сибири! Спасибо вам всем, огромное спасибо. Галич. 12.03.1968 г.»[663]. (Для справки: когда в 1826 году князя Сергея Волконского, участвовавшего в восстании декабристов, сослали в Сибирь, его жена Мария Волконская отправилась вслед за ним; кстати, в 1968 году тема декабристов станет в творчестве Галича одной из центральных.) А на банкете по поводу закрытия фестиваля он оставил еще один автограф журналисту Виктору Славкину: «А все-таки, если даже будет плохо — пока хорошо. Галич»[664].
В книге отзывов клуба «Под интегралом» также сохранилось множество записей. Преобладали восторженные: «Фестиваль великолепен! Звезда его I — Галич!! II — Дольский!», «Галич — явление выдающееся и исключительное. Его нужно беречь!», «Галич меня потряс», «Одна просьба: устраивать почаще такие вот песни». Изредка встречались и гневные: «Песни Галича — возмутительная безыдейщина!» Но лучше всего суть фестиваля выражена в отзыве Танкреда Голенпольского: «Все говорят о мужестве бардов, а ведь это всего лишь честность»[665].
Последствия
Фестиваль бардов в Академгородке снимали две студии кинохроники: Западно-Сибирская и Свердловская (по некоторым данным, была еще Иркутская). Свердловские кинематографисты во главе с режиссером Аветом Гарибяном сняли цветной широкоформатный фильм. Кроме выступления Галича были записаны и наиболее интересные выступления других бардов, а также теоретические дискуссии. Но ничего этого не сохранилось, поскольку после возвращения в Свердловск все, что было снято, КГБ приказал смыть[666].
Более сложная, но и более счастливая судьба оказалась у съемок Западно-Сибирской студии. Режиссер Валерий Новиков во время фестиваля также начал работать над фильмом, основанным на кадрах, снятых кинооператором Борисом Бычковым. «Позже кто-то из сибирских кинематографистов рассказывал мне, — вспоминает Эдуард Тополь, — что, пользуясь неразберихой на студии кинохроники, снял весь конкурс на пленку и даже смонтировал сюжет для всесоюзной хроники “Новости дня”…»[667]
Однако через три дня после окончания фестиваля на черной «Волге» к кинематографистам приехали обкомовцы: «Еще пленка в проявочной машине не просохла, — рассказывает редактор съемок Ярослав Ярополов, — к нам прибежали из обкома: покажите. Показали. Директору [студии кинохроники Владимиру Сафонову]: “Положите в сейф!” Положили. Мы, несколько человек, видевшие “сырой” материал, вышедший из проявочной машины, и были теми самыми зрителями, что только и видели этот несостоявшийся фильм. А дальше его не видел никто. Его изъяло местное КГБ — до последнего метра, до нитки. Все так называемые промежуточные материалы сожгли. Его зачислили в план по серебру — был такой план у студий за израсходованную пленку. <…> Они изъяли коробки с отснятыми материалами и уехали»[668]. А перед тем, как уехать, предложили сотрудникам киностудии забыть об этом фильме и… работать дальше.
Казалось бы, запись пропала с концами, но прошло двадцать лет, и вдруг при вынужденном переезде киностудии из собора Александра Невского, который был тогда возвращен церкви, на улицу Немировича-Данченко, обнаружилась бесценная находка. Главным редактором Западно-Сибирской студии документальных фильмов в 1988 году была Татьяна Паулан. От нее и стало известно, как все произошло: «…в дальнем углу фильмохранилища, в подвале с толстенными стенами, была найдена коробка с надписью “Фестиваль авторской песни. Новосибирский Академгородок. 1968 год”. Такой материал ни в каких учетных документах не значился. Побежали с пленкой в кинопроекционную, зарядили, посмотрели и ахнули: “Так это же Галич!”»[669].
Правда, на пленке оказалось только изображение без звука. Дело в том, что звукооператор Валерий Соловьев успел спрятать позитив, а КГБ забрал только первооснову — негатив, — не подумав о том, что где-то мог сохраниться позитив, с которого всегда можно сделать новый негатив. Хотя по качеству он был чуть похуже, но фильм удалось частично восстановить. По словам Татьяны Паулан, сотрудники Западно-Сибирской студии и участники фестиваля часами просиживали за монтажным столом, гоняя пленку, чтобы по артикуляции понять, что именно пелось и на каком концерте. И здесь помог любопытный эпизод, случившийся во время фестиваля. Вспоминает Ярослав Ярополов: «…на словах “Там по пороше гуляет охота, трубят егеря…” вдруг словно что-то выстрелило. Зал вздрогнул. Оказалось, взорвалась осветительная лампа. Галич после концерта пошутил: “Я думал, первый секретарь райкома застрелился”»[670].
Более подробная версия принадлежит непосредственному участнику этого эпизода Юрию Кукину, который на вечере памяти Галича в Политехническом музее 19 октября 1998 года рассказал следующее. Когда Галич пел «Мы похоронены где-то под Нарвой», 8 зрительном зале взорвался осветительный прибор (софит), и осколки посыпались на первые ряды: «Там по пороше гуляет охота, / Трубят…» Тут раздался звук: «Бах!» Все вздрогнули, но Галич не шелохнулся, а спокойно произнес: «…егеря» — и закончил песню. Когда они вместе шли с концерта, Кукин обратился к Галичу: «Александр Аркадьевич, мне показалось, что в вас стреляли», на что Галич усмехнулся и сказал: «Ха-ха! А мне показалось, что первый секретарь покончил с собой».
Другие детали содержатся в рассказе актера Бориса Львовича, который вместе с Аленой Архангельской выступал в качестве ведущего на вышеупомянутом вечере в Политехническом музее: «В кафе “Под интегралом” были такие посиделки или скорее даже “постоялки”. Тогда же не было, как сейчас говорят, таких презентаций. Стаканчики бумажные и портвейн. Но все равно очень дружно все это было съедено и выпито. Значит, ходил роскошный Галич, за ним — толпа нас, сопляков. А рядом ходил Кукин и говорил: “Аркадьич, сколько вы забашляли электрику? У меня тоже бывает иногда хлопнет что-нибудь, но всё не вовремя, а тут: трубят… представляете… егеря. Класс!”»
Именно эта история, как говорит Татьяна Паулан, помогла реставраторам найти фонограмму, соответствующую видеофрагменту с выступлением Галича: «Мы посмеялись, и вдруг осенило: а что, если это был осветительный прибор кинохроники? Если так, значит, на этом концерте шли съемки, значит, по этому “Бах!” и надо искать “родную” фонограмму. Оказалось, что так и было. Прослушав несколько пленок, на одной услышали: “Там по пороше гуляет охота… (Бах!) Трубят егеря!” Так через двадцать лет встретились изображение и звук: поет Александр Галич»[671].
Сама же песня «Ошибка» на видео не сохранилась. Таким образом, удалось восстановить, и то не полностью, лишь две песни Галича: «Памяти Пастернака» и «Цыганский романс»[672]. Обе они вошли в фильм «Запрещенные песенки», снятый в 1990 году Западно-Сибирской студией кинохроники.
Что же касается «Цыганского романса», то его удалось восстановить благодаря Сергею Чеснокову, который рассказал об этом на вечере-презентации сборника стихов Галича «Облака плывут, облака…» (27.01.2000): «Когда в 87-м году был вечер (его устраивали в Доме кино)[673], позвонил мне Валерий Аркадьевич, брат Александра Аркадьевича, и говорит: “Сережа, вот мы нашли пленку с фестиваля, и на вечере должна она звучать. Там Саша поет песню, и мы не знаем какую. Фонограмма чужая, и мы никак не можем понять, что там такое. Может быть, Пастернака… Ну, не получается ничего. Мы пытаемся подставить — не выходит. Слушай, приезжай, помоги”. И я мгновенно поехал на студию Горького, меня встретил Валерий Аркадьевич, провел на какой-то этаж (четвертый или пятый, я не помню). В общем, была маленькая монтажная комнатка, где был монтажный столик, на котором люди, занимающиеся монтажом, смотрят маленькое окошечко, где бегут кадры. Вошла девушка с большой широкополосной бобиной. Она ее скрутила, вставила в аппарат и включила. Я очень волновался. Звука, конечно же, не было. И я должен был догадаться, чего он там играет. Прошло буквально три секунды с тех пор, как я начал видеть мелькание кадров, и у меня просто зазвучала эта песня в ушах. Это было посвящение Блоку. Тогда ее подставили, и с этой фонограммой потом уже пошла эта пленка на вечере в конце 1987 года в Доме кино».
Существуют еще две любительские съемки без звука: первая (меньше полутора минут) принадлежит Никите Богословскому, который в конце 1950-х снимал Галича, Юрия Любимова, Юлия Райзмана и еще несколько человек. Место съемок — предположительно Подмосковье. А вторая съемка сделана осенью 1968 года в Минске, когда Валерий Лебедев записывал Галича, певшего «Балладу о сознательности» (так он сам утверждает). В 1987 году эта запись, считавшаяся на тот момент единственной, вошла в фильм Александра Стефановича «Два часа с бардами».
Правда, режиссер Ксения Маринина утверждает, что и она тоже снимала Галича — для передачи «Кинопанорама». Однако съемки эти до сих пор не обнародованы: «Когда снимала его: “Саш, сядь так или сяк”. — “Да как сижу, так и сижу!” — “Ну, так тебе хуже. Ну, дай ракурс хороший взять”. — “Снимай или говорить не буду, — он говорил так. — Усаживаться не буду. <…> Нравится вам — снимайте. Не нравится — не снимайте. А специально усаживаться — я тогда ничего умного не скажу”. <…> Так как мы очень дружили человечески, то пиетет в наших отношениях был смешон, у нас были дружеские отношения. Какой там пиетет? А так я как-то не наблюдала за ним на других съемках. Да в основном больше всего я его снимала-то. Никому он больше не доставался. И он не любил позировать, когда его усаживали. А вы сами понимаете, как в другой раз мне сказать: “Саша, сядь на то кресло или опусти голову”. Или взять лучший ракурс. Лучше не говорить. Потому что, как только скажешь, он говорит: “Да ну, не буду сниматься тогда совсем!” Ему это не нравилось, чтобы его усаживали. Он должен был существовать естественно и в этой естественности говорить. Если вам надо, то слушайте. Вообще такой жажды выступления в кадре и такого, так сказать, ответственного и торжественного настроения у него не было никогда. Он так говорил: “Надо — скажу. Чего скажу, то и ладно. А не нравится — вырежьте”. <…> У нас были человеческие, а не только такие официальные отношения, и манера разговаривать была проще, когда он мог сказать: “Не морочь мне голову”, когда он мог сказать: “Да надоело мне это все. И устал я. Ну, завтра снимемся”»[674].
Да и кинорежиссер Юрий Решетников в телепередаче Олега Шкловского «Как это было» (1998), посвященной Галичу, рассказывал, как летом 1972 года, вскоре после исключения Александра Аркадьевича из творческих союзов, вместе со своей съемочной группой собирался сделать полнометражную съемку его песен: «Он по договоренности с нами должен был снять все свои песни, даже с вариантами. Но меня предупредили, что это может кончиться тем, что всех арестуют. Ну, будут неприятности… Я приехал к Галичу, сказал ему об этом и спросил, как нам быть. Он сказал, что ему уже все равно, а группу жалко. Там должны были участвовать шесть человек, в этой съемке. И мы договорились, что мы чуть-чуть это отложим. И отложили навсегда».
Теперь вернемся в 1968 год и посмотрим, чем обернулся Новосибирский фестиваль для его участников и организаторов.
На следующее утро после одного из концертов Галича в Новосибирском доме актера состоялось обсуждение его песен (сам автор при этом отсутствовал). Собралось много народу — актеры, поэты, прозаики. Присутствовали, конечно, и сотрудники КГБ. Почти все нападали на песни Галича, и тогда в его защиту выступил театральный критик Роман Горин. Через два дня после дискуссии ему позвонил знакомый сотрудник газеты «Вечерний Новосибирск» и сообщил, что зарезали его рецензию на театральный спектакль «Блуждающие звезды», после чего посоветовал пойти и выяснить, в чем дело, в Новосибирский обком партии к секретарю по идеологии Виктору Алехину. Горин послушался совета, и между ними состоялся такой диалог: «Алехин выхватывает из стопки бумаг несколько листков: “Это тоже шуточки? Вы были на так называемом конкурсе бардов? Слышали это?” — “Там было много выступающих”. — “А Галич? Что поет Галич?” — “В Доме актера было обсуждение творчества бардов. Спорили и о Галиче. Я говорил, что в его творчестве развивается сатирическое начало. Он как бы продолжает традиции Маяковского…”. — “Великий пролетарский поэт и это… — Алехин потряс листками. — Это же галиматья… А песенка о прибавочной стоимости? Или эта… если все шагают в ногу, мост что? Обрушивается? Так? Пусть каждый шагает так, как ему хочется? К этому призывает Галич советскую молодежь?” — “Наверное, поэт хочет призвать каждого солдата не только честно исполнять свой воинский долг, так сказать, шагать вместе, но и стараться в строю сохранить свою человеческую индивидуальность. Только все это подано в шутливой манере”. — “И ‘Лекция о международном положении’ тоже шутка?”[675]— “Но это же сатира, Виктор Степанович… это юмор…” — “С таким юмором нам не по пути с Галичем. И с теми, кто делает вид, что не понимает мерзкие песенки Галича…” <…> Чувствую, что совсем погибаю, говорю: “Природа его творчества такова, что он не может без шуток”. Алехин буравит меня глазами: “Вот и напишите, как вы относитесь к этим шуткам Галича. Напишите, что это антисоветские, злопыхательские песенки. Мелкотемье, блатной словарь, зубоскальство вместо юмора, клевета на советских людей, а не сатира — вам и карты в руки! Я дам вам с собой экземпляры, если вам нужно…” — “Мне кажется, нельзя так рубить сплеча… У Галича есть хорошие, настоящие песни…” Алехин, не выдержав, стукнул ладонью по столу: “Ступайте! Нам больше не о чем с вами говорить!”»[676] В течение нескольких месяцев в научных институтах одна за другой шли горячие дискуссии, посвященные как выступлениям Галича, так и «письму сорока шести»[677]. Наибольшую активность здесь проявлял уже знакомый нам академик Трофимук. Например, 16 апреля он выступил на закрытом партсобрании Института геологии и геофизики СО АН СССР, посвященном «персональному делу члена КПСС О. В. Кашменской»: «С Ольгой Вадимовной Кашменской я не имел разговоров на политические темы, но я считал, что ее взгляды нормальные, партийные, что она как коммунист и пропагандист производит хорошую воспитательную работу. Но действия на крутых поворотах событий — лучшая аттестация коммунисту. На этих днях произошли острые политические события. Первое — приезд Галича, примкнувшего к бардам и использовавшего нашу аудиторию для антисоветчины. Я просил комсомольскую организацию устроить прослушивание пленок в Институте с тем, чтобы обсудить и дать должную оценку, оценку идейно-политическую. Молодежь была пассивна. Среди защищавших Галича была Кашменская, подчеркивавшая, что его деятельность полезна, что она напоминает всем об ошибках прошлого. Напоминаю содержание некоторых песен. В одной из них говорится о бессмысленно погубленных бездарными командирами тысячах людей и о том, что если бы они воскресли, то, услышав лишь “призывный зов егерей”, они отказались бы сражаться. Во второй песне о Пастернаке поется, что “подлецы и мародеры” его хоронили, и рекомендуется их поименно запомнить. Для чего? Для мести!
Пастернак хотя и был видным поэтом, но при его содействии рукопись его книги, очерняющей советскую действительность, — “Доктора Живаго” — ушла за границу. Вот какие песни рекомендует О. В. Кашменская для “напоминания молодежи”. Видит ли она, что люди, подобные Галичу, призывают браться за топор?»[678]
В итоге Ольге Кашменской был объявлен «строгий выговор с занесением в учетную карточку»[679].
Как мы помним, на закрытии фестиваля Галичу подарили пластмассовое «гусиное» перо, а 26 марта директор картинной галереи СО АН Михаил Макаренко вместе с председателем коллегии Дома ученых Академгородка, членкором АН СССР Алексеем Ляпуновым приехал в Москву и преподнес Галичу от имени общественности Академгородка почетную грамоту за три его песни («Караганда», «Старатели», «Памяти Пастернака» — именно так они записаны в грамоте) и… серебряное перо Некрасова. В свое время золотым «гусиным» пером был награжден Пушкин, затем российская литературная общественность к 50-летию Некрасова сделала по форме пушкинского пера такое же, только серебряное, и подарила ему. А теперь музей Академгородка отыскал это перо у дальних родственников Некрасова, приобрел и преподнес Галичу за его песни.
Галич невероятно гордился этим подарком. В апреле он пришел в столовую Дома творчества в Репине (под Ленинградом), где собрались известные драматурги, и, светясь от счастья, рассказал о своем успехе на фестивале. «Помню, как он стоял несколько секунд в проеме двери — весь еще не прилетевший, наполовину там — еще в Новосибирске, — вспоминает Эдуард Тополь. — Потом подсел за наш, ближайший к двери, столик, съел традиционный домтворческий завтрак и, видя, что мы не знаем еще главного события конкурса бардов, не удержался, достал из “дипломата” свернутый в трубочку диплом и какую-то плоскую коробочку. И сказал, стеснительно улыбаясь: “Я вам прочту сейчас, ладно?” И прочел нам диплом первого (и последнего) всесоюзного слета бардов»[680].
Глубокоуважаемый Александр Аркадьевич!От имени общественности Дома ученых и Картинной галереи Новосибирского Научного Центра выражаем Вам глубокую признательность за Ваше патриотическое, высокогражданственное искусство. Сегодня, когда каждый несет свою долю ответственности за судьбу революции в нашей Стране, обнажение и сатирическое бичевание еще имеющихся недостатков — священный долг каждого деятеля советского искусства.
Награждение Вас Почетной грамотой и специальным призом — копией пера великого А. С. Пушкина — дань нашего уважения Вашему таланту и Вашему мужеству, Вашему правдолюбию и непримиримости, Вашей верности Советской Родине.
Наше прогрессивное, развивающееся государство не боится мысли, анализа, критики — наоборот, в этом наша сила[681].
Под документом стояли подписи А. Ляпунова и М. Макаренко.
Потом Галич открыл коробочку, и все увидели, что на сером бархате лежало старинное гусиное перо из темного серебра. По словам Тополя, «было что-то неестественное, неисторическое, когда Галич закрыл коробочку и коротким жестом сунул ее во внутренний карман пиджака».
Что же касается Михаила Макаренко, вручившего Галичу почетный диплом и перо, то 5 июля 1969 года его арестовали и в сентябре 1970-го приговорили к восьми годам заключения в ИТК строгого режима с конфискацией имущества. Два тома (из пятнадцати) заведенного на него дела были посвящены Галичу, и еще два — деятельности картинной галереи, которую Новосибирский обком КПСС признал «идейно вредной»[682]. В 1978 году Михаил Макаренко освободился и уехал в США.
На следующий день после того, как Галичу вручили диплом и серебряное перо, по «Голосу Америки» был полностью прочитан текст «письма сорока шести» с фамилиями всех подписантов. Среди них были и люди, непосредственно причастные к организации фестиваля: аспирантка Новосибирского университета Светлана Рожнова, сотрудник Института катализа СО АН СССР Григорий Яблонский и «министр песни» клуба «Под интегралом» Валерий Меньшиков. В результате, к примеру, доктор биологических наук Раиса Берг была уволена из Института цитологии и генетики СО АН, а Рожнова и Яблонский исключены из партии.
Обком КПСС и РК ВЛКСМ объявили подписание «письма сорока шести» «предательством Родины» и приказали руководству институтов провести «публичную порку» всех подписантов и сотрудников, выступивших в их поддержку. У молодых ученых «полетели» диссертации, немало научных сотрудников было вынуждено уехать из Академгородка. Многие каялись, но, к счастью, далеко не все. Кого-то исключали из партии, кого-то — из комсомола.
Обеспокоил партийные органы и резонанс, который получил фестиваль бардов. Негативную оценку ему дало политическое руководство (партбюро) Новосибирского горкома КПСС в постановлении от 22 марта: «Считать, что праздник песни был проведен на низком идейно-художественном уровне. Подобные мероприятия наносят вред воспитанию молодежи, не прививают ей высоких художественных вкусов и моральных качеств, не служат делу воспитания у молодежи гражданского долга, советского патриотизма и интернационализма»[683].
16 апреля было принято «Постановление бюро Советского райкома КПСС «О некоторых вопросах идеологической работы в институтах СО АН СССР и НГУ», в котором говорилось: «В работе ряда организаций, ведущих культурную деятельность в Академгородке (клуб-кафе “Под интегралом”, клуб “Гренада”), наблюдается идеологическая беспринципность, погоня за сенсациями, а порой аморализм. Руководители этих учреждений (Бурштейн, Штенгель, Меньшиков, Яблонский, Казанцев, Димитров) не имеют четких идейных позиций. Отдельные мероприятия, проводимые ими (дискуссия о социальной активности интеллигенции, выступления Галича на празднике песни), являются политически вредными».
19 апреля состоялось собрание актива областной парторганизации, на котором выступали большие идеологические начальники. Сначала с докладом вышел первый секретарь обкома КПСС Ф. С. Горячев: «Ученые Академгородка дали также правильную оценку выступлениям с антисоветскими песнями писателя Галича, песни которого Бурштейн записал на пластинки, которые распространяются среди населения, что не украшает советского ученого». Далее прочитал свой доклад первый секретарь Новосибирского горкома КПСС А. П. Филатов: «Недавно в городе многие ученые посетили выступления “бардов” и выражали недовольство по поводу низкопробных песен некоторых авторов, слабых в художественном отношении. Особое возмущение вызвали песни исполнителя Галича, который не заботится ни о чести, ни о гражданственности. Вред выступлений Галича очевиден. Конечно, есть вина Советского райкома партии, что не предотвратили эти выступления перед молодежью. Но почему этот Галич состоит в славном Союзе писателей?» Через некоторое время слово взял командующий войсками Сибирского военного округа генерал армии С. П. Иванов и высказался по-военному прямо: «Писатели Новосибирска дают хороший отпор “бардам”, Галичу и другим, желающим хорошо жить за чужой счет и не желающим работать». Следом на трибуну поднялся секретарь Новосибирского обкома КПСС по идеологической работе М. С. Алферов: «В клубе “Под интегралом” ставились под сомнение принципы социалистического реализма, деятельность комсомола, некоторые вопросы политики партии. <…> Венцом, так сказать, деятельности, этого клуба, его президента Бурштейна явилось проведение фестиваля “бардов” и приглашение на него человека с антисоветской душой, члена Союза писателей СССР Галича».
В Институте ядерной физики СО АН на собрании коммунистов, работающих в научных секторах, выступил лаборант Е. В. Ерастов и предложил кардинальное решение проблемы инакомыслия: «О бардах. Зачем на сцену выпустили Галича-анархиста? Он плюет на нас, льет грязь, а мы даем ему свободу. Почему партком боится провести общее собрание и разбивает на отдельные группы, на общем собрании у нас силы были едины, и могли дать отпор эти людишкам. Я предлагаю всех их уволить из института».
Тема бардов затрагивалась и 7 мая на собрании партийного актива Советского района Новосибирска (в него входил Академгородок), где первый секретарь райкома ВЛКСМ В. Г. Костюк признал: «Мы были не совсем подготовлены к выступлениям на фестивале песен. Поэтому на фестивале выступил Галич». С большевистской прямотой высказался профессор, контр-адмирал и лауреат Ленинской премии Г. С. Мигиренко: «Сюда можно привезти любые картины на выставку, принять любых певцов и гастролеров, здесь можно написать любое письмо. Почему к нам могут приезжать кто хочет? В марте здесь появился Галич — явный идеологический противник. А руководители клуба “Под интегралом” пытались создать ему славу. Линия Бурштейна сознательна, его поступок заслуживает осуждения».
В ходе собрания партбюро 15 мая 1968 года (повестка дня имела характерное название «О состоянии идеологической работы в лаборатории ядерной физики в связи с письмом сотрудников СО АН СССР по делу Гинзбурга и К°») сотрудник Института геологии и геофизики СО АН Леонид Лозовский был обвинен в том, что «очень увлекается песнями бардов, знаком с Кимом, Галичем». Тот же Лозовский, по воспоминаниям Марии Гавриленко, на одной из дискуссий в Институте геологии процитировал Галича и в глаза назвал академика Трофимука «сволочью».
А 30 мая на партсобрании, посвященном итогам апрельского Пленума ЦК КПСС, выступил начальник управления КГБ по Новосибирской области М. Г. Сизов: «Выступление певцов, именующих себя бардами, с сомнительными и клеветническими песнями, подготовка коллективных писем в правительство, содержание которых явно провокационно, противодействие группы студентов ректорату НГУ и решениям общественных организаций — все это говорит за то, что в НГУ и в Академгородке есть силы, которые воздействуют на молодежь в отрицательном плане».
Параллельно власти решили задействовать прессу, и 18 апреля 1968 года газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала статью «Песня — это оружие». Ее автором был участник обороны Москвы, корреспондент Агентства печати «Новости» Николай Мейсак. За готовность выполнить любой приказ партии его называли «сибирский Мересьев». На самом фестивале Мейсак не был, но прослушал записи концертов и по ним воссоздал «моральный облик» выступавших. Главным объектом его атаки стал, конечно же, Галич: «Что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы? Возможно. Слава — капризна. Она — как костер: непрерывно требует дровишек. Но, случается, запас дров иссякает. И, пытаясь поддержать костёрик, иные кидают в него гнилушки. Что такое известность драматурга в сравнении с той “славой”, которую приносят разошедшиеся по стране в магнитофонных “списках” песенки с этаким откровенным душком?»
По словам Танкреда Голенпольского, эта статья вызвала ответный «шквал телефонных звонков и Мейсаку, и прочим служивым с одной фразой: “Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку”»[684].
С этого момента стали появляться заказные статьи против авторов-исполнителей, по всей стране закрывались клубы самодеятельной песни. Начался мощный откат, и в общество снова вернулся страх. Вот свидетельство Марка Готлиба: «После публикации статьи Николая Мейсака мне позвонил знакомый и просил никому не рассказывать, что я доставал ему билеты на Галича. Товарищу, как и мне, было всего 17 лет, но, наверное, многим страх передался на генетическом уровне и не был следствием личного опыта. Я знаю людей, которые спешно стирали записи. И все же таких было меньшинство»[685].
17 мая в газете «Вечерний Новосибирск» появилась еще одна разгромная статья, на этот раз редакционная, под названием «Нужны четкие идейные позиции». Хотя она известна гораздо меньше, чем статья Мейсака, но нисколько не уступает ей по количеству обвинений и ярлыков, навешанных на Галича. Разумеется, здесь высказывается поддержка статье Мейсака, в которой «дана принципиальная партийная оценка выступлениям некоторых безответственных людей, именующих себя “бардами”», и, конечно, особое внимание уделяется Галичу: «Что же касается “песен” А. Галича, о которых главным образом и идет разговор в статье “Песня — это оружие”, то именно они ничего общего не имеют с настоящей критикой недостатков. Это развязное критиканство, которое часто сродни махровой антисоветчине. Такая оценка дана в большинстве откликов, присланных в редакцию».
Среди «большинства откликов» в статье упоминается и ряд ученых Академгородка: А. А. Трофимук, Б. В. Войцеховский, А. В. Ржанов, Г. С. Мигиренко, Е. Н. Мешалкин, К. А. Соболевская. Они «до глубины души были возмущены теми идеями, которые протаскивал в своих песнях А. Галич».
Подобные публикации стали появляться и в центральной прессе. Например, замминистра культуры Василий Кухарский в своей статье нападает на несколько песен Высоцкого и особое внимание уделяет Галичу: «“Пошутить” под гитарное треньканье любит А. Галич, в прошлом журналист и драматург, автор популярной пьесы, а ныне великовозрастный, за пятьдесят, “бард” и “менестрель”, который начинает “контакты” с публикой жеманным признанием: “Я люблю сочинять песни от лица идиотов”. <…> Так вот, “от лица идиотов” Галич сочиняет и поет двусмысленную “Балладу о прибавочной стоимости”, от этого же “лица” он поучает молодых людей премудростям “Закона природы”: “Повторяйте ж на дорогу / не для красного словца: / Если все шагают в ногу, / мост обрушиваеца! / Пусть каждый шагает как хочет!” Это — уже программа, как верно определяет автор упоминавшейся статьи Мейсак. <…> Как видим, люди, прикидывающиеся идиотами, действуют с явным “заходом на цель” — с явной пропагандистской задачей. Она ясна: бросить в юные души семена недоверия, подозрительности, духовно разоружить, опустошить молодежь»[686].
Корреспондент «Комсомольской правды» Георгий Целмс, чья коротенькая заметка о фестивале была опубликована 12 марта, вскоре был уволен из газеты и вынужден был уехать из Москвы, долгое время работал инструктором по туризму. Репортаж о фестивале, сделанный корреспондентом журнала «Юность» Виктором Славкиным, был рассыпан уже после набора. У Леонида Жуховицкого «полетели» книжка и публикация в журнале, а также премия имени Николая Островского, которую ему к тому времени присудили и вскоре должны были вручить…
Не остались в стороне и центральные органы власти. Уже 29 марта первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов направляет в ЦК КПСС многостраничное секретное письмо, посвященное фестивалю бардов: «В большинстве своем выступления в концертах и на дискуссиях носили явно тенденциозный характер, были проникнуты духом безыдейности, аполитичности, клеветы на советскую действительность. Об этом свидетельствует репертуар А. Галича, который содержал такие песни, как “Памяти Б. Л. Пастернака”, “Баллада о прибавочной стоимости”, “Ошибка”, “Песня про генеральскую дочь”, “Закон природы”, “Про товарища Парамонову” и другие. Жанр их по определению самого автора — “жанр пародийной песни”, идейная направленность — “шагать не в ногу”, их герои, как правило, руководящие работники, которых автор рисует лишь в черных тонах. <…> В песне “Памяти Б. Л. Пастернака” звучат озлобленность и угроза: “Мы поименно вспомним всех, кто руку поднимал…” <…> В песенном цикле “Об Александрах” Галич откровенно издевается и над интернациональной политикой нашего государства, высмеивая помощь Советского Союза народам Африки. <…> Информируя ЦК КПСС о сборище в Академгородке Новосибирска, ЦК ВЛКСМ считает, что тенденции в развитии так называемого “движения бардов” заслуживают внимания соответствующих государственных и общественных органов»[687].
С некоторым запозданием отреагировал председатель КГБ Андропов, направивший 9 сентября 1968 года в ЦК КПСС докладную записку (10 сентября ее заверил своей подписью заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК А. Н. Яковлев), которая называлась так: «Записка КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС о политически вредных и антиобщественных проявлениях среди отдельных научных работников Сибирского отделения АН СССР». Большая ее часть посвящена ситуации вокруг «клеветнического письма» по поводу «процесса четырех». Ну и, конечно, особое внимание уделяется бардовскому фестивалю: «Отрицательную роль в формировании общественных взглядов интеллигенции и молодежи Академгородка в последнее время играла деятельность клуба “Под интегралом”. Ввиду отсутствия должного контроля со стороны партийной и комсомольской организации клубом руководили политически сомнительные лица (Бурштейн, Яблонский, Рожнова, Гимпель и др.), которые устраивали встречи с такими лицами, как Копелев, Галич, пытались пригласить Якира, Кима.
Как уже сообщалось в ЦК КПСС, по инициативе бывшего руководителя клуба “Под интегралом” в Академгородке в апреле 1968 г.[688] проведен фестиваль самодеятельной песни с участием Галича, Бережкова, Иванова, в песнях которых содержалась клевета на советских людей и нашу действительность. У значительной части зрителей эти выступления вызвали нездоровый ажиотаж. <…>
Органы государственной безопасности оказывают помощь партийным и общественным организациям Новосибирской области в осуществлении мер, направленных на пресечение деятельности группы лиц, вставших на антиобщественный путь. Положительное воздействие на интеллигенцию оказали состоявшиеся обсуждения в коллективах лиц, подписавших так называемое “письмо сорока шести” в защиту Гинзбурга и Галанскова, а также опубликованная в местной прессе критическая статья по поводу выступления Галича»[689].
Наиболее активных московских участников фестиваля стали вызывать на допрос в Комитет партгосконтроля при ЦК КПСС, хотя никто из них в партии не состоял. В мае 1969 года туда вызвали Сергея Чеснокова как инициатора проведения фестиваля[690]: «…одна форменная садистка, вроде той, что в фильме Милоша Формана “Кто-то пролетел над гнездом кукушки” наслаждается властью над умалишенными, допрашивала меня в комиссии партконтроля при ЦК КПСС. Ее звали Галина Ивановна Петрова. <…> Так получилось, что 5 марта были демонстрации в Польше. А в Чехословакии кипела Пражская весна. <…> И эта злобная тетя с перекошенным ртом, дрожа от гнева, с разных сторон подступала ко мне с одним только вопросом: где тот вражеский теневой центр, по чьему заданию я работал?»[691]
Примерно тогда же пригласили на беседу барда и журналиста Арнольда Волынцева: «Придя в здание на Новой площади, я был удивлен осведомленностью следователя — женщины довольно пожилого возраста. Она знала все песни, звучавшие в Новосибирске, знала, что я открывал фестиваль своей песней-приветствием. Более того, на столе у нее лежали ксерокопии нескольких моих публикаций, в том числе статьи “Современные менестрели” из журнала “Soviet life”, издававшегося на английском языке для американских читателей. <…> Как мне стало ясно потом, следователь хотела выяснить что-то очень конкретное (не причастно ли, скажем, к организации фестиваля ЦРУ). А я отвечал бесхитростно, не думая о подтексте вопросов: “Авторскую песню очень люблю. В честности Галича не сомневаюсь. Вас послушать, так и Аркадий Райкин не нужен…”»[692]
Более подробно о своем вызове в Комитет партгосконтроля Волынцев рассказал на 30-летии Новосибирского фестиваля, проходившем в московском Театре песни «Перекресток» (15.03.1998): «Когда я уже прилетел, меня вызвали ни больше ни меньше как в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, хотя понятно, что я коммунистом не был. О, это был интересный разговор. Во-первых, следователь, которая вела все наше дело, Галина Петровна, знала все песни, которые звучали, хотя официально записи не делались. Во-вторых, у нее на столе лежала целая кипа моих статей, в основном про авторскую песню. И самая верхняя — лежала статья “Modern minstrels” из журнала “Soviet life”. И эта статья, как ни странно, наделала “большой шмон”. Как говорила Галина Петровна, “Пришли возмущенные письма из Америки: что у вас происходит? У вас по стране незалитованные песни ходят. Куда вы смотрите?” И кончилось тем, что два гражданина — работники фирмы “Columbia” — приехали в Москву и, потрясая этим журналом, пришли в фирму “Мелодия” и говорят: “Дайте нам или матрицы, или фонограммы, и мы выпустим в нашей фирме пластинку”. А надо сказать, что фирма “Columbia” была тогда фирмой номер один. “Columbia” первой выпустила долгоиграющую пластинку с музыкой Чайковского, первой выпустила долгоиграющие пластинки джаз-оркестра Дюкрейн. Но реакция была, естественно, обратной. Все ортодоксально настроенные музыканты и партийные деятели стали думать: “А почему это, интересно, выпускать Галича, Кима, когда можно выпустить песни Тихона Хренникова и других авторов?”
Но был, кстати, и юмористический момент: я в этой статье привожу “Фантастику-романтику” кимовскую: “Негаданно-нечаянно / Пришла пора дороги дальней. / Давай, дружок, отчаливай, / Канат отвязывай причальный”. Ее перевели на английский язык. Галина Петровна английский язык, естественно, не знала (у нее и с русским-то, прямо скажем, были большие сложности), ей перевели, и получилось: “Выходит так, что мне туда, и вам туда”, то есть Ким превратился в Галича [“Баллада о прибавочной стоимости”]. <…> А потом и других людей вызвали. И в результате всех этих бесед на стол Леониду Ильичу Брежневу легла докладная записка о том, какие плохие люди менестрели, а также журналисты, их пропагандирующие. Про меня-то просто было написано, что я психически неполноценный. И там Леонид Ильич поставил резолюцию: собрать секретариат. Секретариат был собран, и вот тогда-то все началось, а впрочем, может быть, и раньше».
Руководителей клуба «Под интегралом» стали поочередно вызывать в районное отделение КГБ: «Вас назавтра приглашают на Морской проспект, дом 1, комната 400», причем всякий раз предупреждали, что это «конфиденциальная беседа» и никому нельзя об этом говорить, но каждый вечер они, естественно, обменивались впечатлениями. Допрос вел интеллигентный по виду человек средних лет, который всегда начинал так: «Вы-то умные ребята, но вы понимаете, что вы запускаете некую идею на людей, которые не подготовлены к этой идее, а поэтому последствия неожиданны для вас и для нас» или «Вы умный человек, поэтому вы должны отделять провокационные ситуации от того, что, даже независимо от вашей воли, но не до конца продумано, приводит к некоторым событиям». В таком духе шел весь разговор, а в конце неизменно задавался вопрос: «Вот вы говорите, что много раз сидели дома у Бурштейна или в “Интеграле”, в вашем “кабинете министров”. Скажите, а кому первому пришла в голову мысль пригласить Александра Аркадьевича Галича?» Но никто, разумеется, не называл конкретной фамилии, и говорили, что это «коллективный разум», как у партии[693].
В итоге активисты клуба «Под интегралом» были обвинены в антисоветской деятельности: Анатолия Бурштейна лишили кафедры в университете, многим организаторам фестиваля пришлось искать другое место работы. Само существование клуба стало отныне невозможным, и его президент принял решение напоследок хлопнуть дверью: «Тогда-то я и решил: воскреснем еще раз. Не узкий круг посвященных, а весь городок должен знать: мы не подавлены, не деморализованы. Мы — не участвующие в этом времени, в безвременье. НЕУЧи мы. Мы закатим напоследок “Бал неучей” в Доме ученых и завяжем с политикой, но сами. Это случилось в ночь на Новый 1969 год»[694]. После этого бала клуб «Под интегралом» самозакрылся, а его основатели через некоторое время разъехались кто куда: Анатолий Бурштейн — в Израиль, Григорий Яблонский — в США, а Валерий Меньшиков перебрался в Москву.
Так или иначе пострадали все, кто способствовал пропаганде творчества Галича. Через несколько дней после окончания фестиваля директору Академгородковского телецентра объявили выговор за демонстрацию фильма «Бегущая по волнам». Директору Дома ученых В. И. Немировскому дали партийного «строгача», и вскоре на его место назначили бывшего полковника. В Академгородке тогда появился невеселый стишок: «Стали люди тверезы и немного грубы — вырубают березы, насаждают дубы»[695].
Ясное представление об изменениях в общественной атмосфере дает письмо сотрудников Новосибирского института геологии и геофизики СО АН СССР во главе с академиком Трофимуком в Московский секретариат Союза писателей на имя первого секретаря Правления К. А. Федина. Хотя на сохранившейся машинописной копии письма отсутствует дата, но по некоторым косвенным признакам можно предположить, что это вторая половина апреля 1968 года (после статьи Мейсака). Авторы письма стремились засвидетельствовать свою лояльность новому партийному курсу, единодушно осудив песни Галича и отмежевавшись от них: «Исполнение стихов-песен бардистами сплошь и рядом проводится с недвусмысленной акцентировкой. Одним из ярких в этом отношении примеров являются выступления одного из бардов, члена ССП А. А. Галича. Среди его стихов-песен есть определенно хорошие и исполняемые с большим мастерством. Но в целом его репертуар производит тягостное впечатление, и мы не можем примириться ни с содержанием “произведений” Галича, ни с манерой их исполнения. В песне “Памяти Пастернака” Галич во всеуслышание заявляет о том, что члены ССП, затравившие эту личность (а кто его травил-то, да и травили ли вообще?), и сволочи и подлецы, а Пастернак выставляется в роли “национального героя”. <…> Это — дешевое афиширование ретроспективных подвижников, набирающихся мужества махать кулаками намного после драки…
Вокруг имени Галича складывается легенда. Ею пытаются или имеют явное намерение объяснить или даже оправдать его мизантропическую и оппозиционную направленность. Однако можно ли оправдать “тяжкими страданиями во времена культа личности” то откровенное презрение, с которым он бросает в лицо народу набор эпитетов из тюремно-блатного лексикона? Тому самому народу, чей хлеб жрут он и ему подобные “мученики”! <…> Настало время развенчать “мучеников” от литературы и поэзии, снять с них терновый венец, ставший тепленькой ермолкой»[696].
Сложно сказать, было ли написано это письмо по указке соответствующих органов или авторы сами проявили инициативу, но стоит обратить внимание на специфическую лексику: например, «жрут хлеб» и особенно — «терновый венец, ставший тепленькой ермолкой», где явственно слышатся антисемитские нотки, поскольку ермолка традиционно ассоциируется с еврейским головным убором (кипой).
Примерно в это же время, 29 апреля 1968 года, секретарь Новосибирского обкома КПСС по идеологической работе Михаил Алферов направил машинописное письмо секретарю правления Союза писателей СССР Георгию Маркову: «В порядке информации направляем номер газеты “Вечерний Новосибирск” со статьей “Песня — это оружие”, о выступлении бардов в Новосибирске».
Поперек этого письма 7 мая секретарь правления СП Константин Воронков начертал следующую резолюцию, адресованную генералу КГБ Виктору Ильину, который по совместительству был оргсекретарем Московского отделения СП: «Прошу доложить секретариату правления Московской писательской организации. Ваше решение обязательно сообщите т-щу Алферову и Правлению СП СССР»[697].
Старания этих людей не прошли даром. Их письма были внимательно изучены адресатами, которые и решили провести разъяснительную беседу с главным виновником событий. В результате 20 мая в правлении Московского отделения СП СССР состоялось заседание, на котором разбирался целый ряд вопросов: от выдвижения работ на Госпремии РСФСР 1968 года до персональных дел, первым из которых в повестке дня стояло дело Александра Галича.
Заседание вел главный специалист по гимнам и автор «Дяди Степы» Сергей Михалков. В обсуждении также приняли участие: генерал КГБ Виктор Ильин, прозаики Лев Кассиль, Борис Галин и Илья Вергасов, критик Михаил Алексеев, парторг Московского горкома КПСС Виктор Тельпугов, драматург Виктор Розов и поэт (а к тому времени — уже главным образом чиновник) Сергей Наровчатов.
В самом начале заседания Галич зачитал оправдательное письмо, адресованное им секретариату правления Московской писательской организации. Смысл его сводился к тому, что никакой он не антисоветчик, а вполне «наш, советский» писатель; что его правильный моральный облик исказили автор статьи «Песня — это оружие» и пятеро сотрудников института геологии и геофизики СО АН СССР Новосибирска, написавшие коллективное письмо в Союз писателей…
Понимая, что его будут упрекать в том числе за публичное исполнение своих песен, Галич попытался предупредить эти обвинения: «Я не принимал многочисленных ежедневных предложений выступать в разных институтских клубах и аудиториях — и не потому, что я считаю свои песни какими-нибудь “крамольными”, а потому, что, во-первых, я не артист, не исполнитель, а во-вторых, работаю в очень сложном и спорном жанре публицистической сатиры, где малейшая неточность восприятия или ошибка в исполнении могут привести к искажению всего произведения в целом. В Академгородок Новосибирска я был приглашен с ведома комсомольских и партийных организаций (Советский РК ВЛКСМ и КПСС), приглашен на давно подготовляемый “праздник песни” <…>. Но и здесь я сразу же поставил условием, что выступлю только на закрытом концерте в Доме ученых и не буду принимать участие в концертах на открытых площадках. Правда, по просьбе Новосибирского обкома КПСС я выступил еще и на общем заключительном вечере все в том же Доме ученых. Очевидно, это было моей ошибкой»[698].
Заканчивая свое письмо, Галич вновь протянул руку коллегам из СП: «Я прошу поверить, что в своей литературной работе — и в кино, и в театре, и в песне — я всегда руководствовался единственным стремлением — быть полезным нашей советской литературе, нашему советскому обществу»[699].
Теперь вкратце о самом заседании секретариата.
В целом выступавшие говорили одинаковые вещи: мол, надо отделять песни, исполняемые в узком кругу, от песен, которые выносятся на широкую аудиторию. Причем в этом сходились абсолютно все — от генерала КГБ Ильина до поэта Наровчатова, который, по его собственному признанию, вообще не слышал песен Галича, но зато прочитал статью Мейсака…
Последним выступал Сергей Михалков. Помимо традиционных слов о том, что Галич потерял политический такт, не чувствует зрительскую аудиторию и т. п., было сказано и нечто, заслуживающее особого внимания: «На такие вещи мы должны реагировать. Если бы вы сидели на этом месте, вы бы тоже реагировали и сказали: “Как ни неприятно, тов. Михалков, но мы должны разобраться, почему вы вышли в полупьяном виде на эстраду и допустили такую басню — о советской власти или еще о чем-то”. Есть поэзия застольная, есть подпольная. <…> Я бы еще посмотрел, кто сидит за столом, и не спел бы, потому что соберут ваши песни, издадут, дадут предисловие, и вам будет так нехорошо, что вы схватите четвертый инфаркт. <…> И потом вы будете объяснять: “Я не думал, что так получится”. Поэтому от имени Секретариата, относясь к вам с уважением, любя вас как хорошего писателя, мы должны вас строго предупредить, чтобы вы себе дали зарок. Не портите себе биографию. Вы не знаете, кто сидит в зале, — не ублажайте вы всякую сволочь»[700].
До чего же тертый партийный калач этот Михалков! Ведь все произошло именно так, как он предсказал! Уже через год за рубежом вышел первый поэтический сборник Галича с «антисоветским» послесловием, а через три года состоялось его исключение из Союза писателей и очередной инфаркт… Единственное, в чем Михалков ошибся, — это когда посоветовал Галичу не портить себе биографию. С точки зрения советского обывателя и номенклатурного работника, Галич, конечно же, «испортил» свою биографию. Но есть и другая точка зрения — что Галич как раз спас свою биографию, разойдясь с этой камарильей и став свободным человеком.
А тогда, в мае 68-го, обсуждение завершилось вопросом Льва Кассиля: «Надо принять какое-то решение?» и репликой Сергея Михалкова: «Я думаю, мы примем решение — предупредить А. А. Галича, чтобы впредь этого не повторилось. Нет возражений?»[701] Возражений не последовало, и решение было принято единогласно. После этого Галич выступил с заключительным словом — снова на тему «я не плохой, я хороший, я буду приносить пользу, только не бейте меня»: «Я принимаю все высказывания товарищей и рассматриваю их как высказывания дружеские. Иначе я рассматривать не могу. Но, как ни странно, я хочу сказать о другом. И уже обращался по этому поводу. Получилось так, что я в течение целого ряда лет несу большую общественную работу по Союзу кинематографистов, но я вне общественной жизни Союза писателей. Скажем, мне известно, что бывает целый ряд поездок наших писателей по стране, поездок редакционных, консультационных. Это дело, которым я очень люблю заниматься. Например, будет поездка в Азербайджан. Я жил там, я знаю эту республику. Я прошу учесть Секретариат мою просьбу и желание этим заниматься. Вроде я умею это делать. Я даже занимался Луговским, который посвятил в связи с этим мне свою поэму “Дербент”»[702].
Весь этот спектакль завершился в тот же день закрытым заседанием, на котором под председательством Михалкова было вынесено решение: «строго предупредить тов. Галича А. А. и обязать его более требовательно подходить к отбору произведений, намечаемых им для публичных исполнений, имея в виду их художественную и идейно-политическую направленность»[703].