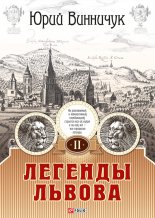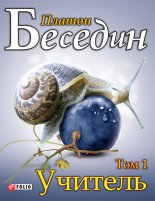Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
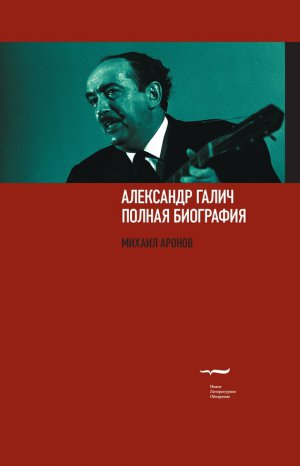
Надо сказать, что ситуация с оправдательным письмом, которое Галич зачитал на этом заседании, почти буквально повторяет сюжет его песни «Красный треугольник»: «И на жалость я их брал и испытывал, / И бумажку, что я псих, им зачитывал». И так же, как в этой песне, все окончилось благополучно: «Ну, поздравили меня с воскресением, / Залепили строгача с занесением!», то есть строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело…
В постановлении секретариата нет ни слова о запрете публичных концертов, хотя подразумевалось именно это: «После того как в 68-м году мне было запрещено выступать публично — в Советском Союзе, кстати, нет такой формулы “запрещено”, — мне было НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. Меня вызвали в соответствующие инстанции и сказали: “Не стоит. Мы не рекомендуем”. Я продолжал выступать в разных квартирах у моих друзей, иногда даже у совсем незнакомых людей. Кто-нибудь из друзей меня туда звал, и я выступал» (фонограмма 1974 года). Московский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Хедрик Смит приводит другие подробности этой беседы: «В общем никто не запрещал мне, — улыбнулся он. — Вы же знаете их лицемерие: “Мы не рекомендуем. У вас плохое сердце. Не стоит перенапрягаться…”»[704]
Вместе с тем эти же люди в частном порядке говорили Галичу: «Ну, Саша, ты же понимаешь, ты же сам все понимаешь…»[705]
Поскольку Галич зачитал на заседании оправдательное письмо и вел себя в высшей степени лояльно, то члены секретариата решили ограничиться предупреждением. Тем более что на фоне «процесса четырех», «письма сорока шести» и событий Пражской весны выступление Галича в Новосибирске уже не выглядело чрезмерной крамолой.
Результатом всех этих событий явилась записка Комитета партийного контроля от 16 июля 1969 года: «В секретариате правления Московской писательской организации была попытка обсудить недостойное поведение Галича во время гастролей в Новосибирске, но, к сожалению, она свелась лишь к указанию ему на отсутствие должной требовательности и политического такта при выборе песенного репертуара для публичных выступлений…»[706]
Вместе с тем для «профилактической беседы» Галича вызвали и в КГБ. Краткая информация об этой беседе содержится в воспоминаниях Геннадия Шиманова, который описывает свое заключение в психбольнице имени Кащенко в 1969 году за религиозную пропаганду. Для нас здесь представляет интерес один из разговоров Шиманова с заведующим четвертым отделением больницы, где тот ему говорит: «Знаете, может быть, такого режиссера — Галича? — Слышал. — Так вот у этого Галича есть хобби: он сочиняет песенки и поет их под гитару… Ну, вызывают его, естественно, в КГБ… вежливо так, деликатно… Чашечку чая предлагают… и, помешивая чай ложечкой, говорят: “Товарищ Галич, мы слышали ваши песенки… И знаете? — ничего против них не имеем… Пойте их, как и прежде… если уж вам так хочется петь. Но только одна просьба: не надо их записывать на магнитофон… а то могут быть всякие неприятности”. И что бы вы думали? Поет по-прежнему Галич! Но только, когда приходит к знакомым и собирается петь, предупреждает: “Выключите, пожалуйста, магнитофон… ну его к лешему… Выключите, а то не буду петь…”»[707]
Однако эти слова справедливы лишь отчасти, поскольку после 1968 года Галич многократно записывался на магнитофон — другое дело, что теперь он нередко ставит перед слушателями условия по поводу распространения своих песен. Что же касается официальных концертов, то Галич отказался от них, сдержав слово, данное им на заседании секретариата Московского отделения СП. А рядом с подъездом Галича появляется круглосуточное наблюдение в виде черной кагэбэшной «Волги», и его телефон поставлен на прослушку. В качестве доказательства приведем лишь один пример из воспоминаний Бенедикта Сарнова. Однажды у него состоялась двухчасовая беседа с сотрудником КГБ (разумеется, по инициативе последнего), и в своих вопросах и монологах этот сотрудник постоянно упоминал жену Галича Ангелину, причем неизменно называл ее Нюшей. «Пересказывая тот наш разговор друзьям, я это отметил — конечно, слегка издевательски: “Какая, мол, она ему Нюша! Тоже нашел себе подругу!” Друзья посмеивались, но один, как вы сейчас увидите, самый умный из нас, не смеялся, а довольно зло сказал:
— Ну? Теперь вы наконец убедились, что я был прав? Сколько раз я вам говорил, что всё, что ИМ про нас известно, ОНИ узнают из наших телефонных разговоров!»[708]
Успех Галича на фестивале бардов вызвал у многих зависть. Сразу стали появляться злорадные комментарии, вроде того, который привела в своих записных книжках литературовед Лидия Гинзбург: «Рассказывал кто-то о нашумевшем выступлении Галича, кажется, в Новосибирске, и N сразу сказал: “Да, да, он там в далеких местах сразу распустился. Зато его здорово и стукнули…” Он сказал это с удовольствием и со вкусом»[709].
А как же сам Галич отреагировал на статью Мейсака? Когда появилась эта статья, кто-то из доброжелателей прочитал Галичу по телефону самые сильные места. Галич помертвел, а в это время вошла в комнату его жена и спросила: «Что с тобою? С кем это ты?» Александр Аркадьевич с усилием выдавил из себя: «Ничего, Нюш, кто-то ошибся номером»[710]. Но от жены, конечно, скрыть это не удалось.
Вскоре Галич поехал в Ленинград. Писательница Юлия Иванова привела его в гости к некоему коллекционеру по имени Глеб, у которого имелась полная фонотека магнитофонных записей Галича. Тот попросил спеть что-нибудь новое. Галич согласился, но при этом строго-настрого велел Ивановой ничего не рассказывать Ангелине Николаевне. Она пообещала, хотя и не поняла, почему должна соблюдать запрет. А потом зашла речь о статье «Песня — это оружие», которая была у Галича с собой: «Александр Аркадьевич бодрился, читал нам ее вслух, похохатывая, разливал коньяк, на щеках пятнами загорался румянец. А ночью ему опять вызывали неотложку. По приезде в Москву время от времени проходил слух о его аресте, тучи сгущались»[711].
Почему Галич просил не говорить своей жене о записи новых песен, понять легко: Ангелина опасалась, что ее мужа могут посадить. Однако за два года до этого она сама фактически организовала первое публичное исполнение Галичем в ЦДЛ только что написанной песни «Памяти Пастернака»! Вскоре она поймет, к чему это может привести, и уже сама будет отговаривать его не то что петь свои песни публично, но и даже записывать их на магнитофон. В этом отношении показательны воспоминания коллекционера Михаила Баранова, относящиеся к 5 декабря 1968 года[712]: «Я ему по телефону что-то наговорил: что я из Карелии, что мы там его песни очень любим, что я ему привез коллекцию значков, которые мы сами делали…
Он сказал:
— Конечно, заходи…
— Можно я приеду с магнитофоном, чтобы потом песни ваши послушать?
— Да! Конечно.
Я приехал на улицу Черняховского, мы прошли в его комнату. Он был в черной рубашке, под ней тельняшка <…> И Галич напел мне пять или шесть новых тогда песен. Я его фотографировал, он не торопил меня, все делал с удовольствием, — в общем, было очень хорошо. Я вышел такой потрясенный — у меня такие записи, каких ни у кого нет… Но когда собирался уходить (Галич в это время вышел куда-то), в прихожую выскочила его супруга Ангелина Николаевна. Она буквально на мне повисла:
— Я не знаю, как вас зовут, но я вас умоляю: сотрите все это, никому не показывайте. Его же посадят, он этого не понимает… Его же посадят!
Он появился, увел ее куда-то в комнату и сказал:
— Вы знаете, давайте сделаем так: вы пока никому переписывать не давайте. Послушать можно, но переписывать не давайте, а я вам скажу, когда можно будет распространить…»[713]
Эмоциональное состояние Галича в тот период ярко характеризует его телефонный разговор со сценаристом Яковом Костюковским: «Саша, я тебе не помешал? Ты работаешь?» — «Нет, сегодня мне работать нечем. С утра вызвало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простирнул и повесил сушиться…» — «Это что — после первого выступления в Академгородке? Или у нас в клубе?»[714] — «А черт его знает!» — «Ладно, успокойся. Я заметил, после таких встрясок ты пишешь свои лучшие вечные песни». — «Вечных песен у меня нет. Плохие гибнут от безвестности. Хорошие — от слишком частого употребления»[715].
Однако Костюковский оказался прав: именно после Новосибирска и участившихся «проработок» в различных инстанциях в творчестве Галича начался новый этап: его песни становятся еще более жесткими и бескомпромиссными, в чем мы вскоре убедимся. Но вот что интересно: Галич, который в своих песнях буквально лез на рожон, в реальной жизни вовсе не хотел ссориться с властями и даже предпринял попытку помириться с ними в лице председателя КГБ[716]. Об этой, к счастью неудавшейся, попытке рассказал Юрий Кукин: «Он меня почему-то сразу полюбил, приезжал ко мне домой. Ну, выпивали, конечно. Однажды он приехал в Ленинград читать лекции для сценаристов и заехал ко мне в Петергоф. Слушай, говорит, тут к вам в Петергоф приезжает председатель КГБ. Давай устроим ему встречу в парке, как полагается. Скажем, что мы хорошие барды и полностью за советскую власть! У самых ворот в парке стояли люди в сером, а подальше было свободно. Мы сели на землю, расставили бутылки шампанского и ждем. Подходят менты, справляются, чего нам тут надо. Посадили в “бобик” и увезли. Галич разобиделся, перья распустил: “Вы кого трогаете? Я член Союза писателей и кинематографистов! Я в партком буду жаловаться!” Отпустили нас, но пожурили: “Что же вы, уважаемые, солидные такие люди, а ведете себя, будто вам 11 лет?” В общем, любил Галич повалять дурака»[717].
Эту черту его характера отмечала и Ксения Маринина: «Когда мы с ним общались, то впечатление было, что это абсолютно доброжелательный и бесконфликтный человек. Во всяком случае, у меня было такое ощущение всегда, и у людей, которых я знала, было тоже. Вот его как человека, идущего на конфликт, воспринимать было нельзя. Он был доброжелателен и открыт»[718].
Федор Шаляпин
Летом 1968 года Галич с женой жил в гостинице в подмосковной Дубне, где вместе с режиссером Марком Донским работал над сценарием к фильму «Федор Шаляпин» (другое название — «Шаляпин и Горький»), который им заказала Киностудия имени Горького. Картина задумывалась как заключительная часть музыкального триптиха. Первая часть, посвященная Чайковскому, так и не вышла на экраны. Второй фильм — «Третья молодость» — о балетмейстере Мариусе Петипа увидел свет в 1965 году, и вот теперь — сценарий о Шаляпине.
Незадолго до начала работы с Галичем Донской, который был художественным руководителем Первого творческого объединения Студии Горького, совместно с главным редактором этого объединения Артемом Анфиногеновым и редактором Любовью Кабо, высоко оценил сценарий Галича «Бегущая по волнам», когда его еще только предстояло утвердить. 9 февраля 1966 года они направили этот сценарий на утверждение главному редактору Сценарно-редакционной коллегии Главного управления художественной кинематографии Е. Д. Суркову и приложили к нему письмо: «Александр Галич смело фантазирует на тему о том “как написал бы Грин СЕЙЧАС свою “Бегущую по волнам”. Поэтому такую остроту, такую остроту, такую социальную заостренность — в связи с прямыми требованиями современности — приобретает у него обычная для Грина АНТИМЕЩАНСКАЯ тема. Галич показывает мертвящую, разъедающую человеческую душу власть частнособственнических настроений и представления о жизни, противопоставляет им романтическую настроенность, внутреннюю свободу, активное стремление к ней таких персонажей, как Гарвей и Дэзи. Очень интересен и противоречив стал в сценарии образ капитана “Бегущей по волнам” Геза, жертвы своей доверчивости и полной неприспособленности к тому миру, в котором он находится. Намного интереснее, чем в романе Грина, стала борьба, которая ведется в сказочном городе Гель-Гью вокруг памятника “Бегущей по волнам”, — активно борются два эстетических идеала, два диаметрально противоположных представления о жизни. Удивительное впечатление производят песни Галича, органически включенные в текст, тонкие, лиричные, выразительные. Они создают атмосферу романтической приподнятости, недоговоренности, недосказанности, такую обычную для произведений Грина, сценарий полон неподдельного уважения к людям труда, духовно независимым, верным своей мечте, надежным в любви и дружбе. Сценарий талантлив, написан великолепным языком, динамичен, профессионален в высоком значении этого слова»[719].
Отмечались и некоторые недостатки сценария, но Сценарно-редакционная коллегия выразила мнение, что они «могут быть устранены в процессе работы над режиссерским сценарием, — поскольку автор сценария Александр Галич и режиссер Павел Любимов восприняли критику горячо и творчески»[720]. И завершалось письмо М. Донского, А. Анфиногенова и Л. Кабо просьбой включить сценарий в план 1966 года вместо советско-японского фильма «Спасибо».
В свете такого отзыва закономерно, что для сценария о Шаляпине Донской взял себе в соавторы именно Галича, который уже зарекомендовал себя как опытный драматург. Вспомним также, что в 1946 году Галич читал Донскому только что законченную пьесу «Матросская тишина», а кроме того, по свидетельству Алены Архангельской, он очень любил фильм-трилогию Донского о Горьком[721].
15 мая 1967 года на Студии Горького была завершена преддоговорная работа по сценарию «Горький и Шаляпин»[722], а 23 июня председатель Госкино А. Романов разрешил директору Студии Горького Г. Бритикову заключить договор на сценарий двухсерийного фильма «Горький и Шаляпин» с Галичем и Донским «по первой серии в сумме 8 тысяч рублей и по второй в соответствии с законодательством»[723].
Через год в журнале «Советский экран» появилось обширное интервью Донского, где он рассказал о концепции фильма. Из него мы узнаем, что Горький был «совестью великого артиста, он всегда на протяжении долгих лет дружбы жестоко и беспощадно осуждал ошибки и заблуждения Шаляпина, зато и его победам радовался, как своим собственным»[724]. Под ошибками и заблуждениями понималась, конечно же, эмиграция Шаляпина. Соответственно и фильм должен был заканчиваться тем, что «страна прощает своего блудного сына; страна понимает трагизм шаляпинских ошибок, понимает, что сердцем своим Шаляпин был на Родине». Также Донской сообщил, что они с Галичем завершают работу над сценарием — во избежание растянутости фильма было решено ограничиться двумя сериями: «Слава и жизнь» и «Блудный сын».
Одна из важных проблем состояла в поиске достойного кандидата на главную роль. Голос самого Шаляпина уже имелся в распоряжении сценаристов: сын певца, Федор Федорович, прислал им в подарок из Нью-Йорка «изумительные по чистоте записи никем не повторимых оперных и концертных шедевров артиста». И теперь требовалось найти актера, который смог бы глубоко и достоверно сыграть Шаляпина с юного возраста и до конца жизни. Донской выразил надежду, что если им удастся найти такого артиста, то в этом же году можно будет приступить к съемкам фильма.
Однако мечты Донского не оправдались — работа над сценарием растянулась еще на несколько лет, так как чиновникам из Госкино не нравилось относительно лояльное отношение сценаристов к русской эмиграции…
Чехословакия
Относительно спокойное пребывание Галича в Дубне было прервано событием чрезвычайной важности, которое заставило многих людей коренным образом пересмотреть свое отношение к советской системе. В ночь на 21 августа войска пяти стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом вторглись в Прагу, чтобы подавить возникшие в Чехословакии робкие попытки демократизации социалистического общества.
Было такое чувство, что надо против этого безобразия как-то протестовать — ну, например, выйти на площадь и устроить молчаливую демонстрацию. Свои чувства по этому поводу Галич выразил в песне, которую назвал «Петербургский романс». Формально здесь говорится о восстании декабристов 14 декабря 1825 года, но фактически о современности: «Мальчишки были безусы — / Прапоры и корнеты, / Мальчишки были безумны, / К чему им мои советы?! / Лечиться бы им, лечиться, / На кислые ездить воды — / Они ж по ночам: “Отчизна! / Тираны! Заря свободы!” / Полковник я, а не прапор, / Я в битвах сражался стойко, / И весь их щенячий табор / Мне мнился игрой, и только. / И я восклицал: “Тираны!”, /И я прославлял свободу, / Под пламенные тирады / Мы пили вино, как воду. / И в то роковое утро — / Отнюдь не угрозой чести! — / Казалось куда как мудро / Себя объявить в отъезде. <…> И всё так же, не проще, / Век наш пробует нас: / Можешь выйти на площадь? / Смеешь выйти на площадь / В тот назначенный час?! / Где стоят по квадрату / В ожиданье полки — / От Синода к Сенату, / Как четыре строки».
Во всех поэтических сборниках Галича под этой песней стоит дата: 23 августа 1968 года. Безусловно, она имеет под собой основания, поскольку опирается на авторские комментарии, но вот что странно: на пяти из четырнадцати известных нам фонограмм автор называет 23 августа, а на одной — 22-е, то есть неясно, была ли написана песня на следующий день после советского вторжения или через день. Единственная фонограмма, содержащая упоминание 22 августа, была сделана в июне 1974 года на даче Пастернаков в Переделкине: «Мы жили в Дубне, когда начались все события августовские 68-го года. И ровно 22-го числа я написал песню под названием “Петербургский романс”. Там был Копелев Лев Зиновьевич. Он в этот день уезжал как раз уже из Дубны. Я ему подарил эту песню — он попросил, чтоб я ему записал ее текст, — и он ее увез. И вечером, уже 24-го числа, он ее прочел на кухне своим многочисленным детям, внукам, зятьям, золовкам… И вот один из его зятьев Павлик Литвинов, странно и хмуро усмехнувшись, сказал: “Актуальная песня!” Это было 24 августа. 25 августа произошло некое событие на площади».
Непосредственная участница событий Раиса Орлова, по приглашению Галича приехавшая в Дубну вместе со своим мужем Львом Копелевым и поселившаяся по соседству в той же гостинице, говорит, что он писал «Петербургский романс» весь август и читал им куски из еще не написанной песни, а «в те дни, сразу же после вторжения, был закончен рефрен» — о выходе на площадь[725]. Кстати, если верить Орловой, то отношения Галича и Донского уже тогда были «на ножах»: «Донской настойчиво навязывает нам монографии об его творчестве, изданные во Франции, в Италии. Он завидует Саше и возмущается им. Саша его ненавидит. Как можно при этом работать вместе — непостижимо»[726].
Вот как Орлова описывает момент, когда она узнала о советском вторжении: «Утром 21 августа Лева неистово барабанит в дверь ванной: “Скорее выходи! Танки в Праге”.
Мы втроем с Сашей пошли в лес. Что же будет дальше? Что с нами со всеми теперь сделают? В тот момент почти не было сомнений — только массовый террор»[727]. Через несколько дней Галич вручил им текст «Петербургского романса». Орлова продолжает: «24 августа, перед нашим отъездом в Москву, он подарил нам эту песню, надписал. Вечером к нам домой пришли дочь Майя с мужем Павлом Литвиновым, Лева прочитал им…»[728] По словам Литвинова, «Галич подарил слова этой песни Копелеву и Орловой, они отвезли ее в Москву, и в тот же вечер, накануне демонстрации, я услышал ее слова. Песня была не побудительным толчком, а аккомпанементом»[729], то есть к тому времени решение о выходе на площадь уже было принято. И лишь несколько лет спустя, вернувшись из ссылки, Литвинов собрал у себя дома всех участников той демонстрации и пригласил Галича, который спел для них «Петербургский романс»[730].
После Чехословакии
Вскоре после советского вторжения в Чехословакию Галич в разговоре с Валерием Лебедевым произнес такие слова: «Что ж, империя достигла, думаю, предела своих возможностей. Это пик. Лет через двадцать начнется распад»[731].
Точность прогноза поразительна, поскольку именно с конца 1980-х годов в Советском Союзе начались стремительные и неуправляемые процессы распада.
После августовских событий Галич с некоторыми перерывами продолжал находиться в Дубне, а в сентябре поехал в Минск, где по договору с «Беларусьфильмом» проводил семинар кинематографистов. Заодно заключил договор на сценарий комедии «Пестрый чемоданчик». Минчанин Валерий Лебедев, ныне проживающий в Канаде, подобрал Галичу книги по истории города, и вскоре они там встретились: «Месяц общения в Минске, песни, разговоры, разговоры. Потом встречи в Москве, потом снова в Минске. Там поездки с Александром Аркадьевичем на моем мотоцикле “Ява”. Нужно было видеть эту картину: огромный Александр Аркадьевич в шлеме, который торчал на макушке его большой головы. “Бронтозавр на ящерице”, — шутил он. Это были его первые в жизни выезды на мотоцикле, которые его не только не пугали, а веселили и бодрили»[732].
На этом мотоцикле они приехали в лес (подальше от посторонних глаз) и начали обсуждать слухи о готовящемся увольнении главного редактора «Нового мира» Твардовского. Галич спрашивал Лебедева: «Ну что им стоит уволить и вообще закрыть журнал?» А тот говорил, что власти никогда на это не пойдут, поскольку, если уволят Твардовского, интеллигенция взбунтуется и начнутся массовые отказы от подписки. Галич на это грустно улыбался: «Пойдут, Валера, они на все могут пойти»[733]. Так и случилось: в 1970 году Твардовский был освобожден от поста главного редактора журнала, а реакция подписчиков оказалась близкой к нулю…
Вскоре на том же мотоцикле они поехали на Минское море и там, прогуливаясь по берегу, толковали о разных делах. После чехословацких событий Галич сильно нервничал и даже говорил Лебедеву, что не понимает, почему власти до сих пор не устроили ему «автокатастрофу». Тот его успокаивал, убеждая, что, мол, властям это невыгодно — будет большой скандал. И в итоге убедил Галича: «Ну раз так все хорошо складывается, Валера, то не вернуться ли нам домой и пообедать?» — «Именно, Александр Аркадьевич. Но прежде, перед обедом — выпить и закусить»[734].
А со сценарием «Пестрый чемоданчик» так ничего и не вышло. Вероятно, на «Беларусьфильме» перестраховались и решили дать задний ход, поскольку молва о Новосибирском фестивале уже распространилась по всей стране: например, на одном из кинематографических семинаров в Репине под Ленинградом заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Шауро заявил, что в Академгородке Галич выступил с «возмутительным антисоветским репертуаром» и в Репине он теперь вряд ли появится[735]. Однако Шауро ошибся, поскольку в 1971 году Галич ездил в Репино и пел там, о чем свидетельствует композитор Александр Журбин, сумевший попасть на этот концерт благодаря своему коллеге Владимиру Фрумкину[736].
Барды
Было бы непростительной ошибкой пройти мимо такого интересного и важного вопроса, как взаимоотношения Александра Галича с его коллегами по «бардовскому цеху». Песни Галича настолько сильно отличались от репертуара других бардов, что те его часто критиковали. Еще на слете в Петушках молодой бард Борис Рысев раскритиковал песни Галича на предмет «отсутствия» в них музыки, а тот в свою очередь рассказал ему историю о балете, в котором поют. Через год они встретились на Новосибирском фестивале. После одного из ночных концертов Галич, припомнив тот случай, подошел к Рысеву и сказал: «Вы сегодня единственный, кто пел». После этого Галич в буфете запивал водку кефиром, а находившийся рядом Владимир Бережков похлопывал его по плечу и говорил: «Саша, ну что Вы, Саша…»[737]
Во время того же фестиваля на одной из домашних посиделок произошел еще один забавный случай. Александр Дольский решил «поучить» Галича. Так прямо и заявил: «Александр Аркадьевич! Ты неправильно пишешь песни!»[738]
Через 19 лет Дольский честно рассказал о своем первом впечатлении от его серьезных песен: «Я до этого Галича слышал в записях: “Автоматное столетие”, “Парамонова” и так далее — песни с юмором, ироничные, сатирические. А песен трагического плана — “Памяти Пастернака”, “Караганда”, “Ошибка” — я не слышал. И когда я их первый раз услышал, я не сразу их воспринял так, как я, скажем, сейчас их воспринимаю. Вот это очень интересный момент. Я на себе испытал феномен восприятия творчества Галича — как его народ воспринимает. Мне это показалось слишком. Я даже как-то не согласен с ним был — потом я об этом ему говорил.
То есть мы настолько были отуплены всей этой нашей учебой, нашей пропагандой, мы так мало знали и так мало понимали, что воспринять мне это было трудно. Эта информация у меня была после XXII съезда практически вторая — такого плана. <…> В глубине души я чувствовал и понимал мощь и силу этого искусства, но социальную суть я не сразу воспринял. Мне нужно было еще потыкаться носом в этих чиновников, в этих сволочей, которые сидели на местах, узурпировали власть, издевались над народом. Мне нужно было самому походить, чтоб меня попинали, чтоб мне поговорили всякие плохие слова, чтоб меня пообманывали. Вот тогда я все понял»[739].
На Новый 1970 год Галич прилетел в Свердловск, чтобы доработать несколько своих сценариев, на которые у него был заключен договор с местной киностудией. На аэродроме его встретил Дольский. Взяли такси за рубль пятьдесят и поехали к Дольскому домой. По дороге разговорились: «Он был очень красивый — Галич. Как город. А я уже “Солнцедару” даванул. И все про Высоцкого спрашиваю. А он, конечно, ничего про него не знает, но из вежливости все рассказывает. Благородный был человек. Так я про Высоцкого все и узнал. А так бы ни в жизнь. А Галич спрашивает: “А гнет тут чудовищный?” — “Да нет, — говорю, — так себе. Гнет как гнет. И выпить продается. ‘Арманьяк’, вон, 4-12. 0,75. Югославский”. Он понял. А то у меня денег-то не было. <…> У Галича было очень много денег. Потому что он написал “Вас вызывает Таймыр”. Этот “Таймыр” во всех театрах шел. Во всех! Галичу не надо было даже Сталинской премии! Такой он был богатый. Он эту премию Шатрову подарил. Ну, в общем, дает мне 25 рублей, купите, мол, Саша, чего-нибудь. Я покупаю за 3-62, а сдача у меня остается. А Галич как бы не замечает. Благородный был человек. Дней через семь у меня уже был миллион»[740].
Насчет Сталинской премии за «Таймыр» — это что-то новенькое. Печатных подтверждений этому найти не удалось. Есть, правда, упоминание Госпремии в разгромной статье 1968 года «Нужны четкие идейные позиции», где цитируется письмо кандидата биологических наук С. Малецкого: «В своем очень объемном письме в редакцию он всячески превозносит его как талантливого драматурга, киносценариста, лауреата Государственной премии…», и высказывание Юрия Кукина, где он приводит ответ Галича третьему секретарю обкома Новосибирска во время фестиваля бардов: «Не буду объяснять Вам, что я автор сценариев двенадцати фильмов, за которые получил Госпремии…»[741] Если такая фраза действительно была сказана, то Галич здесь явно преувеличил, поскольку такого количества премий у него никогда не было. Имеется достоверная информация лишь о двух наградах: Большая премия «Хрустальный глобус» на VIII Международном кинофестивале в Карловых Варах за фильм «Верные друзья» и грамота КГБ за «Государственного преступника». Кроме того, если бы Галич получил Сталинскую премию за «Таймыр», то никто из критиков не осмелился бы эту пьесу ругать, так как премия стала бы для автора своего рода «охранной грамотой».
Что же касается помощи драматургу Михаилу Шатрову, то, по свидетельству Алены Архангельской, Галич ее действительно оказал, но отнюдь не деньгами: «Помню, был период, когда драматург Михаил Шатров находился в простое. Папа ему сказал: “Есть замечательная тема — декабристы, народовольцы и большевики. Не моя, ты напишешь лучше”»[742].
Заметим также, что о Высоцком Галич знал не понаслышке, так как был с ним давно знаком, о чем сам же Дольский и рассказал на вышеупомянутом вечере памяти Галича в Ленинграде: «Когда однажды я встречал его в свердловском аэропорту Кольцово и мы потом ехали в Свердловск, он мне рассказывал о Высоцком. <…> Он с большим уважением о нем говорил и даже с большой теплотой. Из этого я сделал вывод, что они знакомы очень хорошо».
И еще один штрих, упомянутый Дольским: «Я помню, как Галич воскликнул: “Саша, я был молод и сказочно богат!” Но он все время думал о том, что происходит вокруг, и постепенно нащупал в себе то, что позволило в итоге сказать: “Я выбираю свободу”. Он признался, что пришел в восторг, когда это получилось, и решил — это важней материального благополучия. А потом, увидев, какой успех имеют у людей его песни, — как актер я его отлично понимаю! — пошел по этому пути»[743].
Днем в Свердловске Галич выполнял сценарную «поденщину», а вечерами пел песни. Евгений Горонков подробно описал этот визит Галича: «Дольский “угощал” Галичем всех своих знакомых. Однажды небольшой такой вечер состоялся у меня на квартире. Тогда же Александр Галич и расписался на моей гитаре, на которой он тогда играл. <…> Ничего такого, чтобы он там комплексовал. Какой там! Он держался очень уверенно, выглядел прекрасно, его еще тогда ниоткуда не исключали. По-видимому, заказов у него было много, судя по тому, как элегантно он был одет… У него тогда было, наверное, единственное в Свердловске, пальто демисезонное из искусственной цигейки, покроя “реглан”, что по тем временам было ну верхом элегантности! И держался он как барин, как преуспевающий человек. Разговаривал всегда с юмором, был тон человека уверенного в себе, знающего себе цену и обласканного всенародной любовью. Да, никаких следов, что кто-то где-то делает ему плохо и так далее. Это было позднее, спустя несколько лет»[744].
(На самом деле все тогда уже было, просто Галич умел скрывать свои проблемы и создавать у других иллюзию своего благополучия. Например, когда режиссер Ксения Маринина, видя, что у него что-то не так, говорила: «Саша, ты чего задумался-то? Чего, опять себя критикуешь, что ли?», то получала ответ: «Ну, так я тебе и сказал!» И вообще, по свидетельству Марининой, Галич никогда не жаловался ей на какие-то неприятности: «Почесывал только голову и говорил: “Ну, что-нибудь придумаем”»[745].)
По словам Горонкова, в тот вечер они впервые услышали от Галича «Балладу о чистых руках», цикл про Клима Петровича Коломийцева и «Отрывок из футбольного репортажа между сборными командами СССР и Англии»: «На том нашем домашнем вечере Галич был в ударе, пел много и охотно. А перед вечером Саша Дольский мне говорит: “Слушай, старик, надо пригласить на вечер, за праздничный стол, какую-то красивую женщину, чтобы подогреть его творческий темперамент”. Ну, мы там пригласили несколько красивых женщин, в том числе Юленьку Крылову, которая жила с нами в одном подъезде — это было в профессорском корпусе. Блондинка, совершенная красавица, она произвела очень сильное впечатление на Александра Галича, и он в тот вечер, по-моему, не сводил с нее глаз»[746].
Если для Галича поездка в Свердловск прошла без особых последствий (хотя через два года ему ее припомнят), то ко всем людям, к которым его приводил Дольский, вскоре приезжали с обыском: «Однажды он приехал ко мне в Свердловск, и мы с ним куролесили 10 дней по гостям. Все хотели его послушать. На следующий день после нашего визита в квартире хозяев — неважно, кому она принадлежала, режиссеру театра или доктору наук, — производился обыск»[747].
Серьезные неприятности коснулись и самого Дольского. Через некоторое время после визита Галича Горонков обратился к Дольскому с просьбой сделать копии с его бобин. Тот немного смутился, а потом сказал, что его вызвали куда следует и он вынужден был стереть все, что записал: «Старик, не сердись, меня так прижали, что я вынужден был это сделать. Ты не знаешь, как меня прижали…»[748] Поскольку Дольский в то время был аспирантом, вполне вероятно, что ему пригрозили срывом защиты диссертации, если он не уничтожит все записи Галича.
Но отдадим должное Александру Дольскому: он нашел в себе мужество отказаться от сотрудничества с КГБ, хотя за дружбу с Галичем его, как и многих других, постоянно «пасли», причем началось это уже через две недели после визита Галича в Свердловск, и с тех пор от Дольского не отставали вплоть до 1988 года: «Меня пытались приспособить и сделать доносителем. Но это им не удалось. Ко мне с обыском приходили, в шесть часов утра меня забирали. Такие интеллигентные якобы молодые люди. На самом деле им убить ничего не стоит — по глазам видно. Запугивали, приводили в камеру: “Вот в этой камере допрашивали Пауэрса, а теперь вы пишите свои показания…” Я писал, что никакой это опасности не представляет. Я знаю, что это представляет для них опасность, конечно. Но не для народа же это представляет опасность, а для власть имущих»[749].
Во время приезда в Свердловск Галич попросил Дольского показать ему Ипатьевский дом, где была расстреляна царская семья. «Пойдемте, — говорит Галич. — Покажите мне это страшное место, где августейшую семью казнили. <…> Я его привез. Напротив Дворец пионеров стоит. А там пьяные комсомольцы песни Пахмутовой поют. <…> Ну, постояли. Поклонился он этому дому»[750].
И, видимо, не случайно, что вскоре после этой поездки под впечатлением от увиденного и услышанного Галич написал песню «Памяти доктора Живаго», посвященную трагическим событиям октябрьского переворота: «Опять над Москвою пожары, / И грязная наледь в крови. / И это уже не татары, / Похуже Мамая — свои! / В предчувствии гибели низкой / Октябрь разыгрался с утра, / Цепочкой по Малой Никитской / Прорваться хотят юнкера. <…> А кто-то, нахальный и ражий, / Взмахнет картузом над толпой! / Нахальный, воинственный, ражий / Пойдет баламутить народ!.. / Повозки с кровавой поклажей / Скрипят у Никитских ворот… / Так вот она, ваша победа! / “Заря долгожданного дня!” / “Кого там везут?” — “Грибоеда”. / Кого отпевают? — Меня!»
В последней строке автор представляет себя одним из участников сопротивления, одним из юнкеров, павших в неравном бою с большевиками, который действительно происходил у Никитских ворот. А 13 ноября 1917 года в Храме Большого Вознесения состоялось отпевание погибших.
Благодаря многочисленным интервью и концертным выступлениям Александра Дольского сохранилось немало важных штрихов к портрету Галича-человека и Галича-поэта. Например, Дольский говорил, что они с Галичем завидовали друг другу — взаимно, так сказать: «Могу признаться, кому я завидую: только Галичу и Высоцкому. Завидую так, как можно завидовать своим самым любимым людям <…> Завидую Галичу — тому, как он вовремя, как смело, как гениально смог все сказать. Неважно, что потом это не принесло свои плоды, но как было прекрасно сказано! А он завидовал мне: “Я таких лирических песен сочинять не умею”»[751].
Галич действительно высоко ценил лиризм песен Дольского и его гитарное искусство, даже говорил ему: «Это божественно. Под вашим влиянием, Саша, я напишу цикл песен о любви»[752]. Эти слова Дольский вспоминал с большой гордостью и добавлял, что «Галич обожал слушать, как я играю»[753].
Очевидно, что Галич все время хотел уйти от социально-политической тематики и писать исключительно лирические стихи, но эта тема не отпускала его. Александр Мирзаян вспоминает: «Галич мне лично говорил: “Лирика — это не моя стезя”. Когда я пел лирические вещи, он к этому более скептически относился. Когда я пел несколько более социальные вещи, яркие — ну, я не скажу протестные, но обличительные, может быть, — он говорил: “Вот это ваше. Это ваше”»[754].
Рассказал Дольский и о чисто человеческом отношении Галича к окружающим людям, а также о некоторых его поэтических предпочтениях: «Я годился ему в сыновья, а он все равно называл меня только на “вы”»[755]; «Главное его качество — то, что это был интеллигент в самом чистом значении этого слова. Одно из доказательств — это его отношение к окружающим, и в частности к своим коллегам. <…> Я значительно младше его был и занимался совсем другим делом — песни у меня совершенно другие. Я помню, что он относился ко мне с глубочайшим уважением. В частности, он очень любил две мои песни и все время заставлял меня петь: это “Сентябрь. Дожди…” и “Возвращение Одиссея”. И с одобрением относился к опытам социальных песен. У меня их было немного — ну, в частности, “По колено в болотной жиже” уже была тогда»[756]. Про другую свою песню — «Старинные часы» — Дольский говорил, что ее «критики ругали, зато любили Окуджава и Галич»[757].
Заметим, что песня «По колено в болотной жиже», которую упомянул Дольский, принадлежит ему лишь отчасти. Называется она «Баллада о капитане», а ее автором был американский фольк-исполнитель Пит Сигер (Pete Seeger), приезжавший в 1964 году в Москву и выступавший в зале имени Чайковского. Дольский же перевел эту песню на русский язык и стал исполнять на своих концертах.
Нам представляется, что стоит привести несколько строф из этой песни, чтобы понять, чем она была близка Галичу: «Помню, в нашей зеленой роте / Был один капитан. / Как-то раз повел по болоту / Нас этот старый болван. / Нам приказ не дороже жизни, / Но шагал капитан / По колено в болотной жиже, / Этот старый болван. / Мы могли бы не лезть в болото, / Только он все орет: / “Ну-ка вы, черепашья рота, / Поживее, вперед!” <…> Мы могли бы пойти по суше / Мимо болот и рек, / Только он никого не слушал, / Наш могучий стратег».
Нетрудно заметить общие мотивы между прозрачными аллегориями в этой песне и целым рядом стихов Галича. В первую очередь, это образ болота как аллегория окружающей действительности, а также старый капитан — как воплощение власти, которая завела страну в болото.
Явное влияние этой песни прослеживается в поэме Галича «Кадиш» (1970) — в эпизоде, где Януш Корчак по дороге в концлагерь Треблинку рассказывает детям «угомонную сказку»: «Итак, начнем, благословясь… / Лет сто тому назад / В своем дворце неряха-князь / Развел везде такую грязь, / Что был и сам не рад».
Образу болота, в которое попала несчастная рота, то есть вся страна, сродни прозрачная неназванная рифма в концовке «Моей предполагаемой речи на предполагаемом съезде историков стран социалистического лагеря…» (1972): «И этот марксистский подход к старине / Давно применяется в нашей стране. / Он нашей стране пригодился вполне / И вашей стране пригодится вполне, / Поскольку вы тоже в таком же… лагере, / Он вам пригодится вполне» и центральный образ песни «Пейзаж» (1973).
Вообще надо заметить, что Галич наряду с традиционными авторскими песнями ценил и просто хорошее исполнение чужих стихов. Помимо «Баллады о капитане», можно привести в пример одно из стихотворений Э. Багрицкого, спетое на семинаре в Петушках Виктором Берковским, о чем тот впоследствии и рассказал: «Я спел песню “Контрабандисты” на стихи Эдуарда Багрицкого, которую я сочинил незадолго до этого. Галичу песня понравилась. Он сказал, что это, видимо, единственно возможный вариант прочтения этих стихов. Но, добавил, слова путать не надо. Признаюсь, есть за мной такой грех»[758].
А Сергею Чеснокову, который вообще пел только чужие вещи, Галич во время дискуссий на Новосибирском фестивале и вовсе выдал высочайшую оценку: «Помните знаменитую фразу у Бориса Леонидовича Пастернака, где могло “сквозь исполненье авторство процвесть”? Вот я, например, считаю, что целый ряд уже виденных вами здесь исполнителей — скажем, такие, как Чесноков, — они где-то очень близки к этому уровню, когда сквозь исполнительство процветает авторство»[759].
Точно так же Галич относился и к лучшим зарубежным исполнителям — выделял как отдельные жанры «песни Шарля Азнавура», «песни Ива Монтана», «песни Пиаф». А с некоторыми зарубежными бардами был даже знаком лично. Приведем свидетельство Александра Колчинского, в котором он рассказывает о своей встрече с Галичем в 1967 году: «Когда мне было 15 лет, я очень увлекался Жоржем Брассансом, записи которого было довольно трудно найти. Как-то я спросил у Александра Аркадьевича, нет ли у него случайно пластинок Брассанса, на что он ответил: “Конечно, есть, заезжай”. Я приехал, Галич достал мне ранний альбом Брассанса “La porte des lilas”, и я увидел, что на конверте пластинки крупно написано черным фломастером: “A Sasha… George Brassens”. Ошеломленный столь близким соприкосновением с кумиром, я спросил у Галича: “Александр Аркадьевич, так это он вам сам надписал?” — и тот без всякого тщеславия, с какой-то даже застенчивой улыбкой подтвердил: ‘‘Да, да…” Помню, я заметил на полке пластинку Битлз “Revolver”, спросил, а эту можно переписать? <…> Протянув мне “Revolver”, он сказал: «А вот есть “Hard Days’ Night”, хочешь? Хотя, наверное, “Revolver” их главная пластинка на сегодня, совершенно новаторская». С этим я позволил себе не согласиться: «Ну что вы, Александр Аркадьевич, “Sergeant Pepper” — вот это вещь!» В тот момент я предпочитал только что вышедшего психоделического “Сержанта”, хотя сегодня-то понимаю, что именно “Revolver” был для Битлз переломным этапом»[760].
Как правило, отношение Галича к другим бардам было уважительным, хотя он прекрасно сознавал разницу между их песнями и своими: если он с чем-то был не согласен, то мог об этом сказать, но никогда не позволял себе публично унизить человека или посмеяться над ним, а уж на похвалы Галич не скупился. Его дочь Алена рассказывала: «Он очень любил Лялю Шагалову[761]. Вот он мог говорить: “Вы посмотрите, какая она красивая”. Или: “Вы посмотрите, какие стихи замечательные у Булата сегодня я прочитал!”, “Ой, как Юра [Левитанский] замечательно написал. Вот это стихи!”. Он был абсолютно вот в этом отношении направленный человек»[762]. Да и по словам того же Дольского: «В нашей среде, да и вообще в среде людей искусства, это большая редкость, чтобы внимательно послушать своего младшего коллегу да еще похвалить и сказать: “Ну-ка спой мне еще раз эту песню. А ну-ка еще раз”. Это удивительное качество»[763].
Слова Дольского справедливы не только по отношению к бардам. Когда в 1958 году Галич приезжал в Севастополь в качестве одного из руководителей семинара крымских литераторов, ему — как мэтру — многие начинающие поэты читали свои стихи. Об одном из таких эпизодов рассказал Михаил Лезинский: «Стихи Анатолия Скворцова Галич отметил как неплохие, но когда Толя прочитал четверостишие: “Доем холостяцкий ужин, / Укроюсь рваным пальто, / Я никому не нужен, / И мне не нужен никто…”, когда Галич услыхал про пальто, он встрепенулся, как боевой конь при звуках трубы, — да простят мне это банальное сравнение! — обнял Толю за плечи и твердо сказал, к неудовольствию киевских и крымских “критиков”: “Ты, Тольча, законченный поэт! Удачи тебе!”»[764]
Во время Новосибирского фестиваля Галич сказал добрые слова и о выступавшем перед ним Юрии Кукине: «Очень мною любимый поэт и исполнитель», а его песню «За туманом» даже назвал классической. Тогда же он подчеркнул уникальность целого ряда авторов и исполнителей: «Бережков — это свой жанр, Чесноков — это свой жанр, Кукин — это свой жанр, Дольский — это свой жанр»[765]. А однажды даже дал Кукину любопытную рекомендацию, услышав его песню «Романс» (1965), предпоследняя строфа которой выглядела так: «Нахожу на дорогах подковы, / Заполняю собой города… / Человек из меня толковый / Не получится никогда…».
— В конце песни, — рассказывал Кукин, — идет повтор первого куплета: «Вы пришлите в красивом конверте / Теплых слов шелестящий шелк. / Ну а мне вы не верьте, не верьте — / Я такой — я взял и ушел…» И эта фраза «Ну а мне вы не верьте, не верьте» — она же зачеркивает все, что было сказано раньше. Александр Галич сказал мне тогда: «Юра, не надо повторять первый куплет! Надо спеть: “Человек из меня толковый / Не получится никогда!” И после этого рвать струны и заканчивать…»[766]
Более того, отвечая в одном из интервью на вопрос: «Сколько аккордов вы знаете?» — Кукин честно признался: «Семь. Галич запретил знать больше. Он намеренно “убирал” гитару, чтобы слова были хорошо слышны»[767]’.
Об отношении Галича к чужому творчеству хорошо говорит такой эпизод.
В 1967 году в Ленинграде проходил «конкурс самодеятельной песни III Всесоюзного слета победителей походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа». Галич, будучи там председателем жюри, услышал песню Александра Генкина «Слышите, люди!», исполненную его другом Виталием Сейновым и имевшую ярко выраженную антивоенную направленность («В нашем прошлом — война за войной»), после чего «категорически сказал, что он хочет видеть автора этой песни»[768]. Песня прошла в победители, а ее автор, Александр Генкин, в это время учился в военмеховском спортлагере в поселке Лосево (под Ленинградом). К нему тут же приехал гонец и сказал, что его срочно хочет видеть Александр Галич. Генкин все бросил и поехал в Ленинград, где «полчаса общался с Шафераном, Френкелем и Галичем. Такая была интересная встреча. И они в один голос заявили, что на концерте победителей эту песню должен петь автор, что и произошло»[769]. А в конце конкурса Галич вручил Генкину грамоту, которую подписал маршал И. Конев — большой любитель самодеятельной песни.
Нас не будет удивлять столь сильное впечатление, которое произвела на Галича антивоенная песня Генкина, если вспомнить, что в начале 1960-х годов во время работы с режиссером Иосифом Боярским над сценарием к мультфильму «Летающий пролетарий» по произведениям Маяковского Галич написал для него несколько стихотворений «под Маяковского», в одном из которых были такие строки: «Не надо! Стойте! Опомнитесь, люди! / Машу я, как знаменем, этой строкою, / В мире, в котором войны не будет… / Верю, знаю — будет такое?!! / Мысль человечья — быстрее света! / А поэта мысль и того пуще! / Смотри же фантазию — шутку поэта / Про день гражданина в мире грядущем! / “Безалкогольное! От сапожника и до портного — / Никто не выносит и запаха спиртного!” / Так когда-то выдумывал в шутку поэт! / И вот, любой фантазии краше, / Над краем быстротекущих лет / Уже поднялось грядущее наше! / Грядущее — вот оно! Видишь! Вот это! / Его уже можно потрогать рукой! / И вновь вместе с нами голос поэта / Вздымает, как знамя, строку за строкой! / В одном строю в миллионы сердец / Скажем войне нет! / И по всей земле из конца в конец / Во имя счастья грядущих лет»[770].
Окуджава
Если даже о бардах «второго ранга» Галич отзывался одобрительно или, по крайней мере, максимально тактично, то тем более к крупнейшим бардам (Окуджаве, Высоцкому, Киму) он относился с неизменным уважением и нередко — восхищением, хотя и мог себе позволить высказаться довольно жестко, если что-то ему не нравилось. Однажды Галич находился в гостях у Андрея Дмитриевича Сахарова. И Сахаров начал говорить о том, как он любит песню Окуджавы о Моцарте («Моцарт на старенькой скрипке играет»), на что Галич вдруг сказал: «Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке»[771].
Речь шла о следующих строках: «Ах, ничего, что всегда, как известно, / Наша судьба — то гульба, то пальба. / Не оставляйте стараний, маэстро, / Не убирайте ладони со лба!»
Можно, конечно, возразить Галичу, сказав, что нельзя так буквально понимать эти слова; что скрипка является метафорой творчества, да и вообще не о концерте здесь речь, а о трагической реальности: «Наша судьба — то гульба, то пальба». Сама же песня — о судьбе любого художника, творца: «Моцарт отечество не выбирает — просто играет всю жизнь напролет». Но и Галич со своей стороны в чем-то прав: обратим внимание на то, как тщательно проработаны детали в его собственных стихах — особенно при описании внешности персонажей или их поступков. Поэтому здесь имеет смысл говорить просто о двух разных подходах к сочинению стихов.
Однажды в 1967 году Сергей Чесноков пришел к Галичу домой. Тот лежал в постели после инфаркта. Рядом стояла бутылка коньяка. Вдруг Галич потянулся рукой к столу и взял третий номер журнала «Звезда Востока», где было напечатано новое стихотворение Окуджавы «Размышления возле дома, где жил Тициан Табидзе». В нем были такие строки: «Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, / От поспешных приговоров, от слепых подруг. / Берегите нас, покуда можно уберечь. / Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь, / Только так не берегите, как борзых — псари! / Только так не берегите, как псарей — цари! / Будут вам стихи и песни, и еще не раз… / Только вы нас берегите. Берегите нас».
Галич показал это стихотворение Чеснокову и сказал: «Вот, Сережа, пример глубоко ложной поэтической идеи»[772]. Очевидно, что он имел в виду ту цену, которую платит истинный художник за право быть свободным, и что, выбирая для себя такую судьбу, недостойно просить снисхождения у окружающих.
Владимир Фрумкин вспоминал следующие слова Галича: «Ну что он пишет, Булат, что он пишет? <…> Ну зачем так унижаться? Как поэт может вообще просить, “берегите нас!”? Недостойно! Недостойно»[773].
На эту тему Галич подробно высказался и в интервью Леониду Жуховицкому во время Новосибирского фестиваля: «Очень горячо любимый мной, скажем, Булат Окуджава, которого я очень люблю и очень высоко ценю как поэта, у него есть песни, которые вызывают мое яростное чувство протеста, — скажем, типа “Берегите нас, поэтов”. Это просто какое-то обращение, я бы сказал, недостойное для поэта. Поэтому мне эта песня решительно не нравится, и я всегда об этом ему (смеется) не забываю напомнить, при всяком случае страшно клеймя его за эту идею, потому что мне кажется, что там абсолютно ложная и даже какая-то стыдная поэтическая идея. Я не понимаю такого обращения: кто? Кто должен беречь нас, поэтов? И вообще это уже какое-то выделение кастового сбережения. Мне кажется, оно совершенно несправедливо и негражданственно. Вот такое мое сугубо личное мнение»[774].
И следствием этих постоянных напоминаний Окуджаве явилось то, что, когда на одном из концертов 1980 года его попросили прочесть стихотворение «Берегите нас, поэтов», он сам же от него «отрекся», сказав: «Я мог бы его прочитать, но я принципиально не хочу его читать, потому что нельзя призывать самого себя беречь себя. В один прекрасный день я это понял — и они мне перестали нравиться. И вообще поэтов призывать беречь поэтов не нужно»[775]. Видимо, критика Галича возымела свое действие, причем уже в 1969 году Окуджава задумывался над ней, о чем говорит его комментарий на концерте 23 июня в Люберцах: «Один мой товарищ, поэт, все время оспаривает законность этой формулы. Он считает, что поэту необходимо страдать, а иначе из него получится благополучный лавочник. Может быть, есть в этом резон. Этого я не могу сказать».
Единственное, что вызывает недоумение в первом комментарии Окуджавы, — это его слова: «нельзя призывать самого себя беречь себя» и «поэтов призывать беречь поэтов не нужно». То есть получается, что строка «Берегите нас, поэтов» обращена… к поэтам же! Мол, поэты, берегите нас, поэтов! Полный абсурд. И такая интерпретация напрочь перечеркивает все стихотворение, притом что она совершенно не вытекает из самого поэтического текста.
Одно из первых совместных домашних выступлений Галича и Окуджавы состоялось в октябре 1965 года, когда Евгений Евтушенко пригласил к себе домой французского шансонье Жака Бреля, приехавшего с гастролями в Советский Союз, а также Окуджаву с Галичем, которые втроем и устроили импровизированный концерт. Причем интересно, что никто из них не пел своих песен: Брель пел народные фламандские песни, Окуджава — вагонные, а Галич — старинные романсы[776].
Есть и другая версия, рассказанная сотрудником парижского бюро радио «Свобода» Семеном Мирским. В ней появляется еще одно действующее лицо: «Галич, побывавший на одном из концертов Бреля во время его гастролей в СССР в 60-е годы, несколько лет спустя, уже в эмиграции в Париже, уже будучи сотрудником радио “Свобода”, рассказывал о своей встрече с Брелем в Москве: “И вот сидим мы на московской кухне — Жак Брель, Володя Высоцкий, Булат Окуджава и я, Александр Галич. Сидим и поем друг для друга. И тут одна из присутствовавших дам вдруг говорит: ‘‘Ребята, а где магнитофон?”. ‘‘Никаких магнитофонов”, — сказал один из бардов. А Брель, которому перевели, утвердительно кивнул: “На Олимпе нет ни микрофонов, ни магнитофонов”»[777]. Почему-то хочется верить, что именно эта версия соответствует действительности…
По свидетельству дочери Галича Алены, «отношение папы к Окуджаве я бы назвала, как ни странно, “нежной влюбленностью”. Восхищение было чрезмерным, перехлестывающим через край… я знаю, что они встречались на кухне, с гитарами, у папиных друзей, врачей, на Старо-Невском, в большой коммунальной квартире. Правда, Окуджава всегда стеснялся исполнять в компании свои песни. Делал это неохотно. И только если просил мой отец, пел после него — таких гитарных состязаний он вообще не любил»[778]. Об этом же говорит Бенедикт Сарнов: «Всюду, куда его звали, не ломаясь, являлся с гитарой. Иное дело — Булат. Даже к самым близким друзьям с гитарой он никогда не приходил»[779].
Была и другая встреча двух поэтов, которая произвела впечатление на Беллу Ахмадулину: «Вижу его [Галича] в Питере — тогда Ленинграде, вместе с Булатом Окуджавой, они оба поют, разговаривают, у того и другого уже есть пристальные и пылкие почитатели»[780].
Вероятно, речь идет о знаменитой ночной посиделке, которую однажды поздней осенью устроил поэт Евгений Рейн. Ему позвонила Ахмадулина и сказала, что она и ее муж Юрий Нагибин живут в гостинице «Астория», а рядом с ними живет Галич, который хочет петь, и поэтому нельзя ли позвонить в какую-нибудь квартиру, куда бы позволили Галичу прийти. Рейн позвонил одной своей знакомой, у которой была большая квартира на Исаакиевской площади, и объяснил ситуацию. Та пригласила всех в гости, и Рейн сообщил об этом своим друзьям: «Мы пришли, и вот в десять часов вечера — звонок в дверь, отворяется дверь, входят Ахмадулина, Нагибин, Галич и… Окуджава. А я не знал, что будет Окуджава. Он тоже оказался в Ленинграде. И всю ночь, до утра, Галич и Окуджава пели. А Ахмадулина читала стихи. И это была совершенно незабываемая ночь»[781].
Поскольку Нагибин и Ахмадулина разошлись 1 ноября 1968 года[782], то, следовательно, концерт состоялся до этого времени.
В своих мемуарах «Записки марафонца» Рейн назвал фамилию знакомой, у которой был устроен этот вечер (ею оказалась писательница Людмила Штерн), и датировал визит москвичей двумя часами позже. По словам Рейна, дом Людмилы Штерн «был самый гостеприимный и открытый дом, известный мне в Ленинграде. Я узнал у Беллы номер ее телефона в гостинице и начал действовать. С первых же моих слов Люда с удовольствием согласилась предоставить свой дом для приема московских гостей. Труднее было созвать гостей, но те, кого застал мой телефонный звонок, немедленно отправились на Фонарный переулок, где жили Штерны.
Москвичей не было что-то очень долго. Наконец около двенадцати раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. Вместе с Беллой, Нагибиным, Галичем на площадке стоял Булат Окуджава. Он тоже оказался в Ленинграде в эту ночь. Почему-то я совсем не запомнил людей, пришедших тогда к Штернам. Помню художника Михаила Беломлинского, его жену Вику и еще, наверное, человек пять-шесть.
Галич пришел с гитарой. Он хотел петь. Состояние это мне хорошо известно. Бывает, что поэт или артист переполнен внутренней работой, ему позарез необходим отклик слушателя, контакт с ним. Это дает разрядку в том таинственном действии, которое в нем совершается. Галич пел часа два или даже больше. Я слышал его пение много раз, но никогда более на моих глазах он не был в такой вдохновенной форме. Это был особый концерт, представление всего самого лучшего на пике артистизма»[783].
Далее Рейн говорит, что после выступления Галича «Белла читала стихи, и совсем уже под утро пел Булат». Такую же последовательность событий находим в воспоминаниях Нагибина, описавшего, судя по всему, именно эту встречу: «Как-то мы оказались в Ленинграде вместе: Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. <…> Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием послушает Сашу. Гитару, тем не менее, он с собой прихватил.
Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными темными от копоти потолками, кафельными печами и останками гарнитура красного дерева. <…> Саша пел очень много, как всегда, не ломаясь, на всю железку. <…> Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать»[784].
При всей своей любви к песням Окуджавы Галич как-то сказал, что между ними есть только одно сходство — что они оба мужчины с гитарой, а больше сходства нет никакого[785]. Мысль эта понятна, но все же Галич здесь хватил через край: при всем различии в тематике и стилистике их произведений наблюдается немало общих черт.
Возьмем лирическую тему. Если, скажем, в поэзии Галича нередко встречается образ Прекрасной Дамы, то у Окуджавы этому соответствует такой образ, как «Ваше Величество Женщина». И даже при описании мельчайших деталей внешности или действий персонажей нередко наблюдается сходство.
Окуджава: «А ее коса острижена, / В парикмахерской лежит. / Лишь одно колечко рыжее / На виске ее дрожит» («Песня о комсомольской богине», 1958).
Галич: «Дает отмашку Леночка, / А ручка не дрожит, / Чуть-чуть дрожит коленочка, / А ручка не дрожит» («Леночка», 1961), «Коротенькая челка /
Колечками на лбу. / Ступай, гуляй, девчонка, / Пытай свою судьбу!» («Снова август», 1966).
Если же обратиться к социальным мотивам, которые у Окуджавы представлены, естественно, не в такой концентрации, как у Галича, то и здесь присутствуют переклички. Например, в песне «Моцарт на старенькой скрипке играет» Окуджава, учитывая печальный опыт новейшей истории, предостерегает: «Но из грехов нашей родины вечной / Не сотворить бы кумира себе». В песне «Былое нельзя воротить…» он с грустью констатирует, что, несмотря на все громкие победы и достижения, люди не изжили в себе рабские привычки: «А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, / И мы иногда всё холопами числим себя». Эту же тему, но в другой — обличительно-саркастической — тональности разовьет Галич в «Балладе о чистых руках»: «Да здравствует вечно премудрость холопья, / Премудрость жевать, и мычать, и внимать, / И помнить о том, что народные копья / Народ никому не позволит ломать!»
В песне «Антон Палыч Чехов однажды заметил…» Окуджава прозрачно говорит о власть имущих: «Дураки обожают собираться в стаи. / Впереди — главный во всей красе», что восходит к поэме Галича «Королева материка»: «Но начальник умным не может быть, / Потому что не может быть» — и еще к одной его песне без названия: «Собаки бывают дуры, / И кошки бывают дуры, / И им по этой причине / Нельзя без номенклатуры».
Нельзя не вспомнить и более раннюю песню Окуджавы на эту же тему — «Песенку о дураках»: «Давно в обиходе у нас ярлыки — / По фунту на грошик на медный. / И умным кричат: “Дураки, дураки!”, / А вот дураки — незаметны».
Такую же ситуацию в стихотворении «Весь год — ни валко и ни шатко…» позднее отобразит и Галич: «А вор тащил белье с забора, / Снимал с прохожего пальто. / И так вопил: “Держите вора!”, / Что даже верил кое-кто».
Оба поэта призывают сограждан помнить о нравственных ценностях, но если Окуджава делает это в характерной для себя лирической манере: «Совесть, благородство и достоинство — / Вот оно, святое наше воинство. / Протяни ему свою ладонь, / За него не страшно и в огонь», то Галич — с гневом и негодованием от того, что люди забыли об этих ценностях и с готовностью уничтожают тех, кто им об этом напоминает: «В наш атомный век, в наш каменный век / На совесть цена — пятак!», «Осудят мычанием слово / И совесть отправят в расход», «Голос добра и чести / В разумный наш век бесплоден!», «Голос чести еще не внятен» и т. д.
Оба говорят об издевательствах власти, но у Окуджавы этот мотив единичен и встречается как бы мимоходом: «Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют», а у Галича он вписывается в общий контекст сопротивления власти и представлен как его неизбежное следствие («Левый марш»): «Сколько раз нам ломали ребра, / Этот — помер, а тот — ослеп, / Но дороже, чем ребра, — вобла / И соленый мякинный хлеб».
Впрочем, немало у них и принципиальных смысловых различий — при том, что нередко используются одни и те же образы. В «Молитве Франсуа Вийона» Окуджава великодушно просит Бога: «Дай рвущемуся к власти / Навластвоваться всласть». А вот прямо противоположная мысль из двух поэм Галича — «Королева материка» и «Кадиш»: «Валеты рвутся попасть в тузы, / Сменяется мастью масть», «Рвется к нечистой власти / Орава речистой швали». То есть, мол, и этой-то швали дать навластвоваться всласть? Что же тогда будет со страной?
В 2004 году Владимир Фрумкин сделал интересное наблюдение, касающееся соотношения поэтического и человеческого аспектов Окуджавы и Галича: «…если задуматься о соотношении между его [Окуджавы] поведением в жизни и его творчеством, то можно увидеть какое-то странное (а может, и не очень странное) несоответствие. В своей поэзии он мягок, добр, романтичен, там стрекочут кузнечики, действуют сказочные короли и королевы, звучат такие строки, как “Ваше величество, женщина, да неужели ко мне?”, или “Как много, представьте себе, доброты, в молчанье, в молчанье”… Но в жизни он был другим. У Галича я тоже вижу некоторое несоответствие, но обратное: он в поэзии очень жёсток, непримирим, а в жизни был необычайно мягок»[786].
Как человеческие типы Галич и Окуджава действительно во многом противоположны. Если Галич обожал шумные застолья и всегда был в них центром внимания, то Окуджава их не любил. Кроме того, Окуджава терпеть не мог, когда при нем хвалили, особенно восторженно, его поэзию — он тут же обрывал излияния, а Галич, напротив, очень любил слушать комплименты в свой адрес (что было в значительной степени связано с официальным непризнанием).
Однако, будучи совершенно разными по характеру, они ценили творчество друг друга. Галич неизменно положительно оценивал стихи Окуджавы, что наглядно иллюстрирует следующий фрагмент из воспоминаний Валерия Лебедева. Однажды он спросил Галича: «Александр Аркадьевич, вам не кажется, что строчка у Окуджавы “Александр Сергеич прогуливается” как бы выпадает из ритма?» Галич ответил: «Что вы, Валера! Это очень точно. Она формально выпадает. Но это сделано явно специально. Подчеркивается протяженность этой прогулки. Не прошмыгнул, не прошел, а — прогуливается. Процесс, так сказать. Нет, Булат такой ошибки не совершит. Это тонкий стилист»[787].
Высоко отзовется он об Окуджаве и в известном интервью на радио «Свобода» в ноябре 1974 года: «К сожалению, Окуджава в последние годы почти совсем перестал петь, а он — необыкновенно тонкий, необыкновенно талантливый лирик. Он, во всяком случае, занимает такую позицию лирика — человека, поющего всегда “от себя”. В жанре он работал очень мало и, я бы сказал, менее успешно, чем в той части его сочинений, которые носят чисто лирический характер. Поэтому здесь он не имеет соперников по мастерству и по убедительности»[788].
На фоне таких похвал в высшей степени странной выглядит реплика самого Булата Шалвовича в интервью израильской газете «Эпоха» 5–7 мая 1995 года: «Вот Саша Галич уехал, и в первом интервью, которое я услышал, сказал, что ну вот теперь я приехал, и там уже никого из писателей не осталось. Знаете? Ну как я могу сказать! Я не могу сказать. Все зависит от таланта. А где он живет — это не так важно. Конечно. Что вы! Войнович замечательные вещи пишет в Мюнхене, Бродский — в Америке… Лосев, да. В России остались тоже очень яркие люди… Это от места жительства не зависит — зависит от состояния души»[789].
Кто же спорит, что это зависит не от места жительства? Дело здесь в другом. Галич никогда не позволял себе сколько-нибудь неуважительно отзываться об оставшихся в СССР писателях: помимо Окуджавы и других бардов он положительно высказывался, например, о Домбровском, Владимове, Грековой, Чухонцеве, но вместе с тем отмечал тяжелое положение, в котором находились многие авторы из-за того, что вынуждены работать «в стол». Скажем, при ответе на вопрос корреспондентов журнала «Посев» сразу же после прибытия во Франкфурт в июне 1974 года: «Людей типа Домбровского, типа Грековой такое вынужденное молчание ломает. Оно приводит к какому-то ощущению опустошенности, усталости необыкновенной. Потому что упомянутые вами писатели, по-моему, первоклассные. <…> Не обязательно, чтобы вертухай зажимал рот, — если ты сам себе зажал рот, все равно не будет хватать воздуха»[790].
Ну а если говорить без экивоков, то большинство лучших писателей к тому времени действительно было вынуждено покинуть страну либо их насильственно выдворили за границу: достаточно назвать Бродского, Коржавина, Солженицына, Максимова, Синявского. А через три месяца после эмиграции Галича придется уехать Виктору Некрасову. Да и сам Окуджава во второй половине 1970-х написал коротенькое стихотворение «На эмигрантские темы», в котором констатировал: «Все поразъехались давным-давно, / Даже у Эрнста в окне темно, / Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер — / Вот кто остался еще в Эс-Эс-Эр». Так какие же после этого претензии к Галичу?
В своей биографической книге об Окуджаве Дмитрий Быков вспоминает, как в августе 1995 года «спросил Окуджаву, стал ли он, подобно Нагибину, с годами выше ценить песни Галича? Он ответил, что высоко ценил их с самого начала, “а вот человек он был сложный. Непростой, да, непростой”. И после паузы добавил: “Например, он не воевал, не был на фронте. А говорил, что воевал. Зачем?”»[791]
Вероятно, Галич здесь имел в виду то, что прифронтовой театр, в котором он принимал участие, играл спектакли и в Мурманской области, и под Смоленском, когда там шли жестокие бои. Впоследствии всех артистов приравняли к участникам Отечественной войны и наградили ветеранскими медалями (правда, сам Галич до этого не дожил)[792].
Еще более откровенно Окуджава высказался в вышеупомянутом интервью израильской газете (тоже 1995 года): «К Галичу я отношусь очень сдержанно. Как поэта я его очень высоко ценю. Очень. А как личность — не очень. Он был сноб, он был барин, он был лгун. Вот я помню, моя первая… Но это не для <печати>.
Нет, он поэт блистательный, конечно, но несколько случаев из жизни я вспоминаю — и что-то меня это все сокрушает. Вот первый раз, когда я с ним встретился (в Ленинграде), я приехал, и мой друг Володя Венгеров такой, режиссер, сказал: “Приезжай, у меня будет Саша Галич”… <…> Я уже слышал о нем. Но он только начинал еще что-то такое <писать>. Вот мы сидим там. И Володя говорит: “Ну, Саша, давай, спой-ка песню, Булату покажи”. Он начинает петь. Прелестную песню. Вторую. Прелестная песня. Я говорю. Он кивает, улыбается. Потом, через несколько лет уже, я выясняю, что это песни Шпаликова. Понимаете? Ну, спел — спел. Ну, скажи! А он кивает и молчит. Меня это очень… <…> Галич был очень неинтересный. Вот с Володей [Высоцким] интересно было общаться и разговаривать. Галич любил выпить, компанию, быть главным в этой компании… Такого серьезного разговора нельзя было с ним вести, не получалось…»[793]
Судя по всему, Окуджава действительно не знал, что Галич был соавтором двух песен Шпаликова. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, и поэтому характеристика «лгун» остается на совести Окуджавы.
Столь «личностная» оценка Галича перекликается с наблюдением Станислава Рассадина, который отмечал, что Окуджава относился к Галичу «с уважением — правда, именно холодноватым»[794]. Тем не менее все это не сказывалось на отношении Окуджавы к творчеству Галича. Еще в 1969 году, когда на одном из концертов ему задали вопрос, как он относится к творчеству Высоцкого, Окуджава сказал: «Я отношусь очень и очень высоко и положительно. И не только к песням Высоцкого: и к песням Новеллы Матвеевой, и к песням Александра Галича, в отличие от песен, например, Клячкина и Городницкого. Это я считаю гораздо более низкой ступенью»[795]. Или, например, на концерте 21 апреля 1985 года его спросили: «Как Вы относитесь к Александру Гинзбургу?» (фамилию «Галич» еще нельзя было произносить публично). Окуджава ответил: «А кого вы имеете в виду — Галича?.. Очень хорошо отношусь. Хороший поэт, интересный, очень яркой одаренности. Конечно. Один из основателей этого движения»[796]. Еще через год он также высоко отзовется о роли Галича в авторской песне, чем вызовет беспокойство председателя КГБ В. Чебрикова, написавшего в своей записке в ЦК КПСС: «Окуджава, выступая на Всесоюзном семинаре ученых-славистов в пос. Нарва-Йыэсуу, Эстонской ССР, назвал Галича “первым по значимости среди бардов России”»[797].
Мужество Окуджавы в этих последних случаях бесспорно. И не случайно в 1989 году он напишет стихотворение, которое посвятит Галичу, Высоцкому и Киму. Начинаться оно будет так: «Вечера французской песни / Нынче в моде и в цене. / А своих-то нет, хоть тресни… / Где же наши шансонье?»
Кроме того, по свидетельству режиссера Юлиана Панича, Окуджава в последние годы всерьез интересовался эмигрантским периодом жизни Галича: «В 80-х годах Булат переживал тяжелые времена. Он серьезно расспрашивал меня о судьбе Галича в эмиграции. Подумывал? Примеривался? Я, помню, ответил: “В Мюнхене Галич тосковал от одиночества. А в Париже… В Париже он просто умер”. А через какие-то годы, находясь проездом в том же Париже, умер и Булат…»[798]
Ну, насчет того, что Галич в Париже «просто умер», мы еще поговорим в одной из последних глав, а насчет всего остального — верно.
Галич же, живя в Париже, тяжело переживал отрыв от привычной аудитории и втайне завидовал тем, кто может писать песни, оставаясь на родине. Анатолий Гладилин однажды решил его обрадовать: «“Саша, мне привезли из Москвы кассету с новыми песнями Булата. Одна — потрясающая!” И я спел своим противным голосом “Батальное полотно”. “Очень хорошо”, — сказал Галич и как-то боком пошел к выходу из парижского бюро Радио “Свобода”»[799].
Вместе с тем, несмотря на негативное официальное отношение властей к песням, скажем, Окуджавы и Высоцкого, у обоих находились заступники. Жванецкий вспоминал: «Булат Шалвович имел свободный выезд за границу, ему звонили из кабинета Андропова, говорили: “Булат, всё в порядке”, за Владимира Семеновича хлопотала Марина. Она говорила мне: “Господи, Миша! Я поддакивала Брежневу, я стояла возле него, пока он был в Париже, я стала сопредседателем общества советско-французской дружбы, я готова на все, только чтобы Володя мог ездить и я могла ездить”»[800].
Были «наверху» тайные поклонники и у Александра Галича, но хлопотать за барда, напрямую обличавшего режим и властей предержащих, не осмеливался ни один. В итоге, когда пришли тяжелые времена, Галичу никто не смог помочь.
Высоцкий
Александр Галич и Владимир Высоцкий — две наиболее яркие фигуры в советской авторской песне, и неудивительно, что они до сих пор вызывают неутихающие споры.
Галич был фактически единственным писателем, который длительное время находился на вершине советской писательской номенклатуры, но нашел в себе мужество отказаться от благополучной жизни и «выбрать свободу». Какое-то время он был защищен своими регалиями и высоким общественным положением, но когда последовали реальные угрозы и репрессии, не сломался, а пошел до конца и жестоко поплатился за свой выбор.
Высоцкому же отказываться было не от чего: он с самого начала не был защищен ни регалиями, ни высоким общественным статусом — в этом отношении он находился в более тяжелом положении по сравнению с Галичем, по крайней мере до середины 1970-х, когда все же сумел добиться для себя полуофициального признания и возможности относительно свободно выезжать за границу.
Свои острейшие «уличные» песни Высоцкий начал писать, будучи еще безвестным актером, перебивавшимся эпизодическими ролями в слабых фильмах, и за эти песни сразу же «заработал» себе негативную репутацию у властей. Тогда же на него обрушились самые настоящие гонения. Приведем фрагмент из интервью 1991 года Ольги Леонидовой, жены троюродного дяди Высоцкого Павла Леонидова: «У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним буквально по пятам. И он часто скрывался в нашем доме. Однажды прибежал Паша: “Уничтожай пленки! За Володей охотятся!” И все записи, все песни пришлось уничтожить. Бобины были большие, они были раскручены, и мы мотали, мотали тогда с этих бобин… Ведь вся черновая работа над песнями шла в нашем доме. Приезжал Володя в 2–3 часа ночи в очень тяжелом душевном состоянии, потому что он метался. А он же был искренний, и все это выливалось в песнях. А песня — это была импровизация: садился за гитару и начинал играть. Они писали на стационарном “Днепре”, потом прослушивали и что-то исправляли. А дети были маленькие, и я все время ругалась: “Володя, тише! Я тебя выгоню! Я не могу это терпеть: нас арестуют вместе с вами!”. В течение года было такое тяжелое состояние. Самый тяжелый период его гонений. Это было до 1964 года, до работы в Таганке. В 12 — 1 час ночи мы закрывались на кухне, и тут он все высказывал нам… То, что сейчас говорят об этой партии, они говорили тогда, 30 лет тому назад. Я узнала о Ленине от них — Паша глубоко знал все это… Приезжал Володя, подвыпивши. Никогда не ел почему-то. Выпивал. Брал гитару, и пошло… Они пели про все, и про советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались, а я боялась, что кто-то услышит, дрожала»[801].
Однако с началом работы Высоцкого в Театре на Таганке репрессии не прекратились, а, наоборот, продолжились с удвоенной силой. «Высоцкий потом рассказывал мне, — вспоминает Мария Розанова, — что его вызывали на Лубянку, грозили, что если он “не заткнется”, ему придется плохо. Ему было тяжело, очень тяжело в то время. Но держался он удивительно достойно»[802].
В это время как раз арестовали Андрея Синявского, мужа Розановой и учителя Высоцкого, а вскоре изъяли у них дома записи Высоцкого, где среди прочего был и антисоветский «Рассказ о двух крокодилах»[803]. После этого друзья Высоцкого были уверены, что следующая очередь — его: «Мы же были убежденные антикоммунисты, убежденные антисоветчики, — говорит Геннадий Ялович, — но ни Володя, ни Сева [Абдулов] туда не пошли! А пошел Андрей Донатович Синявский. Да и он тоже пошел через творчество. Посадить-то могли и любого из нас! Завтра же! Когда посадили Синявского, мы думали, что Володе кранты! Всё — вместе с Синявским погорел и Володя. Я не помню, как эта ситуация разыгрывалась, но помню, было ощущение, что надо Вовку спасать»[804].
29 ноября 1967 года Высоцкий давал концерт в Куйбышеве. Многие зрители, присутствовавшие на нем, знали ранние песни Высоцкого и поэтому все время кричали: «Нинку»! «Татуировку»! «Ленинградскую блокаду»! «Зэка Васильев»! и т. д. Попутно они бомбардировали его записками с просьбой спеть эти песни. Реакцию Высоцкого запечатлел самарский коллекционер Геннадий Внуков: «В какой-то момент Володя остановился, глотнул воды, подобрал записки, прочитал их и сказал: “Я уже говорил, что эти песни не мои, их мне приписывают. Эти песни я никогда не пел… да если бы и пел, никогда не стал бы петь здесь — вот из-за этих трех рядов…” — показал рукой на первые три ряда кресел в зале.
Потом я его спросил: “Володя, а почему именно из-за “этих трех рядов” ты не стал петь?” Он посмотрел мне в глаза и ответил: “Да потому, что там сидит одно начальство, одни коммунисты. Наверняка есть и чекисты из КГБ. А от них я уже натерпелся. Но то, что это я пою, что мои пленки ходят по России, — этого не докажешь. Голос на пленке — не улика. Пусть они нам лапшу на уши не вешают <…> Посмотри уголовный кодекс. Там прямо сказано, что магнитофонная запись не является доказательством”»[805].
Осенью следующего года они встретились вновь, на этот раз у Театра на Таганке, и между ними произошел такой диалог:
— Случилось что-нибудь?
— Опять, суки, звонили. Пытали да мозги пудрили, — отвечает зло.
— Звонили? А кто? — интересуюсь я.
— С одной из четырех площадей, из Портретбюро!. <…> Сметут когда-нибудь и меня, как всех метут. Вот и получается — от ЦК до ЧК — один шаг! Один лишь шаг… через площадь![806]
Режиссер Александр Стефанович, в 1987 году снявший фильм «Два часа с бардами», рассказывал о том, как в конце 60-х КГБ сорвал его первую картину, в которой должны были играть Высоцкий и Влади: «В самой первой, под названием “Вид на жительство”, должны были сниматься Володя Высоцкий и Марина Влади, но в один черный день меня вызвали в КГБ, где два полковника спросили: “Как вам пришло это в голову?” — “Что?” — переспросил я. “Пригласить на главную роль этого антисоветчика”. — “А что такого? — начал я косить под наивного. — Он снимается в Одессе у моего друга Говорухина”. Разговор стал жестким. “Это вам не Одесса: ‘Мосфильм’ — эталонная студия страны. Если хотите дальше работать в кино, и конкретно на ‘Мосфильме’, забудьте эти фамилии, а о нашем разговоре — никому”»[807].
А из свидетельства бывшего председателя культурно-массовой комиссии при профкоме Агрофизического института Сергея Милещенко, одного из организаторов несостоявшегося концерта Высоцкого в Ленинграде 27 июня 1972 года, становится ясно, что эти репрессии были санкционированы на самом верху: «…мы с шофером Валентином Муравским собирались уже ехать за Высоцким в “Асторию”, тут появился порученец из Выборгского райкома партии. Вы, говорит, понимаете, что сам факт выступления Высоцкого — антисоветский акт, что вы льете воду на мельницу сионистской разведки, что Высоцкий сам агент сионистской разведки и руководитель антисоветского подполья?! Имейте в виду, сказал райкомовский товарищ, что на очень высоком уровне уже принято решение гнать из нашего общества всех, кто когда-либо поддерживал с Высоцким какие-либо отношения!»[808]
Здесь необходимо затронуть такой аспект, как феномен воздействия песен Высоцкого и Галича на власть имущих. Можно согласиться с Юлием Кимом, который сказал об этом: «Режим не мог его [Галича] терпеть, конечно, потому, что он пел о советском режиме, хотя главным образом о сталинском, но тем не менее обкомы, горкомы — все это перетекало, и КГБ было прежнее, и потому все эти обкомы, горкомы и КГБ, конечно, выносить этого не могли. Должен вам сказать, что когда Высоцкий поет: “Сколь веревочка ни вейся, а совьешься ты в петлю…”, это все про то же КГБ, безусловно, но когда это КГБ называется, тогда уже все, тогда уже КГБ вздрагивает и начинает нервничать»[809].
Именно поэтому от Галича в конечном счете было решено избавиться, а Высоцкого власти продолжали терпеть скрепя сердце, хотя и не упускали случая вставить палки в колеса. Более того, в конце 1970-х на него было заведено несколько уголовных дел в связи с нелегальными концертами. Но не только эти дела висели на Высоцком. Еще в июне 1966 года, когда он заключал с рижской киностудией договор на песни к фильму «Последний жулик», его арестовал КГБ. «Ведь он же был очень опасным для государства, — вспоминает Михаил Шемякин. — Недаром же ему и шили дело, и сидел он на Лубянке, и, как он мне говорил, что, если бы вот кто-то его не спас в тот момент, в одну из ночей, он уже накануне, когда его должны были освободить, хотел повеситься. Он раздобыл, выклянчил ремень и хотел повеситься, потому что ему шили совершенно страшное дело — изнасилование и убийство девочки в Риге. То есть дел шили много ему. Потом извинялись, потом выпускали, но, в общем-то, он был опасен для них, страшен»[810].
Вместе с тем, получив в 1973 году возможность выезжать за границу, Высоцкий вынужден был платить за это лояльностью по отношению к властям — в частности, отчитываться о своих поездках перед высокопоставленными чинами из КГБ, что стало известно из интервью сотрудника Одесской киностудии Владимира Мальцева (разговорный стиль оригинала сохранен): «Поехал за границу. Вот он мне сам рассказывал: “Приезжаю и сразу еду туда, к своим, как говорится, хорошим знакомым, друзьям. Полковники, генералы КГБ. Сажусь. Включают несколько магнитофонов, и начинаю рассказывать: что делал, где был, ходил, с кем встречался. Там с Шемякиным, а там с тем, а там с этим”. — “Много рассказывал?” — “Да. Много. Потому что если б я им не рассказал, они все равно знают, они за мной следили. Поэтому рассказал им процентов девяносто. А те вещи, которые они никак не могли знать, я, конечно, им не рассказывал — что обязательно встречался, там приехал Солженицын… Поэтому после всего, когда все им для отчета сам рассказал: «Ну все, ребята. Коньячок на стол. Гитарку». И давай. “Володя, давай эту, давай ту! Самые антисоветские!” Он мне говорил лично…»[811]
Несомненный интерес представляет анализ личных взаимоотношений двух поэтов. В большинстве воспоминаний говорится о более чем положительном отношении Галича к Высоцкому, но вместе с тем — о сложном отношении Высоцкого к Галичу, где уважение и восхищение переплетались с ярко выраженной неприязнью. Вот красноречивое свидетельство коллекционера Михаила Крыжановского о том, как в мае 1968 года он записывал Высоцкого (коллекционеры датируют эту запись 9 июня — в ней содержится восемнадцать песен, причем пять из них принадлежат другим авторам): «Тут же я повез запись Галичу, который на тот момент находился в Ленинграде. Он прослушал и прямо-таки заболел: “Ну вот, надо же так!..”
Галич очень любил песни Высоцкого. Прямо балдел — и все просил послушать новые песни. Как бы это странно ни выглядело. Но настолько же Высоцкий не любил Галича. Помню ряд его высказываний.
Галич мне многократно: “Володичка, Володичка…” И потом, бывало, несколько раз по телефону: “Да, Мишенька, Володька-то застрелился!” Сколько раз у него было — то повесился, то застрелился»[812].
Сюда примыкает свидетельство Михаила Шемякина, относящееся ко второй половине 1970-х: «Володя не очень любил Галича, надо прямо сказать. Он считал Галича слишком много получившим и слишком много требовавшим от жизни. А я дружил с Сашей, очень дружил»[813]. Таким образом, негативные отзывы Высоцкого о Галиче относятся не к его творчеству, а к его судьбе «благополучного советского холуя», как впоследствии называл себя сам Галич.
Двойственность отношения Высоцкого к Галичу прослеживается во многих воспоминаниях. Например, по словам Ивана Дыховичного, Высоцкий «очень осторожно относился к Галичу. И вообще был ревнив по отношению к кому-то другому с гитарой в руках»[814], а вот, к примеру, режиссер Одесской киностудии Валентин Козачков, часто общавшийся с Высоцким начиная с 1967 года, наоборот, вспоминает, что тот очень уважительно относился к Галичу. Сохранился его рассказ о совместном выступлении двух бардов в одесском порту: «Во времена выступления на причале в первый раз не было записи. А во второй раз, когда были Галич и Володя, кто-то записывал. В тот раз Петя Тодоровский созвал столько народу! Договаривался-то насчет причала я по просьбе Тодоровского. Там мои товарищи работали старостами причала.
Галич тогда Говорухину песни писал к “Робинзону Крузо”. На титрах фильма “Робинзон Крузо” — Песни Александра Галича. Говорухин специально его вызвал, чтобы тот написал песню, зная, что у Галича очень тяжелое материальное положение. За песню тогда платили 150 рублей.
Высоцкий тоже оказался в Одессе — уж по каким делам, не помню. Он часто у нас бывал.
Галич с Высоцким были уже знакомы. Володя очень уважал Галича, он его называл “Александр Аркадьевич”. В разговорах — либо “Галич”, либо “Александр Аркадьевич”. Высоцкий очень хорошо о Галиче отзывался. Пел и его песни. Помню, была “Ах, осыпались с ветки елочки…” (так! — М. А.) — на смерть Пастернака. Еще то ли “Парамонову”, то ли “Отвези меня, шеф, в Останкино”[815]. “Про физика” — что-то не припоминаю, чтобы пел. Может — да, может — нет, потому что были очень сильные возлияния. Водка литрами лилась, уже не говоря про вино.
Галич Высоцкого хвалил, и Окуджаву вспоминал. Но он был грустный-грустный. Видимо, что-то предчувствовал и почти что не пил ничего. Хотя он был любитель, большой любитель, Александр Аркадьевич»[816].
Фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» был выпущен Одесской киностудией в 1972 году. Правда, Галич в титрах не упомянут, да и в самом фильме никаких песен нет. Может быть, Козачков видел титры еще до того, как фильм был утвержден цензурой, а после утверждения песни Галича, уже исключенного к тому времени из Союза писателей, и его фамилия были вырезаны? Такая версия представляется наиболее вероятной, однако в деле этого фильма, хранящемся в РГАЛИ[817] и охватывающем период с 18 января 1971 года по 10 ноября 1972-го, никаких упоминаний Галича нет.
Но продолжим разговор о взаимоотношениях двух поэтов.
По словам В. Козачкова, было одно их совместное выступление в кругу кинематографистов[818]. Еще одно подобное (или то же самое?) выступление упомянул Иван Дыховичный: «…был один концерт, на котором они выступали вместе. Это было в каком-то институте, и за этот концерт вызывали и того и другого. Галичу сказали, чтобы он не дергался, что если еще хоть один раз… А Володю просто пожурили, но он держался твердо»[819].
Отношение Галича к Высоцкому всегда было достаточно ровным. По словам фотографа Леонида Лубяницкого, «Галич был один из самых порядочных людей, с которыми я когда-либо встречался. Он ни о ком не говорил плохо, а Володе всегда симпатизировал»[820]. То, что Галич ни о ком не говорил плохо, подтверждает Ксения Маринина: «Если он не любил общаться, он просто не общался. А так, чтобы он кого-то ругал, я даже и не помню. Просто не хочу, и все. И все дела»[821].
Как на практике Галич симпатизировал Высоцкому, видно из свидетельства Валерия Лебедева, в котором речь идет о начале 1970-х годов: «Еще в начале знакомства спрашивал его о Высоцком. Оценил высоко. Даже в незамысловатых (как бы) стихах сразу выделил строчку: “Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика”.
— Это, — сказал Александр Аркадьевич, — очень хорошо. И это — тоже: “Хвост огромный в кабинет / Из людей, пожалуй, ста, / Мишке там сказали — нет, / Ну а мне — пожалуйста”. Пожалуй, ста и пожалуйста — это просто здорово»[822].
Вслед за Михаилом Крыжановским о влюбленности Галича в песни Высоцкого говорит и Станислав Рассадин: «Галич щедро расхваливал мне помянутого Кукина, влюблял, по правде сказать, не совсем преуспев в этом, в Высоцкого»[823].
Также и Михаил Львовский, рассказывая в одном из интервью об исполнении Галичем блатных песен («городского романса»), привел такую деталь: «Галич был их образованным и тонким знатоком. Он, к примеру, подхватил одну из самых ранних песен Высоцкого “Их было восемь”: “В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел…”»[824] Что значит «подхватил»? Вероятно, надо понимать так, что эта песня ему нравилась, и он любил ее напевать. (Кстати говоря, у обоих поэтов были двоюродные братья, отсидевшие в лагерях: у Галича — Виктор, у Высоцкого — Николай. И это, несомненно, послужило одним из источников появления в их творчестве лагерной и «блатной» тематики.)
Галич действительно высоко ценил песни Высоцкого, и поэтому нас не должно удивлять свидетельство Михаила Шемякина, что «Охоту на волков» он впервые услышал… в доме у Галича, когда они оба уже были в эмиграции: «Я услышал ее у Галича и был потрясен. В песне не было ни одной фальшивой ноты, в ней было все — ритм, цвет, композиция, гармония. Речь шла об облаве на наше поколение бунтарей, инакомыслящих. Гениальная вещь!»[825]
Так что во многом благодаря Галичу мы теперь имеем высококачественные «шемякинские» записи Высоцкого: во время очередного приезда Высоцкого в Париж они познакомились, и в течение пяти лет Шемякин записывал его в своей студии на лучшей в то время музыкальной аппаратуре. Об этих записях, конечно же, вскоре узнал и Галич, что следует из признания Шемякина, прозвучавшего во второй серии четырехсерийного документального фильма Алексея Лушникова «Высоцкий» (2001): «Я очень любил Галича. Мы с ним дружили, и он очень хотел, чтобы я тоже сделал его пластинку, но, к сожалению, нелепая смерть оборвала его жизнь». Между тем шестью годами ранее Шемякин вспоминал об этом совсем иначе: «С Галичем мы не раз встречались в Париже, ему я помог выпустить один или два диска — и здесь я тоже выступал в качестве звукооператора. Я считаю, что добился определенных успехов, заслужив даже похвалу такого суперпрофессионала-звукооператора, как Михаил Либерман»[826]. Интересно: о каких дисках идет речь?
Находясь за границей, Высоцкий, естественно, не мог публично высказываться о «злостном невозвращенце» Галиче: если бы он это сделал, то не исключено, что путь обратно в СССР был бы ему закрыт — власти уже давно намекали Высоцкому, что не будут возражать, если он останется на Западе, и искали повод избавиться от него (однажды чиновник из ОВИРа прямо ему заявил: «Вы так часто ездите — может быть, вам проще там остаться?»[827]). Поэтому, как вспоминает переводчик Давид Карапетян: «интервью на политические темы Высоцкий за границей избегал. Особенно интересовало журналистов его мнение о Галиче. Володя убедительно просил их не задавать о нем вопросов. Имея на руках советский паспорт, он обязан был вести себя лояльно: “Хвалить Галича в моем положении значило лезть в политику, критиковать же изгнанника я не хотел и не мог”. И с легкой иронией добавил:
— Сейчас Галич меня всячески расхваливает, всем рекомендует слушать»[828].
Последняя фраза Высоцкого говорит о том, что во время поездки за рубеж он встречался с Галичем. Такую же информацию приводит сотрудник радиостанций «Немецкая волна», Би-би-си и «Свобода» Артур Вернер. По его словам, Высоцкий «нередко бывал в Париже и всегда приходил к Галичу, называя его своим учителем»[829]. А Михаил Львовский вспоминает, что «в одну из моих первых встреч с Высоцким он сказал, что считает Галича своим учителем. Да это было и без его признания видно»[830]. Кстати, молва приписывает Высоцкому и следующее изречение: «Мы все вышли из Галича, как из гоголевской “Шинели”»[831].
Давиду Карапетяну во второй половине 1960-х Высоцкий также говорил о Галиче как о своем учителе: «Да, он помог мне всю поэтическую форму поставить»[832]. А 27 июня 1974 года, через два дня после вынужденной эмиграции Галича, Высоцкий, находившийся вместе с Театром на Таганке на гастролях в Набережных Челнах, на вопрос корреспондента газеты «Комсомолец Татарии» (Казань) о его отношении к Галичу прямо сказал: «О Галиче вы теперь уже не напишете. Да, я любил многие песни Галича. Он — профессионал. Правда, один элемент у него сильный и преобладающий — сатирический. Может, поэтому музыкальный и текстовый отстают. Да меня ведь тоже ругают за однообразность песен. Но ведь они — все разные»[833]. Это высказывание, разумеется, вырезали, и лишь 22 января 1989 года оно было опубликовано той же газетой в полном тексте интервью.
Однако и Галич не остался в долгу. В ноябре 1974 года на «Свободе» он также не слишком лицеприятно высказался о песнях Высоцкого — на сегодняшний день это едва ли не единственное его критическое высказывание о поэзии Высоцкого: «Высоцкий более жанров [чем Окуджава], но он, к сожалению, я бы сказал, более неразборчив: у него есть замечательные произведения, но рядом с ними идет поток серых и невыразительных сочинений. А потом опять вырывается какая-то поразительная, прекрасная и мудрая песня. Вот если бы я мог давать советы, то я бы ему посоветовал (смеется) строже подходить к тому, что он делает. Потому что он способен делать вещи замечательные»[834].
Подобным же образом Галич высказался о Высоцком и незадолго до своей эмиграции в присутствии Александра Мирзаяна: «…о Высоцком Александр Аркадьевич сказал, что Владимир Семенович свой дар не туда направляет. Что он должен быть трибуном. Что он должен идти вот по этой линии. То есть он знал, что должен делать Высоцкий, да? И он говорил даже иногда такие не сильно лицеприятные слова: “А, Володя вообще не туда пошел. Не то делает”»[835].
Галич хотел, чтобы все песни Высоцкого были такими же остросоциальными и мощными по своему воздействию, как «Банька по-белому» и «Охота на волков». Однако у Высоцкого была другая позиция. В отличие от Галича, искупавшего свою жизнь благополучного драматурга острейшими политическими песнями, он не стремился жечь мосты, а, наоборот, хотел «вписаться в поворот», добиваясь легализации своего поэтического творчества. Поэтому на публичных выступлениях «разбавлял» программу многочисленными жанровыми песнями, которые не были такими острыми, да и репертуар его заранее согласовывался с соответствующими инстанциями, а в первых рядах всегда сидели чиновники и сотрудники КГБ, бдительно следившие за ходом концерта. Но и даже в такой ситуации Высоцкий иногда позволял себе спеть одну-две песни, не предусмотренные цензорами, но вместе с тем постоянно следил, что у него не вырвалось какое-нибудь резкое слово в адрес существующего режима или власть имущих. Об этом свидетельствует Михаил Шемякин: «Он говорит: “Мишка, у каждого из нас свой обрыв. У тебя твой обрыв — это когда тебя, арестованного, вели по этому нескончаемому коридору коммунальной квартиры. А мой обрыв — это край моей сцены. Я сказал не то слово или слишком погорячился, или слишком громко крикнул то, что меня мучает, — это и будет моим концом”»[836].
Возможно, из-за приведенного выше высказывания Галича на радио «Свобода» Высоцкий первое время избегал встреч с ним за рубежом, о чем стало известно из рассказа артиста Театра на Таганке Дмитрия Межевича. В 1975 году он спросил Высоцкого, только что вернувшегося из Парижа, встречался ли тот с Галичем. Высоцкий ответил: «Да знаешь, нет желания»[837]. Однако вскоре они «помирятся», и встречи будут возобновлены. А о влиянии Галича на свое раннее творчество Высоцкий скажет и в 1976 году во время беседы с запорожским фотографом Вячеславом Тарасенко, который, правда, прервет его на самом интересном месте: «А кто твои учителя по цеху?». — «К песенному творчеству, конечно, Окуджава подтолкнул. Вот сейчас я и он — по Союзу. Ну, Галич очень сильно, конечно, но…» — «А Визбор, Кукин?» — «В отношении Визбора ничего не скажу. А Кукин? Так тот хоть ни на что не претендует…»[838]
Бывало даже, что один из бардов играл на гитаре другого. Например, в 1975 году, когда Галич уже был в эмиграции, Высоцкий, снимавшийся в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», вместе с режиссером этого фильма Александром Миттой приехал на квартиру авторов сценария — Дунского и Фрида (они жили в том же писательском доме у метро «Аэропорт», через стенку). А когда Высоцкий захотел спеть две песни, ему принесли «личную» гитару Галича![839]
Вообще это было очень характерно для Галича — оставлять гитару у своих друзей, чтобы каждый раз не таскать ее с собой. Ленинградский артист Игорь Дмитриев, живший на площади Льва Толстого, возле Черной речки, вспомнил аналогичный случай: «Я не могу сказать, чтобы моя квартира была оазисом диссидентства. Но сюда приезжал Саша Галич. Он тогда был, по сравнению с нами, безумно богат: по всей стране шла его пьеса “Вас вызывает Таймыр”, и ему отчислялись гонорары. Только вот гитары у меня в доме не было. Поэтому Галичу нередко приходилось брать такси и ехать на поиски инструмента. Наконец ему это надоело, и дело кончилось тем, что он привез из Москвы и подарил мне гитару. Она жива до сих пор»[840].
Любопытно, что не только Высоцкий играл на гитаре Галича, но и наоборот! Вот эпизод из воспоминаний художника Николая Дронникова, где речь также идет о второй половине 70-х годов, когда Галич уже был в эмиграции: «В библиотеке висит гитара, купленная на Кузнецком с однополчанином Керовым. В Москве ее подарил одной француженке.
Только добрая душа возвратила гитару в Париже, приходит Галич. Взяв пару аккордов, передал ему, сказав: “На ней играл в Москве Высоцкий”»[841].
Что же касается отношения Высоцкого к эмиграции, особенно в последние годы его жизни, то на этот счет имеются разные свидетельства. По словам Михаила Шемякина, Высоцкий «понимал, что на Западе ему нечего делать. В этом он убедился прежде всего на примере Галича. И когда мы с ним обсуждали, смог ли бы он жить на Западе, Володя говорил: “Ну что, два-три концерта, как у Саши Галича? А потом что? Петь в кабаках?”»[842] Для сравнения приведем более раннее интервью Шемякина, где встречаются другие детали: «Володя знал с моих слов печальную судьбу в эмиграции Александра Галича. <…> И он мне говорил: “Мишка, ну что я могу? Я бы хотел, допустим, жить, условно скажем, на Западе и работать. Языка не знаю. Как Галич, дам два-три концерта, а потом что? Петь где-нибудь в ресторанах? Я этого не хочу”. Но когда он вернулся из Америки, она настолько его увлекла, что он стал говорить (по-моему, у меня где-то даже письмо есть): “Мишка, мы с тобой должны жить в Америке!” В Америку он просто влюбился»[843].
Хотя Высоцкий не участвовал ни в каких политических акциях протеста и вообще сторонился диссидентского движения, а весь свой конфликт с властями «прятал» в стихи и песни, однако к нескольким наиболее известным диссидентам (помимо Шемякина) — например, к Сахарову[844], Солженицыну[845] и Григоренко[846] — относился с большим уважением.
Галич же, как известно, дружил и с Сахаровым, и с Григоренко, причем последнему даже посвятил знаменитую песню.
Общность наблюдается и в реакции обоих поэтов на вторжение советских танков в Чехословакию.
Галич, узнав об этом, написал «Петербургский романс». Высоцкий же хотя ничего такого специально не написал, однако отнесся к этому событию так, как и подобает порядочному человеку. Рассказывает детский хирург Станислав Долецкий: «…летом 1968 года Мариночка [М. Влади] должна была выступать в Зеленом театре парка им. Горького. А меня кто-то из них с Володей пригласил туда. Но вдруг объявили, что наши войска вступили в Чехословакию, и Марина заявила, что перед людьми государства, которое совершило такое, она выступать отказывается. Я точно помню эти слова, и горе, и огорчение: они с Володей приходили тогда ко мне. <…> Разговор я помню четко, потому что мой друг был командиром десантных войск, которые высадились в Праге, — он агрессию и осуществлял»[847].
Вместе с тем личное отношение Высоцкого к Галичу всегда оставалось сложным — он ревниво относился к его успеху у многих ценителей авторской песни, в том числе и потому, что при сравнении оценки часто были не в пользу Высоцкого.
В апреле 1970 года у коллекционера Валентина Савича другой коллекционер Михаил Крыжановский, специально приехавший из Ленинграда, записывал Высоцкого. Тот прибыл на машине, быстро спел «Песню о масках», «Песню про первые ряды» и «Ноты» и уже собрался уходить, как вдруг Крыжановский начал возмущаться: что же это я, мол, приперся из Питера ради каких-то трех песен?! «Короче говоря, я в тоске. Три песни. Говорю: “Ну ладно, тогда что ж, поеду-ка я к Галичу”. И тут второй раз я увидел его во гневе. Он крутанулся этак на одном месте, улыбочка такая с пружинкой: “Ну ты, б…ь, ну поезжай к своему Галичу!”»[848]
Похожий случай произошел в конце 1970-х, уже после смерти Галича. Высоцковед Борис Акимов, друживший с Высоцким и помогавший ему готовить к печати сборник его стихов, однажды пришел к нему домой, и они начали разбирать рукописи: «И тут я говорю: “Владимир Семенович, а вот эта строка (сейчас уже не помню какая) похожа на галичевскую”. Он сразу: “Какая?” Я показал, он взглянул и тут же сказал: “Иди домой, мне сейчас некогда”. А собирались как раз поработать подольше…»[849]
Между тем встречались они довольно часто.
Сокурсница Высоцкого по Школе-студии МХАТ Таисия Додина рассказывала: «Когда мы учились на третьем курсе, на сцене нашей студии репетировали “Матросскую тишину” Александра Галича. Репетировали актеры будущего театра “Современник”. Уже тогда Володя встречался и общался с Галичем. А следующая встреча произошла в Риге. Высоцкий распределился в Театр Пушкина вместе с Буровым, Ситко и Портером. И уже летом они поехали на гастроли в Ригу. У меня был свободный диплом, я поехала вместе с ними. В Прибалтике мы встретили отдыхавшего там Галича. И я хорошо помню, что мы собирались в нашем большом номере, много разговаривали, и Галич пел. Пел и Володя»[850].
Поскольку Высоцкий поступил в Школу-студию МХАТ летом 1956 года и сразу на второй курс, а генеральная репетиция «Матросской тишины» состоялась уже в январе 1958-го, то, судя по всему, знакомство Галича с Высоцким датируется 1957 годом. А в Театр Пушкина Высоцкий поступил в 1960 году, по окончании МХАТа, и, согласно воспоминаниям Т. Додиной, летом того же года состоялась их очередная встреча. Тогда еще ни Высоцкий, ни Галич не писали своих песен, поэтому исполнять они могли только чужие тексты — вероятно, романсы и блатной фольклор.
Об этом же периоде сохранились воспоминания Марины Добровольской: «…когда мы учились на третьем курсе, будущий “Современник” репетировал “Матросскую тишину”. Репетировал на нашей учебной сцене. <…> Когда спектакль “Матросская тишина” запретили, мы хотели ставить эту пьесу в своем молодежном экспериментальном театре. И даже все вместе ходили к Галичу домой, он жил у метро “Аэропорт”. И Высоцкий был вместе со всеми. Галич тогда дал нам свою пьесу»[851], а также актера и музыканта Валентина Никулина: «…я с ним [с Галичем] был, слава богу, — так посчастливилось — очень хорошо знаком. И это все начиналось тогда, когда еще мы только-только с Владимиром Семеновичем Высоцким (для меня — Володей) были в студии Художественного театра, мы к нему уже приходили и просили его ЧТО-ТО НАПИСАТЬ»[852].
В начале 1962 года в Московском театре миниатюр ставилась смешная миниатюра Галича «Благородный поступок». На сцене было юбилейное торжество в честь того, что театр получил, наконец, постоянное помещение в саду «Эрмитаж» на Большом Каретном. Миниатюру поставил Марк Захаров, а в массовке был занят чуть ли не весь состав — актеры попеременно выходили на сцену. И среди них был 24-летний Владимир Высоцкий, поступивший в этот театр в феврале 1962 года и в мае вновь вернувшийся в Театр Пушкина[853].