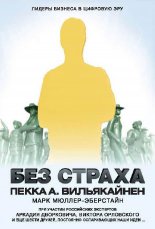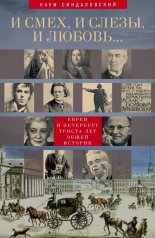Превращения смысла Смирнов Игорь

В антигуманизме ли Хайдеггера, в гуманизмe ли Сартра ничто конституирует субъекта (страха либо свободы). Этот же субъект в роли автора художественного текста получает в теории М.М. Бахтина свойство «вненаходимости» и определяет собой литературную практику ленинградского авангарда второй волны. Подоплеку абсурдистской поэтики обэриутов-чинарей составляет самоликвидация, которую осуществляет «я», превращающееся тем самым в эквивалент объектности, утрачивающее свой (выбираемый желанием) объект и наталкивающееся на недифференцированное всё что ни есть. Отдельные реалии попадают в поле зрения автора в произвольной комбинации; более того, чем беспричиннее их сочетание, тем яснее, что за объектами кроется объектность как таковая. Ничто и всё в подобном творчестве одинаковы вне и помимо гегелевской диалектики становления: они обратимы. Смешивая позитивную инфинитность (скажем, натурального ряда чисел) с негативной, с бездонным ничто, Хармс писал в заметке «Нуль и ноль»: «…учение о бесконечном будет учением о ноле»108. Допустимость паннегативности, всепорожности в фикциональных текстах карнавализует и демистифицирует философию, сочленяющую бытие и ничто, изобличает ее алогичность: praesentia и absentia– взаимоисключающие величины, не выводимые друг из друга, и если противоположное справедливо, то оно– поле приложения художественной фантазии109.
После того как социокультура 1920—1950-х годов угрожающе увеличила объем аннулирования, опознав в этой процедуре ведущую интенцию человека и вложив в его руки оружие для истребления планетарной жизни, постмодернизм задался целью устранить ничто из истории или хотя бы нейтрализовать его организующую действенность в чередующихся современностях. На пороге к постмодернизму Теодор Адорно («Негативная диалектика», 1966) обвинил философию, поглощенную размышлениями о ничто, в том, что она, игнорируя единичности, ответственна за реализацию своих абстракций в лагерях смерти. Индивиду не нужно более бояться Аушвица, если загнать туда, за колючую проволоку, философию,– такова логика Адорно. Расставаясь с антропологизацией ничто, собственно постмодернизм понадеялcя проститься с человеком, субъектом и автором, а в своем учении о симулякрах– и с социокультурой. Призрачны-симулятивны для поколения 1960-х годов не данности мира сего, как для символистской ментальности, а надстраивающийся над ним символический порядок. В радикальном антихристианском и антиаристотелевском умственном жесте Жан Бодрийяр («Символический обмен и смерть») предложил отказаться от отправки небытия в небытие и признать вместо этого фактичность смерти, попирающей усилия социокультуры спастись от нее. Если Гегель сакрализовал ничто, имея в виду сущность жертвоприношения, то Жиль Делёз (как и многие иные постмодернисты) обрек на жертву в «Логике смысла» сами сущности, выхолостив из феноменов ноуменальность. Где нет идей, где есть одно поверхностное, нет и истории как ломки парадигм, решительного замещения старого новым. Для Жака Деррида («Comment ne pas parler. Dngation», 1987) релевантно только фрейдовское защитное отрицание, формирующее тайну, парализующее отрицание, которое адресует нам Другой. В то время как у Деррида запирательство, будучи всеобщим, отодвигает выявленность смысла в неопределенное вечное «завтра», Жан-Люк Нанси, подводя итог постмодернизму, объявил, что уже постановка вопроса о смысле должна подразумевать его конечность110. Но можем ли мы вообще думать, попав туда, где больше нет смысла? Логически закругленный, постмодернизм перспективировался в саморазрушение.
Постмодернизм разработал и позитивную программу, о которой здесь не место говорить. Что касается его намерений преодолеть авангардистски-тоталитарное прошлое, то постмодернизм выдвигал взамен одного ничто другое. Смысл по определению аннулируем. Как было сказано, он правда о человеке. Когда же он удостоверяет себя в качестве истины, корреспондирующей с внечеловеческим универсумом, он исступает из себя в ничто. Чтобы избежать опасностей, которыми чревато порождение смысла, постмодернизм вовсе отрекся от него, финализовав тем самым абсолютный негативизм, присущий творческому сознанию. Только ничто и ничтожит ничто. Учитывая опыт постмодернизма, стоит перефразировать Хайдеггера: Allein Nichts nichtet sich selbst. Как бы ни старалась социокультура вырваться из модернизма, она продолжает быть историчной, что значит: зияющей пустотами. Соревнование истории с мифоритуальной «преисторией»– игра с нулевой суммой в знаменателе. Остается сказать, что этот вывод особенно уместно выразить на том языке, в котором бытийной связкe эквивалентен прочерк.
VII. Формализм и нигилизм
Одна из инкарнаций смысла– технические изобретения. Если в театрализованной социокультуре смысл воплощает себя так, как будто бы он был всего-навсего значением, утаивая свою амбивалентность (мы значим что-то, исполняя публичныe роли, но никогда не исчерпываемся ими), то в орудийно-машинной области он неявен, потому что служит решению практических проблем. Между тем за назначением технических устройств, за извлекаемой из их применения пользой можно распознать в них самих результаты теx же ассоциативныx операций ума, которые ведут к надстраиванию символического порядка над биофизическим. Так называемые «композитные орудия» (например, лук и стрелы), в которых историческая антропология видит начало цивилизационного прогресса111, показывают, что человек уже на очень раннем этапе своего становления мастерил инструменты по аналогии с тем, как он образовывал смыслы из отдельно взятых значений. Техника открывает нам опасность не столько бытия, как полагал Хайдеггер, сколько утилизации смысла, который ведь несет в себе свою аннулируемость.
После петровских реформ, придавших шоковым способом русской социокультуре новое цивилизационное обличье, техника была возведена отечественной мыслью в ранг некоего магического средства, перед которым ставились отнюдь не прикладные задачи. В федоровской «философии общего дела» техносфере предписывалась функция по воскрешению отцов, по избыванию смерти. Учение Флоренского об «органопроекции» не просто повторяло позитивистские идеи Эрнста Каппа, но и подразумевало, что homo faber, продлевая свое тело в инструментах, устанавливает «равномощность» микрокосма и макрокосма, устремляется в бесконечность, к Богу. В то время как для Шпенглера духовная культура вырождается, переходя в утилитарно ориентированную цивилизацию, в ленинском плане по электрификации страны и в сталинском лозунге «Техника решает всё» как раз цивилизационные успехи гарантируют обществу более чем выживание– восхождение на высшую ступень развития112.
Далеко не случаен тот факт, что формализм, техницизировавший гуманитарные науки, расцвел именно в России, откуда он распространил свое влияние на всю евро-американскую культуру. Конечно же, тенденции, сходные с русским формализмом, складывались в Европе 1910—1920-х годов и автохтонно, помимо его воздействия. Но там они не достигли уровня той радикальности, которая была свойственна научным моделям, выработанным ОПОЯЗом. Своенравно перетолковывая «теургию», формалисты превратили художественный текст из орудия по выкликанию божественной инобытийности, каким он представлялся в соловьевско-символистской традиции, в продукт довлеющей себе технической сноровки. Искусство инструментально, но не имеет при этом ни прикладной, ни религиозной ценности. Смысл, который готов обратить в ничто и внeположную ему действительность, и себя, объединил в раннеопоязовской доктрине оба эти типа аннулирования, оставив нетронутой после такой сокрушительной двойной негации только одну позитивность– мастерски найденного выразительного «приема». Русский формализм до сих пор притягивает к себе внимание интерпретаторов, потому что он был важным стартовым этапом на том пути, который вплотную подвел социокультуру ХХ века к провалу– к возможности самоистребления.
За неоднородностью формальной школы, в которой группа радикалов (В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, Р.О. Якобсон, О.М. Брик и другие) расходилась во взглядах с учеными умеренного толка (В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, Б.В. Томашевский, Г.О. Винокур и другие113), скрывались разные логики научного мышления. В первом случае оно зиждилось на контрадикторном принципе (А(а) v не-А(а = o)), во втором– на контрарном (А(а) v не-А(а = o, a1)). Сосредоточенность умственных операций на контрадикторности предполагала, что данное теряет свой признак в Другом. И, напротив того, для исследователей, предпочитавших контрарные оппозиции, Другое отличалось от данного не только отсутствием признака, но и наличием собственного качества.
Радикальный формализм дал себе отчет в том, какова его логическая установка, сравнительно поздно, подводя в 1930-х годах итоги своего становления. В статье «Нулевой знак» («Signe zero», 1939) Якобсон назвал «противопоставление некоторого факта ничему» (употребив термин «контрадикторность») основой функционирования языка и увидел задачу нарождающейся семиологии в выяснении отношения между «знаком и нулем»114. На деле, однако, неодинаковые подходы к выстраиванию оппозиций определились уже с первых шагов формальной школы, еще и не будучи отрефлексированными. С самого начала движения выбор между строгим и нестрогим дифференцированием расколол его участников в понимании того, каков предмет их занятий. Целью контрадикторного научного сознания было максимальное специфицирование, безоговорочное изолирование литературы в ее «литературности» (Якобсон) и искусства как приема «остранения» (Шкловский). С точки зрения гораздо менее решительно настроенного Жирмунского («Задачи поэтики», 1919—1923; «К вопросу о “формальном методе”», 1923), художественное творчество лишь частично суверенно, будучи, с другой стороны, на каждом этапе развития обусловлено «общим сдвигом духовной культуры»115.
Cтрогие разграничения, которыми оперировал бескомпромиссный формализм, могли ослабляться благодаря тому, что полноте некоего признака оппонировало не его отсутствие, а его минимальное присутствие (А(а) v не-А(а < 1)). Такого типа модели были характерны для теоретических изысканий Тынянова. В статье «Литературный факт» (1924) он рассматривал историю словесного искусства в виде дисконтинуальной («…новое явление сменяет старое <…> и, не являясь “развитием” старого, является в то же время его заместителем»), но вместе с тем признавал, что перестающее быть современным зачастую не исчезает вовсе, а только делается умаленной ценностью. Этот процесс Тынянов концептуализовал в пространственных терминах (которые будут позднее подхвачены Ю.М. Лотманом): «…новые явления занимают <…> центр, а центр съезжает на периферию»116. Примерно так же Тынянов обрисовывал в 1923 году разность словарного и поэтического значения лексем в стихотворной речи, которая, по его мнению, семантически организуется прежде всего за счет смежности своих единиц, то есть метонимическим способом: «…на тесноте стихового ряда основано явление “кажущейся семантики”: при почти полном исчезновении оснoвного признака появление “колеблющихся признаков”: эти “колеблющиеся признаки” дают некоторый слитный групповой “смысл”, вне семантической связичленов предложения»117.
Контрадикторность и контрарность служили предпосылками для возникновения разногласий внутри формализма, но отнюдь не являли собой некую догму, которой конкурирующие лагеря непременно должны были придерживаться. В тех обстоятельствах, когда умеренные исследователи имели дело с родовым понятием литературы, они прибегали к строгим противопоставлениям, дабы размежевать виды (например, поэзию и прозу), из которых складывался род. Контрарность была исчерпана при дифференцировании (по контрасту и сходству) литературы и прочей духовной деятельности. Раз литература совмещает маркированность и немаркированность, то ее подразделения разрывают это единство. Во «Введении в метрику» (1925) Жирмунский определил поэзию так, что проза выступила применительно к ней беспризнаковым членом оппозиции: «Стихотворная речь отличается от прозаической закономерной упорядоченностью звуковой формы»118. В обратном порядке: поскольку формалисты-радикалы позиционировали литературу в отрыве от остальных «рядов» культуры, они могли представлять себе поэзию и прозу в качестве пересекающихся множеств. В «Иллюзии сказа» (1918) Эйхенбаум писал: «Стих <…> есть особого рода звучание– он мыслится произносимым и потому текст его есть только запись, знак. Но не бесплоден такого рода “слуховой” анализ и в области художественной прозы. В ее основе также лежит начало устного сказа»119. В границах отмеченности, которую Эйхенбаум вменял любой художественной форме, попросту нельзя было обнаружить– при дальнейшем дроблении изучаемых феноменов– какую бы то ни было беспризнаковость. Два лагеря формалистов обменивались своими логическими принципами там, где ученые переходили от обобщений, касающихся всего искусства, к его подклассам.
Сказанное о логике, довлевшей тем или иным формалистам, объясняет многое в их поведенческих тактиках и межличностных контактах. Ясно, почему соратников Шкловского и Якобсона, собравшихся в ОПОЯЗе, отличали весьма высокая степень групповой сплоченности и хлесткая агрессивность, направленная вовне, будь она защитного или наступательного порядка. Между тем формалисты с более умеренными теоретическими претензиями, как будто предрасположенные к толерантности,– странным лишь на первый взгляд образом– не составляли сколько-нибудь единого коллектива (такие ученые, как Жирмунский или Виноградов, были скорее одиночками, чем представителями некоего группового духа).
В той мере, в какой формалистский авангард (о нем и пойдет речь ниже) аннулировал Другое, он смыкался с традицией нигилизма120, который следует понимать как универсализацию контрадикторности. Вряд ли можно согласиться с Хайдеггером, полагавшим, что нигилизм был безусловно основоположным движением («die Grundbewegung»121) в истории западной мысли. Но, даже избегая хайдеггеровского преувеличения, приходится сказать, что нигилизм берет старт в европейской культуре очень рано. Универсализуя контрадикторность, нигилизм был общезначимым отрицанием, которое тем не менее нуждалось, дабы состояться, в основании, в аргументе. Нигилизм опустошал один мир, беря за опору другой. Наиболее фундаментально в человеческой практике различение того, что мыслится, и того, что чувственно воспринимается. В своем генезисе нигилизм стоял перед выбором, что именно зачеркивать– всю совокупность головных представлений или физическую действительность– также в полном ее объеме. И та, и другая возможности, как говорилось, имманентны смыслопорождению. В одной из старых работ я назвал первую из этих тенденций «деидеализирующей», а вторую– «деонтологизирующей»122. Всякий нигилизм разоблачителен: «деидеализирующий» расколдовывает метафизику, «деонтологизирующий» не признает, что мы постигаем вещи такими, каковы они суть.
Началом нигилизма, оспорившего спекулятивный ум, явился античный кинизм, верно оцененный Петером Слотердайком в качестве скептической реакции на учение Платона об «эйдосах»123. Нигилизм, не доверявший, вразрез с кинизмом, сенсорному опыту, распространяется после возникновения христианства, выражая себя в гностических сектах и у Плотина в неприятии всего материально-низкого, земного. Обе эти версии нигилистического мировоззрения будут затем, модифицируясь, чередоваться по ходу социокультурной истории. Так, «деидеализирующий» нигилизм найдет себе продолжение у шестидесятников-позитивистов XIX века, абсолютизировавших полезный и целесообразно организованный труд, которому они предназначали быть спасением от пустой растраты интеллектуальных сил. Знаменательно, что один из самых талантливых публицистов этого поколения, Писарев, несмотря на свой антиавторитарный пафос, призывал читателей статьи «Реалисты» (1864) не забывать «старика Диогена»124. Отрицание того, что Слотердайк называет «высокой теорией», достигает во второй половине XIX века уровня самосознания, которое нуждается, зная своe происхождение, в собственном имени и отыскивает его в уже ранее (в эпоху романтизма) пущенном в оборот термине «нигилизм»125. С наступлением символизма «деидеализирующий» нигилизм уступает место «деонтологизирующему», в частности, в названных выше сочинениях Минского, где феноменальная действительность объявляется «мэонической».
Приравнивая семантическое содержание художественных текстов к незначащему для конституирования искусства «материалу», формализм в опоязовской редакции возобновлял «деидеализирующий» нигилизм после того, как тот потерял актуальность у символистов. Это возрождение сопровождалось, однако, далеко заходящим трансформированием традиции, заложенной кинизмом. Aнтичный протест против засилья спекулятивных построений воплощался поведенчески– в дерзких действиях, на которые отваживались киники (а если и в высказываниях, то близких к перформативам). Последующее развитие идущей отсюда линии, запечатлевшись дискурсивно, не было свободно от противоречивости: идеократия опровергалась в идейных же продуктах (пусть шестидесятников позапрошлого столетия и манил к себе бунт, пусть они и хотели бы увенчать свою деятельность в action directe). Формализм устранил такого рода противоречивость посредством того, что техницизировал сам умственный продукт, придав ему черты ремесленного изделия. Сконцентрировав научное внимание на воображении в его наиболее очевидном проявлении, на художественном творчестве, члены ОПОЯЗа старались показать, что фикциональность даже во всей своей несомненности– это не интеллектуальная конструкция, а результат умения, навыка или реализация возможностей, заложенных в способности человека к общению, в языке. В опоязовском исполнении нигилизм обнажил свою операциональность. «Деидеализирующее» отрицание перестало фундировать себя как отправляющееся от чувственного восприятия и социофизической среды, утратило субстaнциальность, сделалось структурным, совершаясь внутри текстового мира. Снимая парадоксальность, свойственную отрицанию мыслимого мыслящим и оставляющую вот уж воистину смешанное впечатление, формализм раскрыл ту знающую только единицы и нули строго двузначную логику, которая пряталась в глубине нигилизма в любом его изводе.
Поскольку формализм предпринимал общезначимое контрадикторное отрицание в ограниченном приложении к искусству, постольку он был философичен, не став философией (по тому же принципу, по которому Якобсон требовал от гуманитариев заниматься «литературностью», а не «литературой»). Суждения о художественных текстах заняли то место, которое прежде принадлежало философскому самосознанию: «остранение» у Шкловского эквивалентно тому из-умлению, к которому Античность возводила мудрое созерцание вещей. Нигилизм подвергся в работах опоязовцев не только формализации, но и редуцированию в объеме, сузил свой мироохватный масштаб будучи приложенным к эстетической продукции. Хотя формалисты и ссылались время от времени на классическую философию (прежде всего на Канта), они отнюдь не ставили себе целью создать понятийную систему, тягающуюся в своей всеобъяснительности с философией. И степень их метафизической образованности, и философские антецеденты их теорий не очевидны126. Если говорить объективно, не претендуя на выяснение фактических интердискурсивных связей, имевших релевантность для формализма, самой родственной ему была та версия в аристотелевской традиции127, которую выдвинул в трактате «О причине, начале и Едином» Джордано Бруно. «Мировая душа» у Бруно привносит форму в материю и сочетает все вещи в подобии художественного произведения. Эта абсолютная способность сущего обладать формой может быть схвачена, по Бруно, только с помощью отрицания (то есть отвлечения от всего, что актуализовано). Ноланец формализовал посредством отрицания Божественный интеллект так же, как столетия спустя члены ОПОЯЗa сведут к технике человеческие творения, выхолостив из них идеологичность128.
Формальное начало нейтрализует в философии Бруно противостояние интеллектуального и субстaнциального, как бы возвращает во «Всеединство» выпавшую оттуда у Плотина материю. Сходно с этим опоязовские теории, будучи по происхождению нигилизмом «деидеализирующего» типа, вступали тем не менее в контакт и с его «деонтологизирующим» антиподом. Как по преимуществу операциональный, формалистский нигилизм ставил само отрицание выше, чем зачеркиваемые с его помощью термы. Не только «материал» словесного искусства выносится в опоязовских штудиях за скобки литературоведения, но и формы, остающиеся за вычитанием их семантического наполнения, отрицают у Шкловского и Тынянова одна другую в процессе исторической борьбы, «деканонизации» господствовавших экспрессивных «установок».
Реанимируя сразу обе тенденции в нигилизме, формалисты, однако, использовали в приложении к ним неодинаковые стратегии, которые иногда, впрочем, совмещались (не берусь судить, насколько намеренной была эта работа с наследием). Нигилизм с кинической родословной переводился из плана жизнестроения в план автореферентного, самоценного текстостроения. К примеру, телесная, сниженно театрализованная полемика античных киников с платонизмом превращается в знаменитой статье (1919) Эйхенбаума о «Шинели» в артикуляционную мимику и звуковой жест, которыми якобы исчерпывается художественная задача, решавшаяся Гоголем. Что же касается «деонтологизирующего» нигилизма, то он входил в предпосылки формальной школы так, что обретал здесь некую фактичность, каковой был лишен в качестве головного по преимуществу упражнения. Вполне в духе «мэонизма» Минского Тынянов чрезвычайно интересовался несуществующим, пустыми местами129, но в «Проблеме стихотворного языка» ими оказываются отсутствующие-в-присутствии, графически обозначенные Пушкиным «пропущенные строфы» в «Евгении Онегине».
В тех случаях, когда «деонтологизирующий» нигилизм бывал и жизненной практикой, он воспринимался формалистами не как удаление из мира сего в инобытие, но как трансцендирование языка и в этом толковании служил «готовым предметом», подтверждающим их собственные тезисы о природе поэтической речи. К христианскому гностицизму формалисты были приобщены не столько непосредственно, сколько в своем обращении к его поздним филиациям, каковыми явились русские мистические секты130. Цитируя хлыстовские глоссолалии в статье «О поэзии и заумном языке» (1916), Шкловский менее всего солидаризовался с религиозностью сектантов, добивавшихся духовного преображения в экстатическом изнурении плоти. Ему было важно привести доказательство того, что язык способен переиначиваться в сугубую звуковую материю, не зависимую в сектантских песнопениях от обозначения реалий. В конечном итоге подход Шкловского к нигилизму с гностическими корнями конвергировал с тем переосмыслением кинизма, которое совершил Эйхенбаум.
Несмотря на известное безразличие, с которым ОПОЯЗ усваивал себе разнородные нигилизмы, «беспощадное отрицание» (Писарев) второй половины XIX века имело для него приоритетное значение. Cреди прочего формалисты совпадали с русскими нигилистами-разночинцами в антиэстетической настроенности. В апологетической статье «Футуризм» (1919) Якобсон провозгласил: «Новое искусство покончило <…> с последним фетишем статики– красотой»131. Якобсоновскому отказу от выявления вечного (то есть ноуменального) в художественном творчестве вторил Тынянов в «Литературном факте»: «…свойствa литературы, кажущиеся основными, первичными, бесконечно меняются и литературы как таковой не характеризуют. Таковы понятия “эстетического” в смысле “прекрасного”»132. По аналогии с тем, как Писарев, Чернышевский и иже с ними мотивировали желание «радикально истребить эстетику»133 тем, что у каждого человека– свой вкус, формалисты ссылались на историческое непостоянство «конструктивного фактора» (Тынянов), включающего текст в поле литературы и искусства.
Даже тогда, когда понятия формалистской доктрины были вписаны в сложившийся в начале ХХ века идейный контекст, они несли в себе, сверх того, и отзвук ходячих убeждений, исповедовавшихся нигилистами базаровского образца. Разумеется, теория «деавтоматизации» Шкловского в первую очередь восходит к бергсоновскому «Смеху»134 (1900), но вместе с тем перекликается с той критикой, которую Писарев обрушил в «Реалистах» на «пассивную привычку», и с тем недовольством «рутиной» и «машинальностью», которой была проникнута статья Чернышевского «Не начало ли перемены?» (1861).
Еще одним центром притяжения в интеллектуальной культуре второй половины XIX века была для ОПОЯЗа философия Ницше, в которой Хайдеггер в цитированных выше лекциях 1940 года видел главный довод в пользу своего соображения о том, что нигилизм всегда подразумевает движение мысли навстречу бытию (и игнорировал тем самым «деонтологизирующую» негативность). Воздействие текстов Ницше («Веселая наукa», «О пользе и вреде истории для жизни»), соответственно, на теорию пародии у формалистов и на их представления о литературной эволюции уже исследовал Драган Куюнджич. Наряду с меткими сопоставительными наблюдениями его монография содержит и ряд непростительных натяжек. Так, он возводит к Ницше mot Шкловского о наследовании, идущем не от отца к сыну, а от дяди к племяннику135. Никаких подобных этому высказываний у Ницше нет. Шкловский имел в виду, конечно же, русскую литературную реальность– двух фривольных поэтов: дядю Василия Львовича Пушкина и его племянника Александра Сергеевича. Сравнительный анализ, начатый Драганом Куюнджичем, может быть продолжен. К примеру, мнение Ницше об эпигональности всякого искусства, о его опознаваемости публикой– тем большей, чем «изношеннее» его наряды («Человеческое, слишком человеческое», §§ 148, 179),– вероятно, дало импульс Эйхенбауму для написания книги (1923—1924) о цитатности в поэзии Лермонтова. Во «Введении» к этой работе Эйхенбаум преподнес литературу не как inventio, a скорее как ars combinatoria: «Создание новых художественных форм есть не изобретение, а открытие, потому что формы эти скрыто существуют в формах предшествующих периодов»136.
Отвлекаясь и от неточностей, допущенных Куюнджичем, и от дополнений к проведенным им параллелям, стоит обратить внимание на одну крайне существенную разницу в нигилистических системах Ницше и формалистов. Ниспровергая христианство (как религию слабых, выросшую из зависти и мести), Ницше рассчитывал заместить его негативным эквивалентом, верой в «сверхчеловека». Себя Ницше толковал как мыслителя аффирмативной складки («Ecce homo»), поецируя собственный нигилизм на своих противников– христиан. Трансгуманность, вытекающая у Ницше из преодоления христианской истории, была чужда ученым, сгруппировавшимся в ОПОЯЗе. Их интенция заключалась в дегуманизации социокультурного творчества137. Cловно бы впрямую возражая на «волю к власти», выставленную на передний план поздним Ницше, Шкловский декларировал: «…искусство не создается единой волей <…> человек-творец– только геометрическое место пересечения линий, сил, рождающихся вне его»138. Одним из многих следствий обесчеловечивания художественной культуры была тематизированная Тыняновым в «Кюхле», «Смерти Вазир-Мухтара» и «Восковой персоне» гибель автора/авторитета. Во втором авангарде формалистскую дегуманизацию сменит антигуманизм, критика человека– ницшеанская по истокам. Ницше стирал контрадикторным отрицанием главные дихотомии, на которых держится социокультура, аннулировал как Бога, так и человека, как добро, так и зло. Отсюда он делал вывод о возможном возникновении абсолютно Другого, нежели все бывшее,– чистой власти, которая оказывалась нe чем иным, как господством омнинегации. Формалисты же затушевывали Другое истории литературы и искусства, с которой они работали и которую они автономизировали в итоге строго специфицирующего освещения изучаемого предметa. Прежде всего синхронное, касающееся социального, религиозного и прочих внехудожественных «рядов», это затушевывание давало у формалистов и диахронический эффект. Эсхатологизм Ницше нe был им присущ. Их модель истории перспективировалась в неотчетливую длительность; «переоценка всех ценностей» была здесь имманентна времени, а не финализовала его. Если Другое в его абстрактности (как Бог здесь, сейчас и всегда, как «сверхчеловек» там и потом) исчезает, то нельзя определить общечеловеческое– формалисты не знали метaпозиции, заняв которую они могли бы мыслить антропологически, измерять людскую действительность в единоцелостности, синтетически. В ранних теориях ОПОЯЗа негативный антропологизм Ницше139 сменяется отрешенностью от свойственного человеку как таковому созидательного порывa и концептуализацией его конечных результатов в виде инженерно-производственных достижений. До постановки Шкловским, Эйхенбаумом и Тыняновым в 1926—1927 годах вопроса о «литературном быте» опоязовцы предпочитали заниматься эволюцией художественных форм, запрещая себе исследование их генезиса, иначе говоря, воздерживаясь от углубления в то, что подвигает человека на артистизм. Между тем Ницше с самого первого своего нашумевшего сочинения об античной трагедии был увлечен происхождением обсуждавшихся им явлений.
Тогда как Ницше помещал себя по ту сторону христианской культуры, формалисты, вовсе не стремившиеся перешагнуть за пределы истории, оставались внутри этого вероучения, которое они профанировали. Формализм поддается трактовке в функции кощунственно-пародийной десакрализации христианства. «Остранение» возвращает нас не только к Льву Толстому, как подчеркивал Шкловский, но и к не названному им Преображению Христову (устное сообщение Бориса Гройса), бывшему особо значимым для византийско-русских исихастов (еще одного, наряду с мистическим сектантством, ответвления гностицизма: Григорий Палама и его последователи надеялись партиципировать, как мы знаем, не субстанцию Всемогущего, а его энергию, озарить себя Фаворским светом140– ср. иррелевантность содержания для формалистов). В аскетизме исихастов, наставлявших (в лице Нила Сорского), как избавляться от страстей («помыслов»), берет дальний исток и отказ формалистов рассматривать поэтическую речь как аффектированную, выявлять ее эмоциональный субстрат. Тот же Шкловский, оправдывая футуристическую «заумь», без обиняков ссылался на нисхождение Духа Святого на апостолов, переживших чудо иноязычного говорения. За термином «обнажение приема» у Якобсона и других опоязовцев проглядывают слова Иисуса (Лука, 12: 2) о том, что нет тайного, не становящегося явным. «Канонизация младших жанров» и «деканонизация старших» укладываются в схему притчи о виноградарях (Матф., 20: 1—16) с ее моралью, гласившей, что последние будут первыми и первые последними. Пристрастие формалистов к писателям, выпадавшим из литературы, возрождает учение апостола Павла о кенозисе Христа, изложенное в «Послании Филиппийцам». И т.п.141
Проследить путь формалистов от ранней стадии к поздней, к структурализму, с одной стороны, а с другой– к раскаянию в заблуждениях молодости и к уступкам традиционному литературоведению, не входит в мои намерения. Но сказанное выше о дегуманизирующей установке этой школы требует заметить, что отречение от себя дается тем легче, чем менее личность рефлексирует свое общечеловеческое содержание, sensus universalis, не поддающийся капитулянтству.
Подобно формалистам, создатель дегуманизированной утопии– трактата «Рабочий» (1932)– Эрнст Юнгер отверг после конца Второй мировой войны свою былую убежденность в том, что «типу» труженика предстоит восторжествовать над буржуазной личностью с ее общечеловечeскими идеалами. В статье «Через линию» (1950) Юнгер в самокритическом жесте обвинил нигилизм в «тотальном» редукционизме и в попытке стать «эрзац-религией». Отвечая Юнгеру («О “Линии”», 1955), Хайдеггер упорствовал в отрицательной оценке человека. Но все же нигилизм, апологетизированный в лекциях о Ницше, претерпел у позднего Хайдеггера переворот: nihil не приобщает у него отныне бытию, а, как раз напротив, отвлекает человека, погрязшего в метафизических измышлениях, от сущего.
Negatio negationis (двусмысленное логическое действие, то ли удерживающее– как negatio – отрицание, то ли уничтожающее его– как свой объект) развело в разные стороны и превозмогавших себя формалистов. Одни из них (вроде Брика и Эйхенбаума) перешли в 1930—1940-е годы «через линию», отмежевавшую их от начинаний 1910—1920-х годов. Другие (прежде всего Якобсон) остались на фронтовой «линии», сдвигая ее в новую методолого-эпистемологическую область. Отрицание строгого дихотомизирования вылилось у этих исследователей в учет, наряду с «привативными оппозициями», также нейтрализации признаковости/беспризнаковости (как в фонологической теории Н.С. Трубецкого). Если при контрадикторном отрицании немаркированные величины односторонне зависят от маркированных, то нейтрализация ввергает оба члена во взаимодействие. Именно отсюда на переломе от формализма к структурализму и семиотике возникает концепт системы, в которой все элементы взаимообусловлены и, следовательно, функционально нагружены. Как бы ни были плодотворны тезисы Тынянова и Якобсона о структурно-системном подходе к знаковым образованиям («Прoблемы изучения литературы и языка», 1928), они оставляют открытым тут же навязывающийся вопрос о том, кто и как порождает системы. Дегуманизация превращается в теории систем (к адептам которой принадлежали и «преодолевшие формализм») в умолчание об учинителе креативного акта– теряется, но не замещается ничем, что могло бы объяснить в антропологическом аспекте нашу созидательность.
VIII. История как смысл и как значение
Вопреки неписаным правилам хорошего научного тона приходится начинать этот раздел книжки с местоимения, которое обычно открывает заявления, адресуемые в бюрократические инстанции. Я (имярек) занялся философией и теорией истории много лет тому назад (первая моя книга на означенную тему увидела свет в 1977 году) и с тех пор если и изменял захватившему меня познавательному интересу, то ненадолго, всякий раз убеждаясь, что он меня не отпускает, как ни старайся от него освободиться. Одержимость желанием разобраться в ходе социокультурной истории владела мной куда сильнее, чем установка на «признание», абсолютизированное Гегелем. Модели, которые я выстраивал в своих работах, не были нужны ни практикам историографии, поглощенным конкретными рaзысканиями и мало озабоченным тем, что Робин Дж. Коллингвуд назвал «идеей истори», ни теоретико-философскому цеху, как раз уверовавшему в наступление постистории и свысока взиравшему на прошедшие современности из своей псевдовечности. Вот что поддерживало мое исследовательское увлечение: чтобы быть адекватным истории как предмету понимания, чтобы сопереживать разнообразие прошлого, необходимо противостоять самодовольной злобе дня. Быть принятым, соучаствующим в текущих обстоятельствах– значит разломить время надвое, на то, что есть сейчас, и то, которое вообще было, которое воспринимается в той или иной степени в виде слабо дифференцированного. Между тем социокультурная история множественна не только в локальных проявлениях, но и поэтапно. Даже взятая абстрактно, она не сводима ни к какому двоичному принципу. Уровень ее сложности высок до чрезвычайности. С какой бы стороны я ни подходил к символическому порядку в его динамике, в каких бы терминах (семиотических, логико-риторических, психологических, социологических) ни пробовал концептуализовать историю, мои диахронические труды кишат зияниями, страдают неполнотой в постановке и проработке отдельных проблем, не говоря уже о том, что материал, использованный для иллюстрации моих посылок, скуден, требует расширения. Тем не менее методологически я исчерпал имевшиеся в моем распоряжении возможности вникнуть в закономерности историко-культурного процесса. Так, в книге о психоистории (эта монография вышла в 1994 году) я рассмотрел отрезок времени от романтизма до постмодернизма, обратившись за подтверждением выдвинутой модели к данным русской литературы. Заманчиво было бы и задаться вопросом, какие психики преобладали в социокультурной деятельности, предшествовавшей романтизму, и проверить выводы, предпринятые применительно к одной из мировых литератур, на контрольных примерах из европейской и американской словесности. Но экстраполяции такого рода вряд ли изменили бы в корне мыслительную стратегию, которой я руководствовался, поскольку достаточно репрезентативными для умозаключений универсалистского характера были здесь как фактический материал (ведь русская литература развивалась в XIX—XX веках в теснейшем сотрудничестве с западной), так и выбранный для толкования временной объем, богатый переходами от одной культурной парадигмы к другой, что позволяло с изрядной долей вероятности предполагать сходную организацию психоистории в целом.
Если я теперь снова берусь за обсуждение того, чем является для нас история, то не столько потому, что могу сказать много качественно нового о ее развертывании по сравнению с уже говорившимся мной, сколько по той причине, что мне хотелось бы уяснить себе, почему социокультурное время при всей множественности его манифестаций философично по сути, имеет под собой некую абстрактную подоплеку. Философия как умственная дисциплина– продукт истории, и это значит, что сама история чревата метафизичностью. Мне предстоит часто ссылаться на собственные работы. Начав вступление к главе в стиле заявления лицам, наделенным административными полномочиями, следует в том же духе и завершить несколько затянувшееся предуведомление: убедительно прошу читателей, буде таковые найдутся, войти в положение автора и не считать его неисправимым эгоманом.
Несмотря на идейные расхождения, многочисленные историософии, которым дали первотолчок Блаженный Августин и Иоахим Флорский, солидарно игнорируют ту очевидность, что мы пребываем сразу в разных историях, в гетерогенном, а не в гомогенном времени. Изменчивость охватывает все стороны человеческого бытия-в-мире, но она вершится неодинаково в тех или иных национальных ареалах, в сферах социального устроения, текстопроизводства и хозяйствования и использует созидательность ради разрушительности в военных конфликтах. Чем дальше заходит в своем поступательном движении история, тем яснее, что ее множественность в прошлом (у всякой эпохи свое лицо)– свойство, которое отличает также ее синхронные срезы, обнаруживаясь здесь и сейчас. Имеем ли мы право, продолжая дело, затеянное христианскими мыслителями, философствовать об истории, то есть искать ее метафизическое основание и трактовать ее как единосущностную, если современности вовлекают нас в неоднородные истории?
Как бы своеобразно ни протекали, однако, разные истории, у них есть нечто общее– все они по-своему свидетельствуют об одном и том же: об изменчивости самого человеческого времени, о том, что ни одно из времен, в которых homo sapiens застает себя, не удовлетворяет его– неустанно охотящегося за небывалым. История не есть биофизическое время, потому что она на каждом своем перегоне творит темпоральность заново, как бы освобождая людей от их телесных ритмов, во всяком случае противостоя присущей самому организму, им не управляемой фатальной размеренности природного существования. Не распоряжаясь собственным временем, животные упорядочивают свое поведение в пространстве, маркируя его границы, в которых они отправляют жизненные потребности и власть, передаваемую потомству, то есть рассчитанную на некое постоянство. Именно в виду того, что человек не столько топологичен, сколько темпорален, он оказывается всеместным, осуществляя из недр Африки планетарную экспансию. Пускаясь в странствия по земному шару, он овременивает пространство– так, что пункт, где он находится сегодня, завтра отойдет в прошлое. Говоря на научном языке, человек делает свою жизненную среду анизотропной, придает ей направленность от одного центра к другому и от центров к периферии.
Животные виды включены во время мира, претерпевая эволюцию, вызываемую мутациями и приспособительной способностью организмов. Вразрез с этим, человек-хронократ (воспользуюсь словцом Саши Соколова) в состоянии выстроить собственную вселенную– мир во времени. История берет старт около двухсот тысяч лет тому назад– тогда же, когда биологическая эволюция увенчивается рождением так называемого «человека современного». Эта первоистория столь же примитивна, сколь и радикальна. Она выражает себя в организации захоронений, в удержании родовым коллективом памяти о предках. Попечение о могилах приостанавливает бег времени, преобразует будущую фактическую смерть в воображаемое бессмертие в прошлом. Историзм не позднее явление, как кажется многим; он антропологическое достояние, спецификатор человека на всем протяжении предустановленного ему пути. Первобытные люди имели обыкновение раскрашивать бренные останки сородичей (и по сию пору мы упорно сообщаем Танатосу колористическую характеристику, облачаясь в траурную одежду– где черную, где белую). Заупокойный культ исключал умерших из ordo naturalis, превращал расцветкой их тела в артефакты, не снабженные практической функцией, в отличие от кремневых скребков и прочих орудий, известных уже многочисленным предшественникам «человека современного», гоминидам. Цветовой слой на покойниках маскировал смерть, скрывал ее (отправлял небытие в небытие, как и закапывание или сжигание трупов). С самых ранних шагов история присовокупляла к явному тайное, недоступное для непосредственного наблюдения– то, что она вытесняла собой.
Людям понадобилось около ста шестидесяти тысяч лет, чтобы выдвинуться в срединной Европе на новый исторический рубеж, обозначенный изготовлением флейт, зооморфных фигурок и «палеолитических Венер»142. Вслед за созданием миниатюрной пластики, найденной археологами в Блаубойрене, человек обратился к наскальной живописи (самые древние изображения, покрывающие стены пещеры Шове, насчитывают несколько более тридцати тысяч лет). Затянутость первоистории объясняется, похоже, тем, что ее содержанием было такое отклонение от биофизического времени, которое попросту задерживало его. Прошлое лишалось конечности за счет сотрудничества и сожительства коллектива с предками, что ритуально и мемориально упраздняло смерть. Прошлое стопорилось, застаивалось, захватывало современность, становилось сплошным, не позволяющим в своей континуальности произойти иному социокультурному событию, кроме отмены той событийности, которая вырывает индивида из бытия. Первоистория, таким образом, онтологична, несмотря на всю свою противоестественость.
Трудно сказать, что побудило население обледенелой Европы расширить социокультурную активность, куда оно привнесло производство объектов, выходящих за рамки похоронного дизайна. Но пониманию доступно, что именно случилось на этом этапе человеческого становления. Преодоление природного времени, чем занята история, разыгрывается в воображении, находящем материальную реализацию в символическом и цивилизационном порядке. История целесообразна, но никогда не достигает своей цели, поскольку воплотима лишь символически и технически, а не витально-органически. «Целесообразность без цели»– то определение, которое Кант дал искусству. В истоке человеческое время эстетично по преимуществу, и умельцы, использовавшие костную ткань (мертвую, но мало подверженную тлению материю), чтобы создавать бесполезные для поддержания жизни вещи (хотя бы те, вероятно, и обладали обрядовой функцией), ознаменовали в своем труде обретение историей самосознания. Скульптурные изображения (из мамонтовой кости) и музыкальные инструменты (из трубчатых костей птиц) были изделиями, подытожившими длительный период первых попыток побороть время-к-смерти искусственным путем. Искусственное время обернулось временем искусства.
В художественных произведениях история показала свое возникновение из общечеловеческого психизма, из самосознания, разымающего любое «я» на автосубъектное и автообъектное. Неся в себе объектность, мы сталкиваемся с конечностью субъекта, с которой нельзя примириться, коль скоро погружение в себя (трансцендентальность) конституирует нас и вместе с тем нас же отрицает. Разрешение этого невыносимого противоречия лежит в сопротивлении смерти, чему посвящает себя homo historicus. Бывшая на первых порах родословием, история манифестируется затем в techn, в выработке самоценных объектов, эквивалентных автообъективации с той, однако, разницей, что они передаются от поколения к поколению, отсылают к производителю и после его исчезновения. Родовое бессмертие недостаточнo для человека, ибо он трансцендентален и жаждет справиться с временем как самость.
Первочеловеку, учредившему культ предков, была незнакома социальная дифференциация, так как каждый член группы обладал правом остаться в ее памяти. Здесь все были равны в конфронтации со смертью, невластной над коллективным Духом. Агональность направляется таким коллективом вовне, на природное окружение. Вот еще одно объяснение тому, отчего человек на столь долгие тысячелетия застрял в своем начальном развитии: он конкурировал не с себе подобными, а с самой реальностью, от которой оказался отчужден. Надо полагать, что вместе с обращением людей к производству предметов и орудий искусства в их сожительство входит социальное неравенство, коль скоро дар художественного мастерства не составляет нашего всеобщего достояния. Разъединение группы на производителей и потребителей артефактов делает ее внутренне разновременной, выделяет в ней лиц, опережающих своих сородичей, берущих на себя техно-эстетическую инициативу. Человеческая история убыстряет свой ход (все последующие технические изобретения будут иметь целью, как об этом неоднократно писал Поль Вирильо, ускорить время действий, предпринимаемых нами). Обмен раритетными вещами, который охватил, по данным археологии, удаленные друг от друга части Европы еще до неолита, овнешнил разность производителей и потребителей, преобразовав ее из внутригрупповой в межгрупповую, придал исторической соревновательности множественность, широкий объем. В качестве борьбы людей за господство над временем история всегда будет отлучать от него одних– обездоленных– и давать предпочтение другим– на какой-то срок получающим ее в свое распоряжение, концентрирующим в своих руках темпоральный капитал.
Через тридцать тысяч лет после того, как история вошла в авторефлексивное состояние, в Передней Азии грянул ее следующий слом– неолитическая революция. Переход от охоты и собирательства к земледелию и разведению домашнего скота подразумевал, что poiesis перестал удовлетворять человека, открывшего теперь средства, с помощью которых он сумел опрокинуть субъективированно-эстетическое время во внешнюю действительность, в praxis, в природную среду, воскресающую с прибытком в урожае и приплоде, даваемом прирученными животными. Аграрная цикличность, соотносившаяся с космическим круговоротом, вывела человека за планетарные пределы, сделала его, если прибегнуть к термину Макса Шелера, «космоцентриком». Poiesis остался в прошлом в качестве мифофантазии о происхождении всего, ибо все доступное восприятию (не только земля, но и небо) и сделалось местом непосредственных людских действий, вписанных в природную производительность (= natura naturans). Акты творения, рисуемые мифами, фикциональны, невероятны, потому что они должны были полностью не совпадать с перцептивным опытом, раз тот принял вселенский масштаб. История раскалывалась на время чудесного генезиса («dreamtime», «Urzeit») и бытийное время «вечного возвращения», отелеснивавшееся в обрядах сезонного (космического) и экзистенциального (rites de passage) характера. Составленная из двух слагаемых, из того, что лишь мыслится (как абсолютное начало), и того, что есть, история принуждается в своей связности к логическому выведению настоящего из прошлого и получает тем самым внутренний смысл. Он заключается в том, что головное и уникальное (появляющееся ниоткуда) претворяется в реальное и универсальное (в вечную, себя воссоздающую бытийность). История отныне не просто целеположена, она придает смысл мирозданию (допустим, в анимистических верованиях) и результируется в возведении развитой социокультуры, грандиозного хозяйства– равно и символического, и натурального (что подчеркивал Леви-Стросс). Неолитическая революция развязывает логоисторию, которую мы и продолжаем (неудивительно, что архаические общества дожили до того момента, когда они оказались синхронными исторически продвинутым, и были исследованы полевыми методами). В своем космизме логоистория берет старт в том пункте, в котором индивид сосредоточивает в себе максимум смысла,– в старости (как утверждалось в главе II). Общечеловеческое развитие реверсирует становление личностной психики. Самодвижение Духа противоположно по вектору динамике души.
Мифоритуальный социум абсолютизирует прошлое, как то было свойственно и прежде охотникам и собирателям с их культом предков. Вместе с тем это прошлое более не довлеет себе, но подлежит реанимированию в обрядовой драме, перемещающей бывшее в настоящее. Arch осовременивается так, что человек попадает в неизбывно возобновляемую пограничную ситуацию, балансируя в промежутке между «всегда» и «теперь». Главный персонаж мифоритуальной социокультуры, шаман, доводит переходность до предела, проницая в своих путешествиях пространство как таковое– посещая верхний и нижний миры. Экстатически посредничая между бытием и инобытием, шаман почитается соплеменниками как «big man», как тот Другой, кому дарована сверхъестественная мощь. В функции зиждителя особого времени человек, вообще говоря, не имеет основания вне себя и должен поэтому искать таковое в собственном Другом, формировать представление об авторитете. Охотникам и собирателям это собственное Другое являлось в образе почивших членов рода. В аграрном обществе та же самая роль достается живущим, испытавшим шаманский призыв и убедившим свое окружение в том, что они обладают магической энергией. Становиться иным, чем прочие, можно присутствуя, а не отсутствуя здесь и сейчас. История в качестве погони за инаковостью пока еще безбудущностна, но уже врастает в наличную социальную организацию, раздвоенную на ведущих (авангард) и ведомых, на визионеров-харизматиков и завораживаемый ими коллектив.
Социальная дифференциация, наметившаяся уже у палеолитического человека, усиливается в неолите. Параллельно этому агональность, бывшая для собираетелей и охотников экзогенной, превращается в эндогенную, что находит выражение в человеческих жертвоприношениях, совершаемых ради предохранения вселенского порядка от убывания, от возвращения в хаос. Обрекая избранников на смерть, общество внутривает насилие. Те, кто распоряжаются ритуальным насилием, предвосхищают и предсказывают явление абсолютной личной власти– огосударствление социальной жизни143.
Будучи асимметричным (элитным и массовым), социальное тело опространствливает время (что противоположно темпорализации пространства, которую предпринял homo sapiens, завоевывая плацдарм за плацдармом земную поверхность). В своем пространственном (социализованном) обличье время во многом утрачивает имманентную ему направленность от «до» к «после», обращается в длительность– узаконивает традиции и нерушимые каноны. Эти трансляции заданных образцов протянутся поверх тех переворотов, которыми будет изобиловать позднейшая история, порожденная распадом мифоритуальной социокультуры. Вследствие неолитической революции складываются префигурации (архетипы) всяческиx смысловых комплексов, доживающих до наших дней. Так, шаман, пересекающий границы зримой действительности и возвращающийся в посюсторонность, предсказывает возникновение литературы (особенно сюжетной), семантически сведенной Морисом Бланшо (до него о том же думал Пастернак) к «орфизму», к воображаемому опыту бытия-из-смерти и бытия-из-инобытия (к встрече с загробным миром, будь то «Божественная комедия», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Петербург», «Замок» или, на худой конец, рассказы про Эркюля Пуаро).
Как явствует из сказанного, время может преодолeваться и в себе, выступая как последовательное разновременье, как история, и за счет подчинения пространству, чем вызывается существование трансистории («dure» Анри Бергсона проецирует ее на самое витальность, но Фернан Бродель поймет долгодействие в социокультурном плане). Так же как беспрестанно расширяющееся знание нуждается в истории, отбрасывающей незнание в прошлое, вера, передаваемая по преданию, неотъемлема от трансистории. С точки зрения веры будущее прогнозируемо, заведомо известно вплоть до финала; для знания оно либо уже маячит на пороге современности, либо исполнено неожиданности, высокоинформативно.
Какие мотивы подвигнули людей на переделку того культурно-цивилизационного ансамбля, который образовался в неолите? Истощился ли этот тип жизнеустроения или же, напротив, таил в себе неактуализованные возможности, каковым еще только предстояло проявиться? Повторение действий, совершаемое в обрядах, в свой черед согласованных с циклическим временем мироздания, неисчерпаемо, ему ничто не мешает извне. Никакая социальность, архаична она либо модернистична, не обходится без ритуализации человеческого поведения. Причину, втянувшую мифоритуальное общество в трансформации, нужно искать в нем самом. Она состояла в том, что смысл в качестве учредителя бытийности, то есть в своей омнипотенции, претендовал на то, чтобы стать автономным, самобытным. Такому тождественному себе смыслу долженствовало передвинуться из времени Творения, откуда он управлял настоящим, в будущее, в которое настоящее устремлялось. Только в еще не наступившем времени смысл и может быть безупречно самодостаточным. Пять тысячелетий тому назад обожествленные цари Двуречья и Древнего Египта, предназначая себя грядущему бессмертию, переориентировали заупокойный культ футурологически. Сопутствовавшее этому перевороту изобретение письменности придало распространению информации независимость от телесного присутствия ее носителей. Историографам, падким до документальных свидетельств о прошлом, архивирующим время, никогда не откроется та истина, что их предмет на самом деле как фактичен, так и противоречит эмпиризму, коль скоро история не только то, что было, но и то, чему еще предстоит произойти.
Ходячее размежевание преисторических и исторических обществ крайне условно. Человек историчен всегда. Другое дело, что история, черпающая свои силы из прошлого, и история, отсчитываемая от будущего, имеют каждая свою специфику, которую удается схватить, только если принять, что у них есть единый базис, что обе они сотериологичны, обнадеживают смертных. Поскольку история– наше все, постольку она полна реликтами– бывшее когда-то важным для нее не исчезает в ее дальнейшей динамике: мы так же ухаживаем за могилами и чтим родословие, как это было свойственно первобытному человеку. С трансисторическими праобразами реликты разнятся тем, что их содержание вырождено, что они наличествуют в людском обиходе лишь как форма, бесплодная в смысловом отношении (мы ведь более не думаем, что отменяем смерть, когда печемся о захоронениях наших близких).
Сдвиг от ранней истории к той, что обычно рассматривается как собственно история, был сложным и длительным процессом, в детали которого здесь не место вдаваться144, но о самой медлительной непростоте которого необходимо сделать несколько замечаний. Сфокусировавшись на будущем, на том, что представимо, но пока не дано, мифоритуальная социокультура, обнимавшая универсум, была вынуждена, несмотря на этот размах, признать свою неполноту. Утративший целостность символический порядок разлагается на отдельные составляющие, но так, что те обещают грядущую компенсацию нехватки, в которую они впадают, то есть присваивают себе право стать тотальностями. Миф будущего реститутивен, восстанавливает пропавшую целостность– подобно тому, как Изида собирает по частям тело Осириса. Перспективированная социокультура вступает в такой период, в котором ее целостность плюрализуется, в котором происходит специализация ее ментальных практик, самостоятельных, с одной стороны, взаимодополнительных, с другой. Умственные занятия такого рода (вызревшие в Античности историография, художественная словесность, наука, философия) совокупно отпадают от аграрного и ремесленного труда. Когда Аристотель отнес хозяйствование к семейной сфере, а политику к сфере деятельности государственных мужей, он, в сущности, суммировал несовпадение между собой ментальных стратегий, учитывающих предстоящее, и репродуктивного производства (в том же духе Жорж Батай будет разграничивать «гетерогенность» и «гомогенность» в бытовании общества во времени). Итак, холистическое мировидение, наследие неолитической революции, не замещается другой социокультурной целостностью, что могло бы принять скачкообразный вид, а множится изнутри, ветшая и обновляясь постепенно, сохраняясь и в дифференцированности. Перебор вариантов, происходящий в мыслительных дисциплинах с тем, чтобы те установили свои инварианты, упрочили свою парадигмосозидающую способность, не случается в одночасье.
Как никакая иная отрасль знания, становящаяся философия усердствует в том, чтобы и законсервировать стародавнее, и не отстать от поступательного хода времени. Нарождающейся философии не чуждо представление о пангенезисе, о выводимости общезначимого из какого-то одного пункта (всё– вода, всё– огонь), но вместе с тем она констатирует непостоянство бытия, его текучесть. Мыслители (Платон в «Пире» или много позднее Плотин) испытывают ностальгию по единоцелостному, видят его распавшимся и жаждут его возвращения, смещая тем самым архаический миф на горизонт своих ожиданий145 (похоже, что в уже недалеком будущем людям предстоит пережить прямо противоположную тоску– по истории с ее диверсифицированностью, богатством альтернатив). Функция философского дискурса– в том, чтобы посредничать между отбывающим в прошлое и приближающимся из будущего, превозмогать не конкретный период истории, но ее самое, перетолковывать диахронию в панхронию. Восставший против своей земной доли, человек не довольствуется, философствуя, и исходом этого бунта– историей. Битва с биофизическим временем доводится философией до предела, до схватки с временем как таковым (по Ницше, фундамент истории– неисторическое, большая современность). Но, абстрагируясь от истории, умозрение оказывается ее квинтэссенцией, средоточием совершаемых ею субституций, подытоживаемых в замещении ее самой– предвидением то ли Горнего Иерусалима, то ли царства Абсолютного Духа, то ли всецерковной теократии, то ли сверхчеловека, то ли обжения людей, то ли их коммуникативного слияния друг с другом, то ли коммунизмаи т.п. Оставляя историю позади себя, философия на свойственный ей диалектический лад служит ее катализатором, ставит перед ней на каждом ее этапе новые цели. Коротко: философия, которой хотелось бы вобрать в себя абсолютные начало и конец, есть ре-презентация историзма.
Шаг за шагом обосoбливавшая свои сегменты мифоритуальная социокультура полностью ввергается в катастрофу в тот короткий промежуток, в который укладывается составление корпуса новозаветных текстов, пусть христианству и понадобилось затем немало лет, чтобы институционализоваться, поднявшись на уровень государственной религии. Христианский историзм объединил трезвую реалистичность в приложении к настоящему с принципиально недоступным проверке образом спасительного будущего: с временем нельзя совладать здесь и сейчас, но там и потом оно навсегда завершится. Загробное воздаяние продлевает индивидуальную жизнь в инобытие, Страшный суд и воскресение мертвых внушают верующим убеждение в том, что когда-нибудь они и все вместе переступят за бытийный порог. Радостная весть, сообщаемая христианством, радикализует историю так, что той предписывается заместить сей мир без остатка на потусторонний, спиритуализованный. Античная философия, искавшая вечное и повсеместное, иррационализуется, очудеснивается, но не теряет при этом, а выигрывает в жизнеспособности, коль скоро переводится в план веры, устойчиво подчинившей себе массовое сознание. В христианском изводе философия отдает себе отчет в том, что она включена в историю, и становится историософией, каковой до того не являлась.
Историзованное умозрение провидит новое небо и новую землю, то есть влечет нас от известной картины мира к небывалой. Философичная по корням и грандиозная по масштабу обещаемого, новозаветная вера в не что иное, как историю, монополизует духовную динамику человечества. Этот порыв центрирован в Средиземноморье, откуда он распространяет свое влияние, не захватывающее, однако, многие части планеты, где время до поры застывает, как, например, в кастовом индуистском обществе. Запад выступает острием истории, если разуметь под ней метаморфозы смысла; Восток перифериен во времени, но– в порядке компенсации– может быть наступательнo-разрушительным в пространстве (являя собой, как сказали бы Жиль Делёз и Феликс Гваттари, «машину войны» кочевников). Всегда– начиная с первобытного заупокойного культа– бывшая мистериальной, история, возглавленная Христом, полагает свою тайну разгадываемой. Высший замысел, касающийся людей, человеком же и персонифицируется, предстает в фигуре Христа в виде Божественного Откровения. Сколь бы сверхъестественными ни были искупление Адамова греха и воскресение из мертвых, история интеллигибельна, поддается прочтению и пониманию. Она умопостигаема в своем финализме, поднимаясь на ступень автоинтерпретации в качестве самозамещаемой, апокалиптически себя отрицающей (как до того недостаточную) и потому предусматривающей такую метапозицию, с которой она может стать объяснимой. Инкорпорируя Логос, Христос свидетельствует о том, что истории открылась ее смысловая природа.
Ведя за собой историю, смысл в своей амбивалентности и отменяет ее, забегает за ее конец. В этом плане социокультурное время апокалиптично на каждом этапе изменчивости– не только в пророчествах о последних вещах, но и в виде высокомерных современностей, явно или неявно убежденных в том, что ими увенчиваются пытливость человека и его творческая дерзновенность. Историю, однако, нельзя застопорить ни в каком умственном усилии, она доподлинно финальна не как смысл, который ею распоряжается вплоть до того, что обрывает ее, но как депрессивное поражение интеллекта, грозящее наступить, если биофизическое время возьмет верх над попытками превозмочь его.
Наведение христианством моста от здешней действительности к альтернативному универсуму предопределило дальнейшее развертывание логоистории. Сказанное не означает, что стрела социокультурного времени всегда будет направлена в область сугубо мыслимого, доступного лишь духовидению. Творимое человеком время периодически переворачивает свой вектор: либо подставляет идеальное на место реального, либо, в обратном порядке, отвергает «химеры» и «призраки» ради преданности опытному знанию. Впереди исторического человека то poiesis, то praxis (точнее, poiesis как praxis и praxis как poiesis). Христианство программирует тем не менее логоисторию в том плане, что та осуществляется как смена миров, как реорганизация того из них, что наличествует, в тот, который ищется. Мирообъемлющие преобразования неизбежно эпохальны, пусть границы между диахроническими ансамблями большого смысла и бывают ломано-неотчетливыми (ведь после уникального Сына Божия пионерская работa по освоению будущего перестает быть достоянием одиночки, проводится по частям многими лицами) и пусть старое не уступает сразу свою позицию новому (вызывая ту ситуацию, которую Райнхарт Козеллек назвал «одновременностью разновременного»).
Выдвигая на роль главного аргумента попеременно либо чувственный опыт, либо воображение, история воспроизводит себя как различие, добивается самотождественности в форме двуликости. Она– то одно, то другое, но и сама по себе– в возобновлении этой внутренней дифференцированности. Воссоздание различий маскирует их– они далеко не всегда доступны исследователям для непосредственного наблюдения. Логоистория не забывает своего происхождения из ритуала, однако отрывается от него, усложняя цикличность линейностью, ибо всякая эпоха по-своему понимает как poiesis, так и praxis, закладывая до того неведомые принципы в основу мировидения. В линейных переходах от раннего Средневековья к позднему, от Возрождения к барокко, от Просвещения к романтизму, от реализма (позитивизма) второй половины XIX века к символизму, от авангарда и его затухания в тоталитарной социокультуре к нашим дням человек не просто опробует всяческие способы, посредством которых вырабатывает собственное время, но и утверждает в самой этой смене смыслообразующих принципов свою власть над историей, свое право управлять ею. Человеку предоставляется теперь возможность быть переходным существом не в личном и космическом времени, как то имело место в архаических ритуалах, а во времени эпохальном, в фазовой череде, в которой он перешагивает из универсума в универсум, оставаясь сущим.
Только что приведенные именования эпох в большинстве своем неудачны: то безлично хронологичны (Средневековье), то случайны (барокко), то слишком широковещательны (реализм), то являют собой самоназвание отдельного течения, доминантного для своего периода, но его не исчерпывающего (символизм). Кроме того, ряд этих терминов отсылает прежде всего к искусству, тогда как стадиальность охватывает все слагаемые культуры. За неимением лучшего приходится смириться с терминологической традицией и, предупредив о ее неадекватности предмету, обратиться к тому, что за ней стоит,– к содержанию исторических этапов.
Раз эпохи стремятся к всезначимости, любая из них обязана сводить разное к единому, что нереализуемо субстанциально, но достижимо при условии, если через неконечный, не замкнутый в своей неопределенности набор значимых элементов будет протянуто одно и то же отношение. Оно придает разному характер упорядоченного множества, или системы. Содержание какого-либо длительного исторического периода реляционно. Выявление таких системообразующих отношений по отдельности– задача, решаемая теоретическим (парциально обобщающим), а не философским подходом к истории146. Попытку их тотального обобщения я предприму чуть позднее. Тем не менее нельзя оставаться и сейчас голословным. Чтобы идти в рассуждениях дальше, нужно хотя бы на минимуме иллюстративного материала прояснить, что имеется в виду.
Взяв за отправной пример философию XVII века, можно обнаружить, что она упорно сближает противоположности: человек, по Паскалю, ничто сам по себе и все в акте веры; бытие для Декарта есть мышление; Творец совпадает с бывшей ранее отделенной от Него природой, которя моделируется Спинозой как natura naturans; Зло в «Теодицеe» Лейбница соприсутствует с Добром в «предустановленной гармонии». Барокко, судя по философии этого времени, фундируется тем, что отрицает дизъюнкции. Аргументом для coincidentia oppositorum служит в XVII веке не сенсорное восприятие, а то, что ему запредельно: никакая данность не существует без достаточного основания, заявлял Лейбниц, и, следовательно, опора непосредственно предстающей перед нами действительности расположена вне таковой, в ином универсуме; «абсолютно бесконечная» творящая природа, неисчислимая в своих атрибутах, предпослана Спинозой природе сотворенной.
Просвещение отвергло барочную нейтрализацию взаимоисключений. Идея, проницающая собой философию XVIII века, состояла в том, что каждое явление равно себе и сопряжено с прочими явлениями так, что и они оказываются самотождественными. Неважно, какие именно величины связывались Просвещением обоюдной, говоря на языке логики, рефлексивностью. Ими были у Руссо народ и правитель, заключающие социальный договор, а у Канта индивиды, подчинившие себя разумным путем «нравственному императиву», который требует от нас не поступать с партнером так, как мы не желали бы, чтобы обращались с нами. При этом Просвещение отправлялось в своих соображениях от естественного и наглядного, а не от интеллигибельного, как барокко. Истинен, по Руссо, «человек природы»; Кант подрывал спекулятивные конструкции и оценивал превыше остальных «остенсивные определения», дающие представления о вещах простым указанием на них.
Просвещенческая темпоральность предполагала совершенствование того, что есть; сформулированная Кондорсе концепция прогресса внушала современникам исторический оптимизм, отодвинувший на задний план их тревогу по поводу персонального спасения. Между тем барочное время не было, в отличие от просвещенческого, постепенным– оно гасило антагонизм сиюминутного и вечного, умирающего и продолжающегося: Декарт был убежден в личном бессмертии, Паскаль рассматривал агонию Христа как неизбывную, длящуюся во всех позднейших столетиях. Парадоксальная сотериология Паскаля наделяла спасительностью сопереживание людьми крестной муки. Работу эпохального системообразования было бы не слишком трудно продемонстрировать на примерах не только из философии, но и из прочих разделов духовной культуры, допустим, из науки. Так, прогрессизмом была отмечена в XVIII веке и биология, в которую Ламарк привнес мысль о наследовании организмами по восходящей линии признаков, улучшающих приспособление живых видов к среде обитания.
В полемике с Просвещением романтизм выдвигает на передний план иррефлексивность. Доминирующим в первые десятилетия XIX века станет субъект равный и неравный себе, стремящийся слиться с объектом у Шеллинга, обретающий «я» вместе с «не-я» у Фихте, отчуждающийся в обличье кнехта у Гегеля от своей суверенности, чтобы снова вернуться к ней в полноте самосознания. Для такого мировидения социокультура не просто требует нового начала, адекватного, согласно Руссо, человеку и человечности. Время в концепции романтизма сразу и прогрессивно, и регрессивно: продвигаясь вперед, оно рассекречивает свой отправной момент, реактуализует архаический миф. В философии Гегеля темпоральная несамотождественность результировалась в таком переосмыслении августиновского Града небесного, которое свело его на землю, осовременило завершаемость истории. Она финальна и для Жозефа де Местра, но не здесь и сейчас, а в ожидаемом будущем. Современность, явившаяся в облике Французской революции, понуждает человечество извлечь урок из разгула насилия и избыть этот печальный опыт во всеобщем единении. Решительно не принимая происходящее во Франции, де Местр все же называет революцию «чудом», раз Провидение, попуская ее, указывает народам их конечную цель. В обстоятельствах романтической иррефлексивности чудо неоднозначно, отрицательно, несмотря на позитивность.
Как бы скудны ни были факты, на которых я остановился, все же их достает для того, чтобы вдумчивый читатель догадался, куда они клонят. Эпохальная история– это своего рода цепь умозаключений, на каждом шаге которых возникающая парадигма получается из отрицания предшествующих смыслопорождающих операций. Говоря о логоистории, мы имеем дело со смысловой машиной, работающей по алгоритму. Оставляя позади себя очередной этап истории, человек, главенствующий над ней, вместе с тем исполняет ее волю, следует ее логическому предначертанию: и самостиен, поскольку новое появляется на свет из наших голов, и подчинен некоей тайной силе, поскольку наш идейный почин, выводящий один смысл из опровержения другого, автоматичен. Прибегая к словарю русского формализма, можно сказать, что homo historicus жаждет– в погоне за неведомым– деавтоматизировать исторический процесс, но всякий раз попадает в плен схемы, каковая тому предзадана.
Откуда берется негативизм логоистории, прозорливо распознанный Гегелем (пусть даже его умозрение и взывает к глубоким коррективам)? Из того, что эпохи истощают присущий им преобразовательный потенциал, утрачивают свою футурологичность в самоповторах? Разумеется, этот фактор не стоит упускать из виду. Но почему бы человеку, столкнувшемуся с эпигонством истории, не считать, что будущее (как думал Гегель после «Феноменологии духа») уже состоялось? Зачем нужно переиначивать облик будущего? Мне кажется, что причина беспокойного негативизма, побуждающего логоисторию к пересозданию ее ожиданий, куда фундаментальнее, чем нежелание людей быть консервативными (каковыми они на самом деле в подавляющем большинстве и являются). Эта причина заключается в том, что человек-хронократ предрасположен к тому, чтобы не выступать лишь пациенсом своей же темпоральной логики и чтобы в роли агенса полностью овладеть машиной истории, перебрать все операции, на которые та способна. Лица, выдвигающиеся в авангард истории, ищут– по большому счету– ее совершенного финала, нацеливаясь на который она не может быть ничем иным, кроме утверждения-через-отрицание. Философии истории, намеревающиеся подвести ее баланс, проективно выражают собой имманентную ей философичность.
Читатель, быть может, уже заметил, что те три отношения, которыми были охарактеризованы барокко, Просвещение и романтизм, входят в ряд смыслопорождающих связей, перечисленных в главе III. Все эти связи могут использоваться человеком синхронно в частноопределенности и прилагаться им параллельно к разным областям деятельности с тем, чтобы те получили смысловое содержание. Вытягиваясь в последовательность вывода одного из другого, те же связи ложатся в основу логоистории так, что каждая из них становится доминирующей, общезначимой на какой-то из фаз социокультурной диахронии, подчиняя себе любую из частноопределенностей наступившего времени (см. Приложение к этой главе). Эпохальное событие– приход времени, которого не было прежде, нового переживания самой социокультурной темпоральности. Из-за того что одни и те же смыслопорождающие механизмы работают и в синхронии, и в диахронии, в описания того и другого просачивается омонимия, затемняющая исследовательское намерение (вряд ли мне удалось вполне справиться с этой терминологической трудностью).
Отбрасывание отношения, бывшего эпохальным, происходит в трудно обозримом числе идеолектных трансформаций изживамого смысла в актуальный147. Мы переходны, стало быть, не только в моменты острых кризисов, испытываемых социокультурой при смене ее парадигм, но и постоянно внутри этих парадигм, вариативность которых, накапливающаяся постепенно, заставляет нас то и дело сталкиваться с разновременностью, то есть надеяться на то, что у нас есть избыток времени. Безразлично, ориентированы ли эпохи на poiesis или на praxis, иx суть– в единообразном связывании всего, что попадает в их поле зрения. Они– произведения духовной деятельности и тогда, когда настаивают на своей эмпирической ценности и только на ней. Сами акты переоценки ценностей, настойчиво осуществляемые логоисторией, дематериализуют те монументы, в которых она себя претворяла в социокультурную субстанцию, конвенционализируютих. Пропуская некое отношение через что угодно, то есть моделируя мир, то или иное эпохальное представление о времени достаточно в себе и не обязательно должно покорять реальное геополитическое пространство, растекаться сразу по всем уголкам Земли. Этим объясняется, почему логоистория вплоть до краха колониальных режимов, случившегося в ХХ веке, была привилегией европейской, а затем евро-американской социокультуры. Сам нововременный колониализм европейцев, детище Ренессанса, разнится с предшествующими ему экспансиями тем, что его следствием оказывается в конце концов формирование не отдельных империй с нацией-поработительницей во главе, а глобального экономического порядка– «планетарной империи» (в терминах Майкла Хардта и Антонио Негри), к которoй приобщило нынешнее человечество развертывaние логоистории.
Понимание общей истории как роста и упадка локальных социокультур мало что дает исследованию антропологического времени, если учесть, что оно устремилось к глобализму, что оно всегда было мировым по интенсионалу и сделалось теперь таким же экстенсионально. Цивилизационные центры рушатся– логоистория идет своим путем дальше. Но действительно ли эти центры исчезают бесследно, если они находились на магистрали, а не на обочинах логоистории? Тезис Шпенглера, считавшего, что очаги духовной культуры (античная Греция) угасают в технизированных, погрязающих в утилитаризме «цивилизациях» (Древний Рим), допускает диалектическое перетолкование. Ведь в придании духовным начинаниям орудийности можно усмотреть не только вырождение, но и такое преемство, которое вершится ради их спасения. Цивилизационные усилия подводят под интеллектуальные дерзания, не способные сами себя обезопасить, более или менее надежный базис (так, философия греческих стоиков, часто далекая в своей абстрактности от повседневных нужд, превращается в Риме прежде всего в нравственное учение, в технику социально принятого поведения, обеспечивая себе тем самым жизнестойкость в обычае). Утилитаристское закрепление традиции становится предпосылкой для translatio imperii: первому Риму наследуют второй (Византия) и позднее также объединение Западной Европы Карлом Великим. Как и конец первого Рима, падение Константинополя ознаменовалось заполнением образовавшейся культурно-цивилизационной пустоты– эту работу по воскрешению исторической длительности выполнила Московская Русь, третий Рим. В свете сформулированных соображений было бы закономерно определить функцию технических изобретений как, с одной стороны, опасную, а с другой– защитную применительно к истории идей. Диалектическое содержание атомной угрозы роду homo таковo, что она предотвратила перерастание холодной войны в горячую и, притормозив темп геополитических событий, пролонгировала существование авангардистско-тоталитарной социокультуры до 1960-х годов. В наши дни электронная сетевая коммуникация и манипулятивные политтехнологии– при всем своем антиинтеллектуализме– позволяют удержаться на социокультурной сцене «ризомам» и «симулякрам»– сугубо интеллектуальным продуктам постмодернизма 1960—1970-х годов. Техника экономит время ее пользователей, но чем меньше оно расходуется, тем более подтверждаются головные стратегии его преодоления. Техногенно-фактическое ускорение времени замедляет его протекание в поле действия Духа.
Разыгрывавшаяся в разного типа текстах, рамочно обусловливающая научную пытливость, получающая отклики в инженерии, логоистория наталкивается на сильное сопротивление при вторжении в социальность. Речь идет о много более сложном конфликте, нежели непризнание инертным большинством общества его инновативного меньшинства (тем более что инновации давно уже в запросе со стороны потребительских масс). Как было постулировано, corps social опространствливает время, закрепощает его биполярностью, тогда как оно, будучи суверенным, неутомимо делает разные свои состояния преходящими. Несмотря на очень высокую вариативность форм, которые принимает сожительство людей друг с другом, в последней глубине общество отнюдь не богато диахроническими ресурсами. За вычетом внешней пестроты социальность изменяется в своей сущности, в своей внутренней потенции по двоичному принципу– третье ей не дано. Она развивается от статусной организации к ролевой, от бытования в виде коммун к огосударствлению, от сакрализации обычаев и институций к их профанизации. Но и такая ограниченная двоичностью мобильность148 не означает, что устаревающее сходит в социальности вовсе на нет: и в ролевом обществе есть место статусам (например, в случае церковнослужителей); неформальные группы свидетельствуют о неистребимости коммунаризма; осквернение святынь уголовно наказуемо и там, где царят мирские ценности. Многоходовой логоистории не удается в совершенстве воплотиться в двухшаговой социодиахронии. Первая то и дело учреждает собственную (субкультурную) социальность поодаль от конституированного общественного порядка, будь то монастыри, как нельзя лучше отвечающие установкам христианства, или всяческие «поэтики поведения» (Ю.М. Лотман) Нового и Новейшего времени, вроде авангардистского эпатажа буржуазной публики и прочих жизнетворческих инициатив «человека-артиста» (сегодня в ходу «аватары», под которыми прячут идентичности энтузиасты электронного общения). Эти поползновения логоистории диктовать свою волю социальности не выходят, однако, за грань экспериментов, пусть поднимающихся на уровень модного поветрия, но все же не вовлекающих в сферу влияния общество в целом. Даже тоталитарные режимы, вознамерившиеся в ХХ веке быть репрезентантами эпохального исторического сдвига, были в состоянии выразить себя во всей чистоте их замысла только на элитных верхушках общества (вроде СС) или в культe героев (вроде победителей в соцсоревновании).
Далеко не полная, чреватая коллизиями совместимость эпохального времени с пространственно-социальным разрешается в том, что к истории смысла присовокупляется еще одна– значений. Социальность подражает антропологической темпоральности, суживая ее в событиях местного формата. К ним может быть причастен любой индивид вне зависимости от его вклада в становление идей. Тем самым каждый из живущих обретает право на историзм, пусть отличный от мирообъемлющего. У имитаций нет иного назначения, кроме компенсаторного. Если история смысла творит реальность (конструируемую дискурсивно, открываемую научно, преображенную технически), то история значений привязана к конкретным обстоятельствам, семантична в той мере, в какой соматична– в какой коллективное тело ситуативно определяет свои действия. Иначе говоря, история значений имеет геополитическое содержание– она есть история власти: общественного организма над эксплуатируемой им природной средой, человека над человеком в рамках отдельно взятого социума, одного этноса над соседним, порабощаемым в результате войны. Все эти три власти зиждутся на смежности, контактны, отправляются социофизически. История значений носит случайный характер, вероятностна (сырьевых запасов где-то много, а где-то мало; самоуверенного властителя может свалить внезапный недуг; какая из сторон выиграет сражение– заранее неизвестно), тогда как эпохальное время автодетерминировано, само себя порождает в наших головах. Иcтория значений не предусматривает, стало быть, того, что последующее будет здесь вытекать из предыдущего со строгой закономерностью (обнаружение месторождений нефти может круто изменить судьбу страны). Между тем логоистория не случайна вдвойне: и в своей цикличности, как повтор, и в своей линейности, как автоматический вывод нового из старого посредством отрицания.
Контингентность, свойственная пространственно-социальному времени, «снимается» историографией, рассказывающей о нем. Такого рода нарративы, структурированные, как и любой текст, изнутри, поневоле переводят излагаемые события из сферы референтно проверяемых значений в область самоценного смысла. Учиненная постмодернизмом (особенно Хайденом Уайтом) критика нарративизованной историографии упрекает ту в отрыве от фактов. Стоит взглянуть, однако, на эту проблему иначе. Рассказывание влючает частные происшествия в логоисторию, не обязательно искажаeт факт (все-таки перед нами не чистая выдумка), но непременно высвобождаeт его из уединенности и случайности, встраивает в большое, общечеловеческое время, бывшее, напомню, в далеких началах эстетизированным (и по сию пору все так же воспринимаемое по формуле «Красота спасет мир»).
Власть над телами (физическими и биологическими) синхронна им. Она апеллирует к народной памяти и набрасывает планы на будущее только для того, чтобы контролировать настоящее. История значений накапливает современности (как бы они ни были антагонистичны, они равноценны по своей актуальности), аддирует их, компoнует из них «дурную бесконечность» и тем противоречит логоистории с ее апокалиптическими упованиями. Власть над настоящим оборачивается властью настоящего. Погружаясь в него (вот точное слово) с головой, борются не за то, чтобы оставить творческий след во времени, а за то, чтобы не выпасть из злободневной моды и чтобы превзойти друг друга по продолжительности жизни. Из всех форм политической власти (в которых уже Платон в «Государстве» диагностировал родство, скрытое за наружной расподобленностью) логоисторию в наибольшей степени удовлетворяет парламентская демократия, поскольку современность для той не абсолютна, принадлежа то одной, то другой правящей партии. Впрочем, и либеральная демократия лишь потворствует протеканию эпохального времени, а не инкорпорирует его стадиальность в смене властных элит, происходящей в вероятностной, а не в логической реальности. Соответственно, историю смысла поощряют свободный рынок, индивидуальное предпринимательство и банковский кредит. Вместе они превращают богатство, довлеющее себе здесь и сейчас, в капитал, повернутый к завтрашнему дню– к моменту сбыта товаров, превосхождения конкурентов, отдачи долгов. Антикапиталистические тоталитарные государства были явлением мессианизма, вознамерившегося запечатлеть в монументальной, воздвигавшейся на века социальности и в инсценировках Страшного суда финализм логоистории. Этот расчет был ошибочным, потому что частнозначимое (итальянское, советское или немецкое общество массовой мобилизации) никак не в силах выдержать функциональную ношу того всеобщего, с которым нас сводит логоистория.
Взаимодействие истории смысла с историей значений почти вовсе не исследовано. В последние пятьдесят лет подобные изыскания тем более затруднены, что социокультура этих десятилетий конституировала себя как попавшую за черту логоистории. Мне неоднократно доводилось писать о том, что постмодернизм (постисторизм), несмотря на свои декларации, на самом деле один из этапов эпохального времени, входящий– mutatis mutandis– в тот же ряд, что, допустим, барокко или романтизм149. С другой стороны, постмодернистская эра, на первых порах как будто в высшей степени продуктивная концептуально, уже тогда, в период формирования, выказала страх перед большими идеями, то скептически отвергая философию истории (Одо Марквард), то восставая против теории (Поль де Ман и многие другие), то подменяя семантический подход к дискурсивной деятельности прагматическим (Мишель Фуко, Пьер Бурдьё), то отказываясь от леви-строссовской универсалистской этнологии в пользу интерпретирования одних локальных традиций (Клиффорд Гирц), то призывая прекратить конвертирование головных схем в символический порядок (Жан Бодрийяр) и т.п.– всего не перечислишь. Эта тенденция вела к обнищанию «чистого разума», к падению интеллекта, посвятившего себя в наши дни, в XXI веке, по преимуществу политике– сверхвыигрышных денежных вложений, рентабельного переноса производства из страны в страну, сетевого менеджмента, авторского позиционирования в поле художественной культуры (общепризнанный победитель здесь– Джефф Кунс), имиджевого медиального поведения или подавления личных свобод, оправдываемого обеспечением безопасности граждан перед лицом террористической угрозы. Последнее из названных проявлений политики гарантирует ей омнипотенцию, втягивает в нее любого, кому дорога жизнь, отнимая у него возможность самому защититься от неумолимой гибельности социофизического времени.
Как эпоха среди эпох, постмодернизм хотя и не заложил небывалую дотоле цезуру в их последовательности, тем не менее обозначил их захождение в тупик, ознаменовал собой их конец, менее всего похожий на happy end– на то, как представлялa себе завершение истории философия, интересовавшаяся ею начиная с визионерства Блаженного Августина, которое дегенерировало под занавес ХХ века в наивную политкорректность Фрэнсиса Фукуямы. Логоистория плавно стерлась, стушевалась, источилась. Она предстает взгляду ее сегодняшнего наблюдателя окруженной по краям двумя асимметричными послевременными социокультурами– архаически-ритуальной, приурочившей великое демиургическое деяние к прошлому и уверенной в том, что таковое подлежит лишь репродуцированию, и постмодернистской, которая отправила в невоспроизводимое (помимо ностальгических стилизаций) минувшее саму эпохальность смыслопорождения, рвавшегося к новым идейным горизонтам в утверждении-через-отрицание (не сказать ни «да», ни «нет»– вот в чем заключалась мыслительная тактика Жака Деррида; в 1983 году Петер Слотердайк издал «Критику цинического разума», порицавшую историю за ее негативизм).
Добравшись до постмодернистской фазы, духовная история все же отнюдь не избавилась от своей логики, распространив ее– как negatio negationis– на себя в полном составе. Этот акт не имеет ничего общего с гегелевской победой Абсолютного Духа. Как раз Духа, то бишь смысла, и не хватает нам теперь. Если тоталитаризм разных национально-региональных мастей чаял увековечить под руководством вождей-избранников эндшпиль логоистории в отдельных странах и государственных блоках, то протестно отреагировавший на эту попытку постмодернизм постарался забежать за финал эпохально-смысловых метаморфоз– и пустил социальность с ее историей значений на самотек. Социальность глобализовалась, повысив значения в звании до псевдосмысла. В восторжествовавшей ныне безбудущностной (недовольной капитализмом, но не ведающей ему альтернативы) современности менее всего царит, как то мерещилось Гегелю, самосознание, подавленное политикой, которая сама тонет в злобе дня, мельчает в постановке ближайших целей (но всегда ли будет терроризировать нас радикальный исламизм?), что не позволяет ей отдать себе телеологический отчет в том, куда движется (правильнее: двигался) человек как таковой150. Индикатор, предупреждающий о закате Духа,– душевное состояние человека наших дней: самыми распространенными сейчас психическими недугами стали депрессия и burn-out– расстройства, ставящие преграду отправлению жизни и труду.
Что грядет? Почем знать! Историю, утратившую метафизичность, не схватишь in toto. Будучи эпохальной, история постоянно предвосхищала свой конец, открываясь на предмет философствования. Оно было право, вменяя истории финитность, и всякий раз заблуждалось в конкретизации и/или оценке последних дней и вещей. Ни одно из показательных судилищ ХХ века– от процесса над мнимой Промпартией до Нюрнбергского (над реальными преступниками)– не проторило путь в Небесный Иерусалим. Обещанная Карлом Ясперсом и Льюисом Мэмфордом встреча всех когда-то бывших исторически релевантными человеческих типов в исходе времен, пожалуй, состоялась в Cyber Space, но вряд ли приходится считать благом избыток субъективных мнений при унылом недостатке идей у пользователей Интернета. Всемирноe государство Канта (а также Эйнштейна) не более чем спародировано в Организации Объединенных Наций– ее действенность нередко парализуется правом вето, которым наделены постоянные члены Совета Безопасности. Cписок историософов легко продолжить, вспомнив Фридриxа Шлегеля, Вл. Соловьева, Маркса, Николая Бердяева и многочисленных утопистов. Но и сказанного достаточно, чтобы убедиться в меткости философской интуиции и ее же химеричности, возникающей тогда, когда она старается перекодировать смысл (которым ее заразила логоистория) в значения– в несвобдные от рефрентности образы будущего. Вот оно пришло, но не как вывод значений из смысла, а как их своенравное, внесмысловое бытование, принявшее вид сети (в научных моделях головного мозга, в практике управления банковско-промышленным хозяйством, в Твиттере и Фейсбуке, в интерактивной медиальности, в организации террора). Строение «ризом» не циклично и не линейно, то есть исключает обе главные характеристики логоистории. Что может произойти с сетью, достигшей глобального максимума в объеме и содержательно насыщенной самыми разными приложениями к трудам и дням нашего времени? Она порвется от внутреннего напряжения, не берусь предсказывать как. Если смысл не очерчивает авторитетно свое конечное торжество в ожидаемых временах, то откуда взять соперничающим с ним значениям основание для того, чтобы образовывать «дурную бесконечность» современностей?
VIII. Приложение: логика эпохальности
Было бы безответственно суммировать эпохальный ход истории в коротких заметках, если бы он не был ограничен и упорядочен обозримым набором тех возможностей, которыми обладает смысл, конфигурируя значения и последовательно выводя одну конфигурацию из другой. Основание для такого движения поставляет мифоритуальная социокультура, пустившаяся в рост в неолите.
Диахронический первосмысл утверждает свои повсеместность и бытийность так, что культура натурализуется (например, в тотемистических верованиях), а природа окультуривается (например, в анимизме). Смысл омнипотентен, потому что он есть связь человека и мира в их наличии друг для друга, в их облигаторной соположенности (a R b). Раз субъектное и объектное неразрывны и вместе с тем равновелики, они взаимозависимы. Архаический человек вовсе не страдает нехваткой причинно-следственного мышления, как то мнилось Люсьену Леви-Брюлю, а отвечает на любое воздействие извне противодействием, восстанавливая в форме магии пошатнувшееся равновесие между собой и своим естественным окружением или социальным контекстом. Будучи отправной точкой логоистории, неолитическая социокультура понятным образом испытывает особый интерес к происхождению сущего, что отражают мифы творения и всяческие этиологические легенды. Распространяясь на категорию абсолютного начала, интердепенденция преподносит генезис и бытие проникающими друг в друга. Даже если начало всего, что явлено, случается внезапно и тем самым вбирает в себя некое зияние, это действие производят актанты, о которых неизвестно, откуда они взялись, присутствие которых как бы само собой разумеется (таков, скажем, в индуистской мифологии Пуруша, из чьего тела возникает космос). И в обратной зависимости: бытие генетично, возобновляемо в ритуальной драме в своей полноте от первоистока. Поскольку в генезисе просвечивает онтос и vice versa, постольку ранняя социокультура выносит на передний план в межличностной сфере родство (общество являет собой родо-племенной союз) и воображает биофизическую действительность в виде царства метаморфоз.
Отрицание равносоотносимости любых предметов выталкивает смысл из пределов того, что есть, ставит таковой по ту сторону всего: ¬ (a R b). Смысл становится инобытийным, требует для постижения чрезвычайной прозорливости, которая оказывается по силам греческим философам и библейским пророкам. Исторический помежуток между ранней социокультурой и наднациональными религиями заполнен открытиями Другого во всем, то есть установлением всеинаковости, великого различения, специфицирующего что бы то ни было. Античный театр профессионализует обрядовый спектакль, определявший прежде жизнь социума в ее тотальности; миф перерастает в фикциональный рассказ– тем самым ответственность за слово, лишенное общепринятости, берет на себя автор или исполнитель (если дело касается фольклорных текстов); сплошную одухотворенность природы сменяет пантеон богов, обладающих раздельными функциями; человек, магически властвовавший над универсумом вместе со своим коллективом, уступает эту роль метафизику-избраннику, мудрецу, отличающемуся от прочих смертных всезнанием. В любом из этих (и им подобных) случаев смысл, так сказать, самодержавен, конструирует собственную реальность. В лице Платона философ посвящает себя распознанию инобытия феноменов, рассекречивает «эйдосы» вещей. В эпоху, когда происходит ломка мифоритуальной архаики, сей мир выступает нуждающимся в освобождении от внешних покровов не только для индивидуализованного умозрения, но и для религии– я имею в виду, конечно же, «Майю» индуизма. Там, где господствует всеинаковость, неизбежна разноголосица концепций. Смысл как Другое, чем наблюдаемая действительность, входит в конфликт с Другим самого смысла. Главный довод киников в полемике с платонизмом– указание на тленную материю, не допускающую абстрагирования от себя. Аристотелевская силлогистика подразумевает эмпирическую проверяемость не только малой, но и большой (обобщающей) посылки и вставляет, таким образом, умозаключение из них (семантический синтаксис) в рамки знания, верифицируемого в опыте. Логические изыскания Аристотеля подготовили философию к тому, чтобы направить ее внимание от смысла к значениям.
Негативность, управляющая движением логоистории, может захватывать на каждом следующем своем шаге либо непосредственное предшествование, либо его вместе с тем, что было им замещено. Когда предметом диахронического отрицания делаются сразу две предыдущие эпохи, они задним числом образуют мегапериод, состоящий из асимметричных подсистем. Одноцелевые и двуцелевые отрицания циклически чередуются в истории смысла. Впервые в истории Западa мы сталкиваемся с такой дублетной (усиленной) новизной в христианстве и вызванном им к жизни раннем Средневековье.
Если смысл не содержится не только в сущем, как и не только во всяком Другом сущего, но тем не менее долженствует быть, значит, он есть то, что объединяет этот и тот миры: ¬ ((a R b), ¬ (a R b)) (a & b). Не находя себя лишь здесь и лишь там, смысл сосредотачивается в том «и», которое позволило ему совершить отрицание этой полярности. Смысловой эффект возникает при условии, что бытие и инобытие совокупны. Логос и тело– сообщники, пишет Тертуллиан в рассуждениях об анастазисе, и приходит отсюда к выводу, согласно которому души при скончании мира обессмертятся во плоти. Для конъюнктивного мышления, набиравшего мощь в христианстве, нет смысла вне парности, которая подчиняет себе среди прочего также видение человеческого времени. Идею воскресения тел Тертуллиан отстаивал, напоминая, что Бог создал все из ничего, и будучи посему убежден, что во второй раз creatio ex nihilo обеспечит людям жизнь вечную. В Христе, учил Блаженный Августин в трактате о Троице, ни Бог нисходит до твaрности, ни тварь возносится до божественного состояния; не претерпевая метаморфозы, каждое из этих двух начал дано и само по себе, и как Другое. Приобретение несобственного качества есть дар Духа Святого, совечного Отцу и Сыну и являющему собой, стало быть, самое сложение, открытость обеих ипостасей Троицы для конъюнкции. Переводя христианскую философию в экзистенциальную плоскость, Боэций утверждал, что человеку нельзя отпасть от Бога, не опустившись до бестиальности. Христианство (как и прочие «осевые» религии) наднационально. Oно завоевывает разные этносы в виде вероисповедания, но не обязательно с имперской претензией, часто довольствуясь духовным союзом, не принуждавшим нации к потере государственной самостоятельности (так, Византия поставляла митрополитов на Русь, однако светская власть в Киеве была независима от Константинополя). До схизмы, разразившейся в середине XI века, парным было и церковное устройство христианской ойкумены, двояко центрированной в первом и втором Риме. При всем том очевидно, что раннесредневековый социум страдал от постоянно разъедавших его междоусобиц. Разобраться в противоречии между делами и словами этой эпохи поможет Ориген, который считал, что исключительно ум дает нам основание для объединения незримого Бога-Отца с Сыном. Конъюнктивность понималась Оригеном, а также гностиками как сугубо мыслительная реальность, идущая вразрез с чувственным опытом, избавлявшая от гнета атерии. С такой точки зрения вера (ментальная установка) либо влечет человека к полной отрешенности от земных забот, либо вовсе не требует практического подтверждения, достаточна в себе, пускает повседневную жизнь на самотек. По мере развития раннесредневековой философии означенная дилемма переродилась в контроверзу, которая расколола мыслителей на «реалистов» и «номиналистов», споривших о том, субстанциально ли всеобщее или лишь интеллектуально по модусу существования.
В сущности, эта полемика, разгоревшаяся в XI—XII веках, маркирует начало постепенного перехода от раннего Средневековья к позднему, от конъюнктивности к ее отрицанию, вызывающему в области смысла, как было постулировано в главе III, соотнесение элементов через их обособление: ¬ (a & b) (a, b). Сочетаем ли субъект, пользующийся абстрактными понятиями, с объектной действительностью или нет,– вот о чем вели прения «реалисты» и «номиналисты» и вот во что вылилось несходство в толковании конъюнкции христианскими первофилософами– то ли как идеальной (у Оригена), то ли как идеально-материальной (у Тертуллиана) операции. Обособление субъекта и объекта заставило философию придать вере знающий характер, поставив в ряд первоочередных вопрос о том, как интеллект своими силами осведомляется о Другом, чем он, о Творце, несмотря на то что у нас нет, по суждению Иоанна Дунса Скота (конец XIII века), понятия о Боге, которое собственно Ему самому. Дунс Скот выходит из этого затруднения, полагая, что Бог как первосущее неразложимо прост и что относительно смого простого нельзя заблуждаться: оно либо фундирует когнитивную деятельность, либо вовсе неизвестно. Позднее Средневековье испытывает обостренный интерес к постижению единичных вещей, предпочитая таковые за их интуитивную очевидность, и провозглашает, как на том настаивал Уильям Оккам в первой половине XIV века, принцип экономии умственных средств при доказательстве каких-либо тезисов, изолируя тем самым довод, выделяя его из множества допустимых аргументов151. Преобладание обособления над прочими маневрами мысли не только переводило веру (покоящуюся на и-связи) в ratio и intuitio, но и конституировало ее в виде мистического акта. По словам Григория Паламы (XIV век), монах должен сосредоточить ум в себе. Уединившись таким путем от мира и обязав себя к подвигу молчания, исихаст вступает в unio mystica, никогда не достигая полного слияния с Богом, приобщаясь к Его энергии, но не к Его сущности (субстанции). В мистике западной церкви обжение опустошает человека до конца (а не наполняет его трансцендентностью, как в православии). Определяя Бога как все по ту сторону всего (то есть как абсолютную обособленность), Майстер Экхарт (XIII—XIV века) наставлял верующих любить Всевышнего так, чтобы разлучиться с собой в отрешении от какой бы то ни было человеческой духовности. При всем своем рационализме монументальная «Сумма» Фомы Аквинского (XIII век) не слишком далека от позднесредневекового мистицизма. Бог, по Аквинату, вездесущ, не входя, однако, в состав никаких вещей (I. 8). Поэтому Бог не созерцаем в своих подобиях, Он открывается уму только по благодати, в свете славы (I. 12)– той же самой, фаворской, в которой Его будут узревать и византийско-русские исихасты. По формальным показателям «Сумма» представляет собой сложно организованную иерархическую композицию, в которой всяческое частнозначимое абстрагирование следует из установления первопричины любых явлений, каковой служит Бог. Отрицание раннесредневекового сложения разных смысловых полей результировалось в том, что они упорядочивались иерархически, превращало координацию в субординацию. Эпохи имеют в распоряжении две основоположные программы, одна из которых негативнa применительно к прошлому, а вторая самоутвердительна. В своем отрицательном пафосе эпохи сообщают формальную выраженность тому смыслу, который превалирует на данном отрезке времени. Они выходят наружу, обретая форму, как не тот смысл, что был релевантен раньше. Их позитивная направленность предполагает, что новый смысл будет терминирован в какой-либо идейной конфигурации. В финале позднего Средневековья (иногда называемом исследователями «предренессансом») варьирующиеся идейные репрезентации обособления были подытожены Николаем Кузанским в парадоксальном (антиципирующем барочную логику) сведении знания (к которому устремляется человек) к незнанию (главного из главных, Бога, пребывающего в недоступном нам пространственно-временном измерении, где нет разницы между различением и неразличением). В той степени, в какой мир постижим, он ограничен, и быть предельным он может потому только, что его Другое– божественная бесконечность. Разговор об обособлении, правившем умами в XII—XV веках, можно было бы продолжить, перешагнув на уровень культурной истории в ее социально-фактической манифестации (вспомним хотя бы случившееся в 1378 году разъединение папской власти, воздвигшей себе поодаль друг от друга два престола– в Риме и в Авиньоне), но это исследовательское задание уже было во многом выполнено Йоханом Хёйзингой в замечательной «Осени Средневековья» (1919).
Возрождение стало еще одной, после христианства первых столетий нашей эры, повышенно инновативной эпохой, отказавшейся сразу и от ранне-, и от позднесредневекового способов мышления (Ницше выбрал себе в образцы из этих двух революций смысла вторую). То, что не подлежит ни объединению, ни обособлению, пребывает в состоянии дизъюнкции: ¬((a & b), (a, b)) (a b). Через голову обоих этапов Средневековья Возрождение тянется к тому, чему они противостояли,– к Античности– и сталкивается в результате географических открытий с еще более глубокой архаикой– с мифоритуальными социокультурами. Утопии Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Томмазо Кампанеллы и других авторов поляризуют социальность ультимативным образом– по признаку всегдашнего несовершенства/окончательного совершенства. Свое утопическое визионерство Мор оттеняет живописанием нищенства и бродяжничества в Англии, теряющих то положительное ценностное содержание, которое было вложено в них религиозным сознанием («странствующей»– в ожидании Страшного суда– Блаженный Августин называл церковь). Человек, оппонирующий всему, делается у Джордано Бруно Другим Всемогущего, способным в «героическом неистовстве» быть сопричастным бесконечности, каковая ставила у Кузанца в тупик тварный ум. Демоническая фигура, обрисованная в тратктате Бруно о героизме (1585), ведет родословную, среди прочего, от правителя, выставленного в политфилософиии Макиавелли (1514) получеловеком-полузверем и наделенного там по контрасту с прочими людьми правом на насилие. Дизъюнкция охватывает собой в Ренессансе как природу (например, в учении (1584) Бруно о множестве миров), так и культуру, история которой антитетична в «Диалогах» (1560) Франческо Патрици и Божественному Творению (из ничто), и естественной производительности. Возрождение в целом спорит с самим собой, выступает как argumentum in utramque partem152: человек для этой ментальности сразу и второй Бог (например, у Джованни Пико делла Мирандолы), и– в сатирах Эразма Роттердамского и Себастиана Бранта– неисправимый дурак. В логическом максимуме, к которому ренессансное мышление пришло на пороге барокко в «Новом Органоне» (1620) Бэкона, дизъюнктивность потребовала от познающего сменить «библиотеки» на «мастерские», очиститься от любой духовности (от идолов рода, пещеры, рынка и театра) ради экспериментального погружения в природу. Может показаться, что возрожденческая философия в Италии, часто предполагавшая для бинарных оппозиций наличие третьего члена, противоречит в такой версии представлению о дизъюнктивности. Стоит учесть, однако, что перед нами не та медиация, которая разрешает, согласно Клоду Леви-Строссу, мифогенному воображению понимать взаимоисключающие величины в качестве одного и того же (снятие скальпов делает войну и сбор урожая неразличимыми), и не та, которая являет собой у Аристотеля «золотую середину», равно удаленную от крайностей (смыслообразования). Terminus medias нужен ренессансны мыслителям, чтобы усилить дизъюнктивность, найдя третье, противоположное даже самому противоположению. Душа в концепции Марсилио Фичино («Theologica Platonica», 1474) посредничает между Богом и телом, но, абстрагируясь от единичных тел, перерастая в Дух, становится самотворной и самовольной силой, простирающейся в безначальное прошлое и в бесконечное будущее, возвращающейся к себе по кругу в акте самосознания, предрасположенной к всезнающему видению себя (между тем, по заявлению Николая Кузанского («De visione Dei»), только Господь может отражать в себе все). Одна из особенностей дизъюнкции состоит в том, что ее противочлены должны находиться на одном уровне, быть конгруэнтными. Дизъюнктивные и вместе с тем конгруэнтные субъект и объект антисимметричны. Помещая человека в центр Вселенной, Каролус Бовиллус («De sapiente», 1510) очеловeчивает, на первый взгляд неясно, почему, также «каждую частицу» мира и утверждает, что деятельность субъекта озеркаливает внeшнюю ему действительность. Возрожденческое «я» связано с «не-я» видением, не допускающим материального вхождения одного в другое (смешения порождают монстров, считал Бруно), но тем не менее уравновешивающим в зеркальном порядке отражающее (всяческие визуальные репрезентации предметов) и отражаемое (чем объясняется то обстоятельство, что эти инстанции более не составляют, как в Средневековье, образ и вековечный праобраз). Мир нагляден в своем Другом, в цивилизационно-культурных изделиях– в географических картах, театральных представлениях, карнавализованной (по М.М. Бахтину) прозе Рабле и, не в последнюю очередь, в перспективированных живописных композициях, обнаруживающих в глубине, на линии горизонта, наличие пространства даже по ту сторону того, что схватывается зрением с какой-либо точки (как об этом писал в статье «Глаз и Дух» (1960) Морис Мерло-Понти).
О логико-смысловой подкладке трех последовавших за Ренессансом эпох (барокко, Просвещение, романтизм) говорилось ранее, пусть и вкратце. Здесь остается отметить, что если барочная парадоксальность, совмещавшая несовместимое, обусловливалась простым отрицанием ренессансных дизъюнкций (¬ (a b) (a ¬ b)), то Просвещение было продуктом сложного отрицания, которому подвергались смысловые завоевания, добытые как в XV—XVI веках, так и в XVII веке. Просвещенческая убежденность во всеобщей самотождественности восторжествовала, не принимая прежде всего барочные схождения противоположностей, но не соглашаясь вместе с тем в дальнодействующей (не всегда явной) полемике также с поляризованной в Ренессансе картиной мира (человек в XVIII веке не титанический соперник Бога, а преследующее собственные интересы существо, что не препятствует ему быть успешным в социальной и хозяйственной практике, управляемой, по Адаму Смиту, «невидимой рукой», то есть подчиненной в своей общезначимости Провидению): ¬ ((a b), (a ¬ b)) (a = a, b = b). Если praxis (как poiesis) господствует там, где в диахронии срабатывает двойная негация, то poiesis (как praxis) одерживает победу, будучи продуктом одинарного отрицания. Отбрасывание альтернативы, которой располагал смысл, заставляет его устремляться к слиянию с реалиями, чтобы затем такого рода убеждение уступило бы место представлению о реальности самого смысла.
Вторая половина XIX века стала временем преодоления и прямо предварившей его романтической иррефлексивности (a a, b b), и просвещенческой одержимости мыслью о том, что любое явление равно себе. Из этих негативных предпосылок вытекало, что явления соотносимы между собой через обязательное третье звено, что они обладают основанием для сравнения, конституируются не сами по себе, а в сцеплениях: ¬ ((a = a, b = b), (a a, b b)) если (a R b) и (b R c), то (a R c). Медиация, позволяющая устанавливать эквивалентности, отличается от внешне сходных с ней умственных ходов, упомянутых выше, тем, что вытягивает сочленяемые с ее помощью значащие единицы в последовательность, маркирует в образуемой смысловой конфигурации момент перехода из исходного состояния в искомое. Действительность пребывает в восприятии, свойственном людям второй половины XIX века, в поступательном движении. Оно, далее, не совпадает с той моделью прогресса, которая имела в виду в Просвещении совершенствование уже достигнутого. То, что есть, прогрессирует, по влиятельнейшей для своего времени идее Герберта Спенсера, дифференцируясь (элемент b, скрепленный с а, распадается на a R b и b R c), чтобы нарастить сложность, интегрировать специализировавшиеся слагаемые в эволюционно продвинутом «ансамбле» (из того, что b соположено как a, так и с, следует a R c). Философия реалистической (позитивистской) эпохи посвящает себя нахождению универсального посредника, обеспечивающего транзит из настоящего в грядущее, будь то Марксова «диктатура пролетариата»– terminus medias для классового и бесклассового обществ; «музей» Николая Федорова, сохраняющий память об «отцах», пока те не воскрешены «сынами» физически; человекобог, чье сознание Фейербах хотел бы очистить от проекционного теизма, и «Богочеловечество», поставленное Владимиром Соловьевым в срединное положение между тварной телесностью и Творцом, но еще не распознавшее, по мнению мыслителя, свою софийность, свое великое предназначение; «воля к власти», в которой Ницше видел гарантию развития в сторону трансгуманности; «бессознательное», служащее у Эдуарда фон Гартмана связующим звеном между природой и человеком в обещании будущего шага разума навстречу инстинктам; или, наконец, среда, обуславливающая в теории Дарвина эволюцию животных видов в их «борьбе за существование», где побеждает сильнейший и более склонный к приспособлению. Сконцентрированность на медиации придавала преувеличенную значимость прикладным средствам, ведущим к решению разного рода задач, что получило выражение в «утилитаризме» Джона Стюарта Милля. В философии науки та же тенденция нацелила внимание методологов на исследовательские «приемы»: согласно Хайнриху Риккерту, они состоят в естествознании в выработке общих («номотетических») понятий, а в историко-гуманитарных дисциплинах– в индивидуализации «изображений», дающих представление об особом (= «idiographische Verfahren»). Утилитаризм, с энтузиазмом усвоенный русскими шестидесятниками XIX века, был лишь одним из вариантов в эпохальной парадигме, открытой и для диаметрально иной мыслительной установки. Ввиду своего двойного вхождения в разнородные множества медиирующий терм эквивалентности толковался философами либо так, что чувственно-материальное вбирало в себя воображаемое, умственное, либо в обратном порядке. Соловьев противопоставил в «Чтениях о Богочеловечестве» (1878—1880) «эмпирическому реализму» тезис о том, что «…идеям принадлежит предметное (объективное) бытие»153. Под этим углом зрения «…отвлеченное мышление есть переходное состояние ума, когда он достаточно силен, чтобы освободиться от исключительной власти чувственного восприятия <…>, но еще не в состоянии овладеть идеею во всей полноте и цельности ее действительного предметного бытия»154. Умозрение Соловьева само оборачивается пограничным явлением, предвосхищающим близившийся выход на социокультурную сцену тех поколений, которые трактовали poiesis как praxis.
Духовная культура, пережившая свой восход и закат в период 1880—1910-х годов (но в отдельных проявлениях продлившая существование и в позднейших десятилетиях), разрушила логический мост, наводившийся эквивалентностью между сравниваемыми областями. Как отрицание переходов от одного к другому новый смысл вылился в формы, не имеющие четкой определенности: психология Фрейда посягала на то, чтобы быть философской антропологией; политфилософия Жоржа Сореля, рассуждавшего о всеобщей стачке, сливалась с мифом творения (отчасти наследуя романтизму); трудно сказать, что явили собой «Опавшие листья» (1913, 1915) Василия Розанова, смешавшего здесь философствование с автобиографическими замтками, беглыми откликами на злободневные события, литературными оценками и т.п. В словесном искусстве конца XIX– начала ХХ века возобладала поэтика аллюзии, расплывчатого намека на обозначаемые реалии, сказуемой несказуемости. По содержанию же смысл, насаждавшийся эпохой, которую условно можно назвать символистской, был взятием дополнения (до универсального множества): ¬ (((a R b), (b R c)) (a R c)) (a \ b). В отсутствие посредующих звеньев сводимые вместе элементы получали статус дуально устроенной целостности. Если tertium non datur, то инаковость довершает собой некое все, комплементарна применительно к принятому за точку отсчета. Интуитивизм Бергсона при всей близости к соображениям Эдуарда фон Гартмана разнится с ними тем, что не требует от рациональности раствориться в «безошибочных» инстинктах (и они не предохранены от промахов), а берет две эти категории в качестве взаимокорректирующих: познание направляется в своей интеллектуальной версии на неорганическую материю, тогда как в инстинктивной– на органику. Для Бергсона нет прогресса без утрат, нет настоящего без врастания в него прошлого, без памяти, нет эволюции (бывшей у Дарвина адаптивным процессом) без вспышек творческой активности, каковой выступает сама жизнь. Все то же гартмановское «бессознательное» превращается в психоанализе из предпосылки к «всеединству» в постоянно сопутствующее сознанию, сопротивопоставляется ему и в итоговом понимании расценивается Фрейдом как сила, не устранимая из социокультуры, сколь бы та ни старалась избежать войн и революций, вызываемых неконтролируемым выбрасыванием наружу подавленной душевной энергии. Николай Бердяев радикализует и антропологизирует «lan vital» Бергсона так, что целеустремляет креативность в потустороннее всему бытующему, которое обретает тем самым трансцендентную полноту не помимо человека, а в его собственной деятельности («Смысл творчества»). Чем более философия символистской эпохи проникалась умозаключением о том, что дополнение создает универсальное множество, тем менее значимым оказывалось дополняемое. У Бердяева трансцендирование призвано «освободить» человека от него самого и от «мира сего». Гносеология Гуссерля (которую Бердяев учитывал, как и бергсоновскую «философию жизни») очищала познающего субъекта от чувственного восприятия, чтобы тот мог «ноэматически» подойти к феномену как к идее. Очищение самости, в свою очередь, складывалось из комплементарных процедур: из «трансцендентальной редукции», имеющей дело с сознанием, и «эйдетической редукции», сводящей (математическим путем) разноликость явлений к «идеальным возможностям». Как и любая диахроническая система, ментальность, развертывавшаяся в 1880—1910-х годах, была единой в своем логико-смысловом принципе, но не в его приложимости к тем или иным сегментам социокультурной практики. Если в феноменологии Гуссерля индивидное должно было жертвовать собой ради объективности умопостижения, то Уильям Джеймс, напротив, отдавал главную роль личностному началу, которым он объяснял религиозность, внушающую человеку упование на успех совершаемых им действий. Каким бы богам мы ни поклонялись, вера в спасение дополняет науку и обусловливает ее, побуждая нас знать больше того, что составляет в некий момент нашу компетенцию («Многообразие религиозного опыта», 1902).
Недополняемость известного искомым была истолкована социокультурой авангарда и тоталитаризма (1910—1950-е годы) как включение (a b) нового, открываемого в данное. Отрицание комплементарных отношений (¬ (a \ b)) не возвращало постсимволистов к предсимволистскому (реалистическому) смыслопорождению, поскольку отказывалось и от него, от универсализации посредничества. Включение Другого в полагаемое исходным подразумевало, что каждая смысловая единица сопоставима с собой и только с собой. Отрицание– драйв (как теперь выражаются) логоистории, а не regressus ad infinitum по той причине, что двойное отвержение прошлого, периодически сменяющее одинарное, производит негацию из повтора в усиление себя, прокладывает дорогу линейности через цикличность и означает progressus ad finitum (ибо цикл, вообще говоря, завершаем в линии и vice versa, так что их динамика, чем более она нарастает, тем менее перспективируется в бесконечность). В своей вступительной фазе постсимволизм, делавший упор на самодостаточность любых концептуализуемых предметов, был увлечен прежде всего вписыванием трансцендентного в имманентное. Все, выходящее за порог проверяемости на деле, было иррелевантно для Бертрана Рассела и Людвига Витгенштейна. Иное, чем наличная действительность,– это всего лишь высказывание о ней, которое либо сопричастно ей, либо нет– и тогда ложно. Зажатое в узком мыслительном пространстве двуместной логики философствование умерило готовность к варьированию, не набрало мощи и влиятельности в начальном (так называемом «историческом») авангарде, который заявил о себе по преимуществу в искусстве. В футуристическом изводе оно переживало будущее уже здесь и сейчас и, внедряя потустороннее в посюстороннее, абсолютизировало в самых разных своих течениях переносы значений по смежности: художественная фантазия, куда бы она ни дерзала ступить, оставалась в границах одного и того же мира, интегрированного в составных частях. Что данного было для авангардистов первого призыва достаточно для радикальнейших нововведений, как нельзя лучше демонстрирует супрематизм Малевича, чьи черный, белый и красный квадраты попросту репродуцировали, вобрав в себя, подручные средства живописца– краски и холст, натянутый на подрамник. В этом плане произведения Малевича вполне сходны с «Фонтаном» Дюшана. Неинтерпретируемость дадаистских текстов и арт-объектов имела в виду, что операция включения автономизирует созидательную работу не только в виде спонтанного творческого акта (как causa sui), но и в виде отгороженной от реципиентов (как effectus sui). Включение могло быть спутанным с обладанием, и поэтому постсимволизм на всем своем историческом протяжении настаивал на том, что поссесивность не свидетельствует ни о чем ином, кроме отсутствия суверенности: хлебниковские «изобретатели» объявили войну «приобретателям», Габриэль Марсель принижал в своих «Метафизических дневниках» 1920—1930-х годов modus operandi «иметь», дабы противопоставить собственничеству modus vivendi «быть» (через несколько лет c этим ценностным размежеванием солидаризуется Эрих Фромм). Стесненное, как говорилось, в возможностях философствование тратило свои усилия на реставрацию авторитетных идейных схем, например марксизма, сдобренного гегельянством в «Истории и классовом сознании» (1922) Георга Лукача. Однако, апологетизируя марксизм, Лукач и приспосабливал его к нарождавшемуся стилю инклюзивного мышления: чтобы подытожить историю в ее тотальности, пролетариат, ведущий битву с буржуазией, должен овнутрить свою агональность, самокритически осознать себя.
В той степени, в какой авангард 1910—1920-х годов насытил логику включения конкретными реализациями этого принципа, добываемый эпохой смысл объективировался, стал данностью. С cередины 1920-х годов перед постсимволизмом встает задача, как удержать информативность включения. Рема раннего авангарда перестраивается в тему позднейшего. Самообеспеченная тотальность перестает быть горизонтом мышления, выступая в качестве пресуществующей ему. Она предстает у Хайдеггера в образе всепоглощающего бытия, ведущего к смерти, то есть к триумфу сугубой объектности. По характеристике Арнольда Гелена («Der Mensch», 1940), человек специфицирован среди прочих биологических особей тем, что умеет откладывать удовлетворение своих жгучих потребностей на неопределенный срок. Человек у Гелена будущностен, как и у футуристов, но этим свойством он был наделен всегда– оно не является благоприобретенным здесь и сейчас. Онтологический поворот эпохального сознания активизирует философию, которая получает право быть всезначимым суждением и без сужавшей ее потенцию борьбы с метафизичностью, без отсечения «того» мира от «этого»: сущее омниинклюзивно. Революционность только еще складывавшегося авангарда, которая законмерно происходила из того, что он вкладывал трансцендентный смысл в имманентное, не утрачивается и в дальнейшем, но перетолковывается тоталитарной социокультурой на консервативный лад, оказывается восстанием из прошлого (национального и расового) или из уже захваченного плацдарма (таков сталинский тезис о возможности построения социализма в одной стране). Постсимволизм двухэтапен, проходя путь от аналитической стадии, на которой он бескомпромиссно отличал надвинувшуюся историческую ситуацию от былого, к синтетизму, объективировавшему творческую волю утверждавшей себя субъектности. (Такая же внутренняя диахрония раскалывает надвое и остальные эпохи– ее рассмотрением пришлось пренебречь ради сжатости изложения.) Субъектное само по себе теряет ценность для мыслителей второго авангарда: «я» в философских набросках М.М. Бахтина безосновательно и вступает в бытие только через овнутривание Другого, что составляет «событие бытия». Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер подвергают в «Диалектике Просвещения» (1944, 1947) субъектное критическим нападкам за то, что оно в жажде быть всеобщим репрессирует единичности (то есть абстрагирует множество от включенных в него подмножеств). Считая, что своей созидательной энергетикой социокультура обязана врастанием в нее инакового («гетерогенного»), Жорж Батай постепенно пришел к неутешительным размышлениям о расточительности человека, постоянно избавляющегося от избыточности и не способного возвыситься до подлинной суверенности (если не принимать в расчет его художественное воображение). В сочинениях Батая 1940—1950-х годов европейская философия, бытовавшая между двумя мировыми войнами, вплотную приблизилась к постмодернизму.
Диахронический ансамбль, начавший становление в 1960-х годах, базировался на исключении: ¬ (a b) (a | b). Оно изъяло социокультуру из эпохального ритма, поместило ее в постисторический хронотоп, в некую длительность, изнутри которой нельзя было распознать никакого генезиса и финала. История виделась отсюда текучей, в каждый свой момент откладывающей фиксацию готового возникнуть смысла на будущее, каковое тем самым убегало в неясную бесконечность (точнее, неконечность). Сознание такого типа позиционировало себя за чертой того, что конституировалось когда бы то ни было как современное. С этой точки зрения нужно было оставить в невозвратном прошлом освященный традицией понятийный инструментарий, которым пользовался homo historicus. Постмодернизм зачеркнул такие категории, как человек, субъект, автор, обмен, каузирование, ноуменальность, идентичность и вместе с ними многие другие. Более того, все социокультурное творчество было обвинено в том, что оно симулятивно, пускает в оборот «копии без оригиналов». Место дискредитированных смысловых ценностей заняло из ряда вон выходящее– маргинальное, пребывающее в меньшинстве, случайное, не поддающееся обобщению, эксцессивное. Поскольку эксклюзивность несовместима с представлением об иерархиях, их сменили «ризомы», вектор развития которых непредсказуем. Деиерархизация значимостей, проведенная постмодернизмом, придала миру одномерность, лишила его фундаментальной глубины, заставила мыслителей рассматривать те или иные события как разыгрывающиеся только на внешней стороне действительности. С метафизикой было бесповоротно покончено, а затем скепсис обрушился и на теоретизирование, коль скоро то предпочитает исключениям правила. Динамика постмодернизма привела его в 1980—1990-х годах к критической точке, в которой его вычлененность из истории сделалась данностью, приметой лишь того момента, в котором совершается интеллектуальный акт или поступок. Постмодернизм трансформировался в презентизм, подменил смысл, отыскиваемый в исключениях, исключением самого смысла– чистым прагматизмом, глобальной погоней за выгодой во что бы то ни стало. Смысл, добравшийся в своих превращениях до автоэксклюзии, невосстановим. Став собственным Другим на старте постмодернизма, он переродился ныне в Другое смысла, обозначившее конец логоистории. Если социокультура еще и продолжается, то главным образом по институциональной инерции, а не как открытие нового идейного горизонта, не как визионерство, всегда ранее гарантировавшее ей неистребимость в будущем. Занявшее всего каких-нибудь 10—12 тысяч лет выстраивание человеком логоисторического универсума– ничтожно малый срок в сравнении с космическим временем и весьма короткий отрезок в судьбах рода homo sapiens. Вопрос стоит так: можем ли мы, привнеся однажды, в неолите, смысл в нашу историю, продолжить ее в виде практики, не поддержанной никакими большими идеями?
IX. Вести с театра военный действий
Смысл сценичен, потому что он двусоставен. При реализации в поведенческих конвенциях он показывает себя, сополагая своего носителя с другим субъектом. Мы демонстрируем смысл, который внутренне предрасположен к тому, чтобы быть разделенным нашими партнерами, чтобы приобщать к себе второе лицо– зрителя. Всеприсутствие смысла таково, что он не только творит инобытийность, символический порядок, но и заставляет лицедействовать природу, театрализует ordo naturalis. Наполненные смыслом, стихии мифологизируются и поэтизируются, что исследовал Гастон Башляр. Но и помимо «грез» о земле, воздухе, воде и огне, материя, попавшая под воздействие смысла, претерпевает транссубстанциализацию (из руды выплавляется металл, ветер отдает свою энергию мельницам и электроустановкам и так далее), то есть становится подобной актерским перевоплощениям, переселениям из тело в тело. Природа принуждается текстами и техникой подражать культуре. Эта имитация обратима. Социальный компонент в культуре придает ей как бы естественность, ставит ее в зависимость от природы (сужает в родо-племенных рамках, приспосабливает к местным обстоятельствам, биологизирует в семейном наследовании власти). Озеркаливание природы в культуре обычно называют мимезисом, полагая, что он первичен для становления креативного сознания. Надо, однако, думать, что homo socialis, видящий в себе продолжение природы, вторичен по отношению к человеку, насыщающему смыслом естественную среду и водружающему над ней свой собственный универсум. В своей вторичности мимезис, в котором социальность выступает в роли не артефакта, а натурофакта, превращается в mise en abme, в неоригинальность каждого, кто включается в коллективную жизнь, в условие принадлежности индивида к обществу (как на этом настаивал в конце XIX века Габриэль де Тард).
Чем вызывается сдача смыслом своих позиций, производимая им имитация биофизической действительности? По-видимому, тем, что его инкорпорирование не способно обезопасить нашу плоть от смерти. Смысл одухотворяет человеческое тело, переводит его в абстрактно-логическое измерение, внушает надежду на спасение, которое вовсе не удостоверяется биологически. Работа человека со смыслом снимает страх смерти и вместе с тем усиливает его. От смысла отворачиваются, его стараются не замечать, не исследуют таким, каков он есть, ибо выявленный, пойманный на познавательный прицел, он ввергает нас в безнадежность, бросает на произвол телесного существования. Социальность пытается увековечить смысл, подводя под него бытийный базис, натурализуя условности нашей сопричастности друг другу. Откликаясь на страх перед смыслом, эта операция делает общество неизлечимо агрессивным и интровертно (раз оно преследует инакомыслящих), и экстравертно– в войне.
В обширнейшей философской литературе о войне (в так называемой «полемологии») безраздельно господствуют две постановки вопроса. Одна из них– детерминистская: какова причина, придающая войнe неизбывность? Вторая– телеологическая: какую задачу решают повторяющиеся войны? В рамках обеих парадигм сшибаются в идейных схватках разные мнения.
Отчего-война Гоббса (как он постулировал уже в «De cive, or the Citizen», 1642) есть результат «естественного состояния», пребывая в котором люди, полагающие себя равными друг другу от природы, не считаются с чужим правом на владение собственностью. Гарантируя это право подданным, государство еще отдает во вншней политике дань «войне всех против всех», что будет устранено только при полном выходе из «естественного состояния», который возможен при установлении теократии, при подчинении общества божественной власти. Во второй половине ХХ века к Гоббсу примкнет Рене Жирар («Насилие и священное», 1972) с той, однако, разницей, что поймет status naturalis как вырастающий из взаимоподражательности людей (имитатор не отделяет своего от не своего) и увидит развязку омниконфликтности в жертвоприношении, канализующем насилие (в сущности, по христианскому принципу попрания смерти смертью). Имитационность, которая квалифицирует у Тарда поведение социального человека, была передвинута Жираром в пресоциальность.
Детерминистская модель, выдвинутая Гоббсом, претерпевает переоценку в романтизме, когда Карл фон Клаузевиц (1832) отнимает у войны самостоятельноe значениe («…kein selbstndiges Ding»155) и отыскивает ее «первоначальный мотив» в политике, то есть в искусственном, а не в натуральном положении вещей. Если для Клаузевица война– это Другое политики (продолжение таковой иными средствами), то для Прудона («Война и мир», 1861) вооруженные столкновения являют собой Другое труда: они обусловлены ростом народонаселения, вызывающим «нехватку продовольствия», «пауперизм» и отсюда подмену созидательного хозяйствования грабежом. Как и Клаузевиц, но на свой лад, Прудон противоречит Гоббсу. С точки зрения прудоновского анархизма, намеревавшегося избавить человека от социокультурных конвенций, война непреодолима ни в каком государственном устройстве, ибо именно она и учреждает правопорядок, зиждущийся на «законе сильного». Этот антиэтатизм, идущий к Прудону от Юма («Of the Original Contract», 1752), был подхвачен на пороге XIX и ХХ веков Львом Толстым, который вменял ответственность за кровопролития сосредоточению власти в руках отдельных лиц и требовал от своих читателей самовластия, выражающегося в отказе от несения воинской службы.
Итак, в восприятии философии, ищущей causa efficiens, человека побуждает к войне его принадлежность либо к природе, либо к культуре. Несмотря на то что у произведенной Гоббсом натурализации войны нашлось немало противников, его подход получил в новейшее время поддержку не только в спекулятивных допущениях Жирара, но и в суждениях, претендующих на сугубую научность психологического и биологического свойства. В открытом письме Эйнштейну («Warum Krieg?», 1932) Фрейд объяснил своему адресату неизбежность войн, сославшись на присущую людям деструктивную энергию, на их танатологичность («Живое существо сохраняет… собственную жизнь за счет того, что разрушает чужую»156). Согласно известному тезису Конрада Лоренца («Das sogenannte Bse», 1963), людей ввергает в убийственное противостояние их особый по сравнению с прочими биологическими видами статус– их независимость от среды обитания, раскрепощающая «интраспецифичную селекцию», поощряющая внутренний, а не приспособительный к внешним обстоятельствам отбор. Биопсихологические концепции войны были (при всем своем сциентизме) во многом инспирированы философией– учением Ницше о «воле к власти» (оно было усвоено Фрейдом при посредничестве Сабины Шпильрейн). Господствовать над самой витальностью человек способен, по Ницше, только в акте автонегации, освобождаясь от себя («…der Krieg erzieht zur Freiheit»157).
У Фрейда и Лоренца природа, обусловливающая войны, отъединилась от культуры: у обоих status naturalis навсегда закрепляется за человеком. Такой же замкнутой на себе стала для философии в ХХ веке и культура в качестве взрывоопасной, разрешающей споры на поле брани. Реагируя на Первую мировую войну, мыслители декадентско-символистского времени усматривали ее причину в имманентной социокультурному строительству раздвоенности, в суверенной способности Духа прокладывать себе разные пути развития. Тем, кто вел речь о такого рода расколе, поневоле приходилось выбирать, на каком из полюсов ими установленной фундаментальной дихотомии они сами находятся. Думающие о войне, разросшейся в мировую, втягивались в нее в роли вольноопределяющихся на философско-пропагандистском фронте. Под их углом понимания в сражения вступают правда и ложь о человеке, o его историческом предназначении.
В наделавшем много шума докладе «От Канта к Круппу» (1914) Владимир Эрн возвел русско-германскую войну к соперничеству «всемирно-исторических начал», одно из которых истинно, будучи средоточием веры в Божественный Промысел, а другое «богоубийственно» и потому выражается в технизированном «бытии для себя»158. Эрну вторил в статьях «Вселенское дело» (1914) и «Духовный лик славянства» (1917) Вяч. Иванов, считавший немецкую культуру «внешней», держащейся на «формальном соподчинении… обособленных знаний»159, а русскую– соборно-целостной, порожденной экстатическим коллективным телом. Сходным образом, но в инверсированном порядке на Первую мировую войну откликнулась и немецкая мысль. Так, по Томасу Манну («Gedanken im Kriege», 1914), немецкая «культура», единящая действительность в Духе, несовместима с западноевропейской буржуазно-неорганической «цивилизацией».
Вторая мировая война, в значительной степени воспроизведя геополитический расклад сил Первой, лишила философию символистского поколения надежды на то, что в битве культур (или «культуры» и «цивилизации») победа безоговорочно достанется одной из воюющих сторон. В «Размышлениях о войне» (1940) Сергий Булгаков представил воинские бедствия и жертвы в виде неотъемлемой составляющей всего «тварного самотворчества», обреченного содержать в себе «пустоту», коль скоро Демиург создал мир «из ничего»160. Переход Второй мировой войны в холодную, в сосуществование конфронтирующих сверхдержав, в гонку вооружений, долго никому не дававшей выигрыша, укрепил философию в предположении, что милитаризм коренится в культурогенности как таковой– вне зависимости от того, какие формы та принимает. Андре Глюксман утверждал, что призыв на войну человек получает из своего главного средства общения– из языка, универсального в той мере, в какой он стирает индивидуальное, в какой общей для каждого из нас является смерть («La langage universel est mort qui parle»161). Если разность социокультур и принимается политологами последних лет, например Сэмюэлем Хантингтоном162, за источник войн, то она утрачивает ранее свойственный ей ценностный характер, перестает быть размежеванием истины и фальши, делается фатальной.
В то время как отчего-война выступает иррациональной либо трансрациональной (случающейся из-за того, что одного лишь разума оказывается недостаточно, чтобы организовать жизнь)163, зачем-война так или иначе рационализуется в дискурсах политологического и отвлеченно-умозрительного толка. Философия, целеполагающая войну, склонна оправдывать ее или по меньшей мере констатировать ее предзаданность людскому роду. Без овладения искусством войны и без приготовлений к ней в мирный период нельзя удержать власть– таково наставление, адресованное правителям в макиавеллевском «Князе». Война, которой Ренессанс в лице Макиавелли предназначал способствовать господству индивидов над обществом, преобразуется в «Санкт-Петербургских вечерах» Жозефа де Местра в явление «всемирной верховной власти», каковую Бог карающий отправляет ради того, дабы указать людям, что им предстоит искупление первородного греха. Вразрез с религиозно настроенным де Местром Гегель легитимировал войну в качестве ведущей к самовластию человека. Она дает, в соответствии с гегелевской историософией (1807), индивидам, погруженным в «Dasein», возможность почувствовать работу их «господина»– смерти, отрицает уединенное пребывание в мире, предоставляя сознанию в его всеобщности, целокупности свободу и силу. В «Оправднии добра» (1894—1895) Владимир Соловьев синтезировал «Санкт-Петербургские вечера» и «Феноменологию духа»: конечный итог войн– учреждение царства Божия на земле, возможное только как «восполнение частной жизни общею историческою жизнью человечества»164. Визионерство, верящее в предусмотренный Промыслом вечный мир-через-войну, восходит к Блаженному Августину, проповедовавшему, что плоть одухотворится в Небесном Иерусалиме после Страшного суда. Исходя из упования на грядущую нетленность людского бытия-в-Боге, Августин задним числом опричинивал войну неполнотой земной власти, которая из-за своего несовершенства нуждается, cовершаясь, в насилии и братоубийстве.
В версии Нового и Новейшего времени зачем-война не столько разрушительна, сколько конструктивна и преисполнена функциональности. Из битв с гермaнскими полчищами русский народ извлечет, как думал Василий Розанов, урок государственности («Война 1914 года и русское возрождение», 1915). Того же убеждения придерживался Евгений Трубецкой, не сомневавшийся (как вскоре выяснится– зря) в том, что участие русских в Первой мировой войне положит конец революционным брожениям в стране, приостановит «внутренние раздоры» и восстановит «давно порванную связь поколений»165. Функционализация войны, которой приписывается causa finalis, может повлечь за собой, как видно, вырождение общезначимого философского высказывания в локально-патриотическую публицистику, куда более узкую по своему державному сoдержанию, нежели абсолютизация одного из двух социокультурных типов, проводившаяся современниками Розанова и Трубецкого. Но суждения в пользу кризиса, грянувшего в 1914 году, были не обязательно односторонними. Иван Ильин отнесся к Первой мировой войне диалектически, обрисовав ее в виде трагического «предела… изволения»166, которое обращается в свою противоположность– в высокоморальное чувство вины у убивающих друг друга, в проверку воли совестью.
На примере Ильина заметно, как война, которой в XIX веке ставилась внеположная ей цель, трансформируется в автотеличную. Для Трубецкого идеал, вынашивавшийся Августином, достигнут: плоть людей, готовых пасть в сражениях, уже перешла в Дух. Батальная философия ХХ века, особенно та, что возникла в 1920—1940-х годах, приурочивает горизонт исторических ожиданий не к времени post bellum, а к течению войны, которая все более и более довлеет себе. В «Рабочем» (1932) и прочих сочинениях Эрнста Юнгера война превращается из инструмента власти, каковой была у Макиавелли, в саму власть, предполагая передачу правительственных полномочий генеральным штабам, «тотальную мобилизацию» общества, не разграничивающую фронт и тыл, замену гражданских прав иной свободой– эмансипацией таящихся в человеке способностей к сверxнапряженному задействованию жизненных ресурсов. В начале 1920-х годов Жорж Батай отождествляет на манер Гераклита войну с бытием, умозаключая отсюда: «Ценность человека зависит от его агрессивной силы»167. В одном из Приложений (1949) к книге «Человек и сaкральное» (1939) соратник Батая по Коллежу социологии, Роже Кайуа, помещает войну, освящая ее, в один ряд с праздником: и там, и здесь обыденщина вытесняется эксцессивностью, дозволением нарушать запреты, регенeративной кризисностью, вызывая которую человек подчиняет линейное время себе и себя превосходит168.
Самоцельная война вылилась в изобретение атомного оружия, угрожающего продолжению жизни на планете. Атомного апокалипсиса, однако, не произошло, что– среди прочих факторов– подвигло постмодернизм конституироваться по ту сторону историософского финализма (против которого протестовал Жак Деррида в брошюре «D’un ton apocalyptique adopt nagure en philosophie», 1983) и обратиться к исследованию локальных, асимметричных и антитеррористических, то есть частнозначимых, войн (эти изыскания отчасти предвосхитил Карл Шмитт в «Теории партизана» (1963)– в работе о вооруженных действиях спонтанного типа).
Детерминистско-телеологические определения войны сообща имеют тот недостаток, что оставляют нас в неведении о том, что именно дефинируется. На первый взгляд представляется ясным, что война– это взаимоистребление людей, санкционированное государствами либо безгосударственными архаическими обществами. Но войны могут обходиться без кровопролития, о чем свидетельствуют аннексирование Гитлером Австрии или атаки враждующих сторон, осуществляемые ныне в cyber space. И в обратном порядке: массовые убийства (погромы, Большой террор сталинской эпохи) случаются и помимо войны (пусть даже геноцид в ХХ веке бывал, впрочем не всегда, ее побочным продуктом169). Все сотворенное человеком, в том числе его ратные деяния, мнимо прозрачно и, по существу, не очевидно, потому что является на свет в объектной форме, будучи субъектно по происхождению.
Кажется, что войны не допустимо рассматривать в контексте созидательной активности– ведь они разрушительны прежде всего. Но разве они не включают в себя вместе с тем планирование, организацию коллектива, посылаемого на битву, и его техническоe оснащениe? Война сразу и деструктивна, и конструктивна. В таком освещении она предстает внутренне противоречивым, себя отрицающим актом креации, в котором Демиурга подменяет, как сказал Оден в стихах о 1 сентября 1939 года, «A psychopatic god». Война извращает генеративный порыв человека, требуя от научно-инженерной мысли совершенствования боевого снаряжения (если и защищающего жизнь, то ради поражения врага); накапливая материальные ценности за чужой счет, путем захвата трофеев; придавая Эросу агрессивность в насилии солдат над женщинами на отторгнутой у противника территории. Внешне война выглядит противостоянием двух армий, однако за этим прячется ее внутренняя конфликтность, ее борьба с самой собой, неизбежно вытекающая из антиномичности задачи по созиданию разрушения. Война ведется между разными войнами: регулярной и партизанской, оккупационной и оборонительной, полицейской и террористической, широкомасштабной, перекраивающей карту мира, и локально сопротивляющейся этой демаркации границ, революционной и отстаивающей status quo ante, высокотехнологичной и примитивной по используемым средствам, гражданской и интернациональной (как то программировал и осуществил Ленин). Война на разгром противника, до победного конца имеет феноменальный исход, но не завершаема ноуменально. Чем больше род людской набирает исторического опыта, тем менее тайным становится это до поры не бросавшееся в глаза содержание войны. Начиная с 1914 года она прекращается, только чтобы возобновиться. Первая мировая война была после короткой передышки подхвачена Второй, а ту продлила холодная, которая, в свою очередь, перевоплотилась в восстание мусульманских регионов против христианских и в бесплодные (в Афганистане, на Северном Кавказе) попытки держав-гегемонов погасить очаги повышенной для них опасности. Таково положение дел в современности. Но и великие завоевания далекого прошлого, вроде походов Александра Македонского или Чингиcхана, подытоживались распадом складывавшихся в результате этих предприятий имперских образований– оборачивались войнами, не знавшими ультимативного победителя.
Цель преследуют полководцы и проникшиеся милитаризмом государственные мужи. Война же сама по себе нецелесообразна. Она берет цель напрокат у духовной культуры, ибо по определению homo socialis, он же– homo militaris, вторичен в сравнении с субъектом, не подражающим природе, а переделывающим ее. Не имея собственной цели и перенимая чужую, творческую, война вовлекает социокультуру в самопожертвование. Имитируемое гибнет в имитирующем. Как бы ни были несходны ввязавшиеся в схватку типы культур, они одинаково готовы отдать себя на заклание. Война– соревнование коллективов в самоотдаче. В конкуренции подателей жертвы выигрывает тот, кто проигрывает главное, чемобладает,– жизнь, что с особой наглядностью демонстрируют террористы-смертники. Нравственно легитимировать убийство подвигом отречения от себя– сомнительное дело, которое нуждается, бросая вызов фундаментальным общечеловеческим запретам, в санкционировании, выставляющем воина избранником (его родины и/или его церкви). От праздничной расточительности война отличается тем, что кладет свои жертвы на алтарь победы: оба враждебных лагеря растрачивают себя в надежде уничтожить соперника. На войне жертвуют всем– и своим, и чужим. Убийство ценой своей жизни– изъявление воли, теряющей однозначную ориентацию. В мирное время жертвам назначается предохранять общество от упадка (не только мифоритуальное, как нам это известно, но и позднейшее, наказывающее нарушителей закона). В войне двойное пожертвование– и собой, и Другим– не может быть ничем иным, кроме регенерирования самих вооруженных действий, убегающих в «дурную бесконечность». Войны возрождаются, не находят насыщения, не спасают никого, потому что у них нет внутренней альтернативы, раз страждущими во спасение, рискующими собой делаются все их участники. Универсализуя минус-дарение, войны по-своему философичны170. На торжище войны обмениваются расходами. Чем сильнее изолировано общество (пример– горные племена), чем слабее его торговые интересы, тем агрессивнее оно, тем привлекательнее для него антирынок– война. Как отрицательный обмен она становится в наше время (глобальной экономики) состязанием операторов, поражающих не более чем электронную технику врага.
Точно так же, как войны по отдельности могут быть прагматически успешными, но в целом телеологичны лишь за чужой счет, они бывают мотивированными как частные случаи, однако все сообща имеют не причину, а основание. Таковым служит то обстоятельство, что обживаемая людьми вторая вселенная, стремясь к самодостаточности, не достигает ее, будучи мыслефизической, не способной вполне оторваться от природы. Социокультура снимает напряжение между надвременным идейным содержанием и его материальной, в том числе ненадежно-телесной, реализацией (если угодно, между информацией и медиальностью171) двумя способами– либо замещая один символический порядок новым по ходу логоистории, выражая недовольство собой путем рекрeации, либо фрустрационным образом опустошая в войнах оба своих полюса: как мыслительный, так и физический. Под этим углом зрения война являет собой негативный эквивалент рекреации, тень, отбрасываемую интеллектуальной историей. Война подменяет возведение иного, чем прежде, эпохального мироустройства геополитическими приобретениями, вторжением на территорию врага. На брань людей толкает не темная биоэнергия сама по себе, а раскрепощение этих инстинктивных сил, вызываемое неосуществимостью желания одухотворить плоть без остатка. Война может случиться в любом месте и в любой момент. Все же крупный формат она принимает на сломах эпох, когда одна из них исчерпывает себя, а другая еще не успевает актуализовать свои потенции (так, вместе с Крестовыми походами начинается преобразование раннего Средневековья в позднее, Тридцатилетняя война в Германии знаменует собой переход от Ренессанса к барокко, на горизонте Первой мировой маячит наступление авангардистско-тоталитарной эры).
Что-войну следует понимать как псевдотрансцендирование, прельщающее нас инобытием, но не выполняющее свое обещание. Если логоистория и впрямь оттесняет в прошлое некогда установившуюся действительность in toto и помещает человека в дотоле не виданную, то война сдвигает границы и меняет доминанты лишь в здешнем мире, в пределах его геополитической карты. На арене сражений суверенно утверждающийся смысл перерабатывается в референтно зависимые значения. Ars inveniendi нарастает в войне, но с тем, чтобы поставить свой успех под вопрос: прогресс наступательного вооружения постоянно нейтрализуется развитием защитных средств, что низводит техническое совершенствование до игры с нулевой суммой.
Стоит вспомнить Жирара и уточнить его концепцию. Имитация имитации рознь. Мим никому не причиняет ущерба. Однако если подражатель вытесняет образчики с их мест, он превращает имитацию в насилие. Война– плагиат, в результате которого мирный творческий труд имитируется и узурпируется в труде ратном– непродуктивном. Физическое принуждение окарикатуривает логический аргумент. Оно вырывается наружу там и тогда, где и когда смысл каменеет в овеществлении, кажется непреодолимо инерционным, не воскрешаемым в качестве оригинального. Имитация как насилие– посягательство на чужое достояние, апроприирование собственности, добытой посредством некоей созидательной инициативы. Война перераспределяет собственность вместо того, чтобы порождать ее, воплощать в ней умственную предприимчивость, которая авторизует реальный и символический капитал, накапливаемый индивидами и коллективами. Конечно же, баталии требуют от тех, кто их планирует, хитрости, подчас изощренных интеллектуальных ходов. Но эти тактико-стратегические решения сводятся, отвечая имитационной природе войны, к обману и дезинформированию противника, а также к похищению его секретов. Архетип генштабистов– подражатель Демиурга, трикстер. Это соображение поддается расширению: война возвращает нас в мифоритуальную архаику, туда, где воспроизведение во что бы то ни стало социокультурного порядка ставило барьер поступательной истории и разряжалось в пассионарных вспышках агрессивности, как будто не объяснимой с точки зрения эволюционно продвинутого сознания.
Расхожее сравнение войны с театральным представлением172 схватывает суть дела куда точнее, чем безостановочно разбухающее философствование о ней, но все же слишком общо и безоценочно. Войну разыгрывают актеры, обрекающие спектакль на катастрофу. Как кризисный симулякр культурогенности война подражает и сама себе в множестве версий– в терроре, в переделе имущества и доходов, производимом внутри общества, или, скажем, в cyberwar. Но как бы война ни была родственна искусству и как бы искусство, со cвоей стороны, ни было заполнено батальными сценами, мимезис здесь и там неодинаков. Эстетическая деятельность удваивает не естественный порядок, а саму социокультуру, сообщая ей тем самым повышенную надежность173,– война устремлена в прямо противоположном направлении, опрокидывая творческий порыв человека в неживую природу. Если искусство и отождествляет себя с войной (как, например, в отдельных версиях авангарда174), то тогда, когда культурная история попадает на ту стадию, на которой допускает свое новое начало от нуля, полный повтор себя, репродуцирование всего, что было, с отрицательным знаком.
X. О чинах демонских
Человек ни добр, ни зол, но изначально он вовсе не невинен, как думал Руссо, а целеустремлен. Это качество в нас самоценно, надстроено над животно-эгоистической заботой о поддержании индивидуального существования и о его родовом продолжении. Становясь достаточной в себе, целеустремленность вписывается в архитектуру тела, устроенного так, что одни его части способствуют другим при выполнении теми каких-либо заданий: прямохождение высвобождает руки для производственной активности; левая рука служит помощным органом для доминирующей правой, а правое полушарие головного мозга способно замещать левое, критически оценивающее ситуации, если то, сильное, отказывает (тогда как обратная субституция невозможна). Автотеличности, выражающей себя in corpore, вошедшей в нашу плоть, в принципе безразлично, как она будет соположена с внешним миром, какое именно задание она получит (ведь инаковость имманентна нам). Овнутренная целеустремленность очень часто ведет субъекта к отвержению личной и семейно-родовой выгоды: к аскезе, самопожертвованию ради не только близких, но и дальних, а с другой стороны, к оргиастической растрате жизненной энергии. Из всех животных человек– самое необучаемое, ибо самое автономное существо. Как раз поэтому он возводит настаничество в искусство и закладывает педагогику в фундамент того особого мира, который называется социокультурой.
Целеустремленность, возвышающаяся над своими практическими приложениями, над насущными потребностями себя утверждающего организма, гносеологически нагружена, с необходимостью вызывает желание выяснить, куда же она нас влечет, в чем ее смысл– отнюдь не очевидный. Как бы этот смысл ни определялся, он оказывается ценностным. Гносеология смешивается человеком с аксиологией. Вот как объясняется их слияние. Субъекту, чье поведение не диктуется природной необходимостью, открыт выбор при осуществлении им действия. С семантической точки зрения выбирают всегда одно и то же– значение, которое действие обретает, будучи направленным на конкретный объект. Однако отбрасываемые выбирающим альтернативы не исчезают вовсе, они сохраняются в нас как возможность увидеть себя глазами Другого. Взгляд извне делает нас самих подобными объектам, то есть вменяет нам свойство «быть ценностью» (положительной, отрицательной, нейтральной– какой угодно). И вместе с тем он охватывает, наряду с нашим обнаружившимся намерением, разные опции, содержавшиеся в выборе, и, таким образом, переводит действие из сферы значений в сферу смысла, рождающегося из головы в виде установления отношения между воображаемыми вещами. Короче, смыслооценку производит Другой в нас, некто (родители, учителя, Господь Бог или просто любой из толпы), занимающий третью позицию применительно к субъекту и его объекту. Смысл не только логичен, историчен и креативен, он обладает еще и этическими параметрами.
Вот стайка девушек-подростков смела с пути при посадке в автобус старушку. Неважно, куда они торопились– в бутик за покупками, в кино, на вечеринку. Но мелкое злодейство не было их умыслом. Автотеличность ослепляет людей– обладателей значений. Прозрение приходит тогда, когда в поле внимания субъекта, сосредоточенного на своем объекте, всплывает еще один субъект– не замеченная поначалу старушка, которой был причинен ущерб. Значение, каким наделялась слишком быстрая посадка в автобус, теряет монопольность. Спешить было не обязательно. Акция делается двузначной и, стало быть, поддается оцениванию. Это квалифицирование сопоставит агенсов происшествия и его пациенса, обобщит обе стороны (виновную и потерпевшую) под категорией субъекта как такового и придаст тем самым инциденту смысл. Заговорившая в тинейджерах совесть (партиципированный Другой) потребует от них признания в совершении дурного поступка.
Впрочем, совесть может и не подать голос. В таком случае Зло выступит обнаженным, скажем так– во всей своей невинности. В этой главе я попробую разобраться в том, что оно такое.
В платоновской «Апологии» Сократ рассказывает афинянам, призвавшим его к суду, о своем «демоне»– о персональном начале в человеке, обеспечивающем его суверенность, независимость от ходячих мнений. Эта сокровенная инстанция запечатлевает в себe, по Сократу, союз высших сил с природными: «демоны»– плод соития богов с духами мест (нимфами). Сократовский «демон»– другое слово для автотеличности. Она примиряет в «Апологии» развитую религиозность с архаическим анимизмом. В эротической концепции такого рода кроется глубокая интуиция.
Самоценная целеустремленность– ответ человека на ожидающую его и ему известную смерть. Выход из конечной бесцельности жизни, из грядущего краха наших начинаний состоит в том, что тело отгораживается от опасности, максимально противопоставляя себя ей, запирая в своем асимметричном строении передвижку к финалу, преобразуя вытеснение бытия небытием в таком распределении органов, которое конституирует одни из них в качестве замещаемых, а другие– в качестве замещающих. Человек привносит в природу, к которой принадлежит, раздвоенность, двутелесность, что безотчетно отражают ранние анимистические верования. Если же двутелесность рефлексируется, то она отторгается от себя, сублимируясь в представлениях о сверхчеловеческих, теоморфных существах, и возвращается оттуда, из проекции, к себе, к своей природной необычайности. Этот акт самосознания, до которого поднимается автотеличность, и разыгрывается в суждениях Сократа. Они свидетельствуют о том, что самость (она же– «демон») заявляет о себе в социокультуре в виде Эроса, вступившего в прения с Танатосом (с приговором, обрекающим подсудимого на смерть). Право на индивидуальность для Сократа превыше обязательств, принимаемых на себя членом коллектива, поскольку оно, сразу и естественное (соприродное), и сверхъестественное, неподвластно в обоих своих истоках обычаю со всей его инертной ковенциональностью.
Тело, в котором одни части дополняют другие до универсального множества, завершено, целостно. Его действия совершаются за гранью целостности, трансцендируют микрокосм, а в пределе (как считал Фихте в «Определении человека», 1800) также макрокосм. Иначе говоря, vita activa требует от человека постоянно превосходить самого себя и посылает его в неведомое, на простор открытий, фактического и умственного покорения объектов. В той мере, в какой объект захватывается нами, он получает значение– либо как наша собственность, либо как включенный в класс родственных явлений (ведь понятие, единообразя разное, подчиняет таковое мысли, устанавливает ее главенство над феноменальной множественностью). В человеческом обиходе действие, следовательно, имеет статус события, нарушающего контуры телесной целостности и восстанавливающего ее в значениях, которые очеловечивают мир, апроприируемый субъектом.
Нам предзадано довлеть себе, но не то, как мы переступим черту, отделяющую нас от среды. Событие, которое мы инициируем, может быть любым (кто-то добывает имущество путем созидательного труда, а кто-то присваивает себе чужую собственность; понятия бывают как истинными, соответствующими собираемым под одной шапкой референтам, так и ложными, ибо сенсорный опыт ненадежен, по поводу чего сетовал Декарт). Однако при всей своей произвольности действия не погружают людей в хаос, не безнадежно энтропийны в совокупности. Чтобы выломиться из самозамкнутости, человек нуждается в мотивировке, которая придала бы его поступку характер более или менее необходимого, оправдала бы выход из психосоматического стазиса. Мотивировка ограничивает свободу выбора и авторизует его. Так у события, в результате которого добываются значения, возникает смысл. Событие не просто происходит, оно творится тем, кто подводит под него основание. Ограниченные в своей наведенности на внешнюю реальность, действия принципиально поддаются упорядочиванию. Там, где есть автор, появляется и соавтор. Разумеется, мотивировки, которыми определяется vita activa, не одинаковы у разных лиц. Тем не менее, будучи обусловленными, действия оказываются интеллигибельными, то есть доступными для достижения их производителями консенсуса. Автотеличность изолирует нас, смысл содержит в себе потенцию солидаризовать людей. Под его эгидой значения становятся взаимосогласованными и узуальными: собственность втягивается в обмен– ритуальный и рыночный; понятия обобществляются и поступают на службу коммуницированию. Сколь самовластен ни был бы сократовский «демон», он еще не Зло; аргументируя, набираясь смыслa, он предоставляет себя в распоряжение коллектива, ведет диалог с судьями (приблизительно так же бесы в средневековых патериках трудятся– по велению монахов– во благо братии, таская бревна и выполняя прочие тяжкие физические работы).
Спрашивается: при каких обстоятельствах «демон» превращается в демона, в подателя пагубы?
В одной из последних книг о Зле (их число непрерывно растет) Ади Офир усматривает таковое в утратах и страдании175, ассоциируя, c другой стороны, Добро с наслаждением– «экономией желания»176. Эта наивная субстанциализация Зла не выдерживает критики. В страданиях (допустим, в «муках слова», испытываемых поэтом) есть своя позитивность, а в наслаждении (скажем, зрелищем публичной казни преступника) malum нередко перевешивает bonum. Для обыденного сознания потеря кошелка с деньгами и по рассеянности, и вследствие кражи– одинаково Зло. Но в философском дискурсе Зло (das Bse) принято отмежевывать от беды, бедствия (bel). Вред, причиняемый нам болезнями, буйством стихий, несовершенством технических устройств, неосторожным обращением с вещами и т.п., относится к второй из названных категорий. Диагностированное вразрез с таким вредом Зло не столько субстанциально, сколько операционально: оно– прежде всего способ действий и лишь во вторую очередь состояние тела, вызываемое ими. Если за бедствиeм, которoе на нас обрушиваeтся, стоит чья-то воля, оно делается Злом177.
Есть ли у злокачественных акций общий знаменатель, или же их многоликость нельзя генерализовать? Эта дилемма уходит корнями в христианскую метафизику и становится вновь острой для мыслителей наших дней. Блаженный Августин универсализовал в «Исповеди» (397—398 годы) людскую греховность в рассказе о том, как он в детстве вместе со сверстниками воровал груши. Похищение плодов не давало никакой выгоды – груши были малосъедобными– и было не индивидуальным, а коллективным поступком. Зло, в трактовке Августина,– произведение человека как такового, чья душа без покорности Всемогущему устремляется в противоположном бытию в его божественной полноте направлении– в «чистое ничто». Воровство груш явно восходит (вспомним древо познания в Эдеме) к грехопадению Адама и Евы, которое Августин берет за отправную точку для своей антропологии Зла. В «Сумме теологии» Фома Аквинский примет за terminus a quo демиургическое миротворение, каковое, в его понимании, не может быть ничем иным, кроме блага. Единое первоначало есть у Добра, Зло же представляет собой нехватку сущего и потому несущественно, акцидентально, множественно.
Сходная контроверза раскалывает постмодернизм. В «Фатальных стратегиях» (1985) и в «Прозрачности Зла» (1989) Жан Бодрийяр подхватывает августиновскую линию с той разницей, что предметом тотальной критики выступает для него не человек сам по себе, помимо Бога, а та стадия, которой мы достигли в новейшее время. «Принцип Зла» безраздельно господствует в настоящем, попавшем по ту сторону всех границ, бывших исторически релевантными, аннулировавшем то, что могло бы быть оппозитивным данному и вожделенному, переставшем различать истину и ложь– в симулякрах, свое и чужое тело– в клонировании, обмениваемое– в консюмеристской охоте за объектами владения и в терроризме178. Не столь бескомпромиссно, как Бодрийяр, но все же достаточно отчетливо на способности Зла к всеприсутствию настаивает Ален Бадью. В «Этике» (1993) Бадью изображает Зло неизбежным спутником и следствием Добра, которое он отождествил с событием истины– внезаконным, разрывающим преемство, предполагающим незанятость того места, где оно случается, то есть вбирающим в себя опасную пустоту. Поскольку Зло воспринимается постмодернизмом как исключающее до полного стирания или поглощающее собой то, что ему антагонистично, постольку эта категория расплывается и легко приносится в жертву диалектическому перевороту– прекращает свое существование в виде безоговорочного обобщения. Раз Зло повсюду, оно не определимо в целом. Для Ларса Свендсена, заявляющего, что о Зле нельзя философствовать, оно, как и для Аквината, не имеет «отдельного бытия», может быть схвачено лишь практическим, а не спекулятивным разумом, гетерогенно, не сводимо ни к какой глубинной сущности179.
Свендсен (как и подобные ему философы) впадает в лингво-логическое противоречие: он ведет речь о классе явлений под названием «зло», отрицая при этом наличие такого класса. На противоположном полюсе располагается религиозная концепция первородного греха: она тоже по-своему паралогична, потому что уравнивает разные классы– «зло» и «человек». Этот умственный ход игнорирует то обстоятельство, что всякий класс объединяет в себе пусть родственные, но тем не менее неодинаковые элементы. Если нет индивидного, то любые множества суть одно абстрактное множество, и тогда нам ничто не мешает подменять некий класс другим. Чтобы избежать обоих паралогизмов, не следует отвергать ни генерализованный, ни конкретизирующий взгляды на Зло. Нейтрализовать напряжение между ними удастся, если начать разбираться в Зле, обратившись к той его чистейшей, крайней форме, которую оно принимает у серийных душегубов.
Научные модели далеки от единодушия в объяснении преступной психопатии. Ясно, что у злодея отсутствует эмоциональная солидарность с жертвой. Но как возникает так называемая «алекситимия» (неспособность проникаться чужими чувствами)? Из того, что нейрональный аппарат не вырабатывает в достатке гормон радости и удовольствия– эндофрин и побуждает тем самым личность нести в мир несчастье? Из того, что островная доля мозга (insula) блокирует деятельность амигдалы, очага нашей эмоциональности, и превращает человека в бесстрастно-холодного палача? Или же из того, что психопат недополучил в детстве родительского внимания и по внушенному ему образцу (то есть благодаря работе зеркальных нейронов) не склонен к состраданию в зрелые годы? Гормональная, церебральная и психоаналитическая теории агрессивной некрофилии, правы они по отдельности или нет, сообща имеют, среди прочего, тот дефицит, что оставляют без ответа вопрос, как душевное расстройство одиночек становится массовым настроением– в геноциде, военных преступлениях, революционном и контрреволюционном терроре. Личности типа Джека-Потрошителя, Андрея Чикатило или Марка Дютру (убийцы детей, принуждавшихся своим мучителем обслуживать педофилов) отступают от нормы, но норма идет навстречу этим отклонениям. Откуда берется союз патологии и поведения, принимаемого в коллективном порядке?
Мне придется вернуться к тому, что уже было сказано о действиях, открытых для того, чтобы быть постигнутыми в своих доводах другими лицами. Жестокосердное преступление отличается от этих акций тем, что уничтожает своего потенциального истолкователя, само партнерство. Зло не бессмыслица, не нонсенс, оно уединяет смысл, который более не в состоянии служить материалом герменевтики. Лишая жизни детей, женщин, обездоленных и чужаков, психопат сосредотачивается на тех Других, которые в своей незащищенности особенно разительно не совпадают с ним, субъектом насилия, то есть как бы не более чем объектны. Но quasi-объекты не поставляют ему никаких значений, точнее, они значимы лишь в той степени, в какой разрушаются. Сказать, что психопат страдает алекситимией, мало– ведь она (свойственная и безобидным аутистам) еще не составляет достаточного условия для кровавого насилия. И далее: допустим, что маньяк мстит за поруганное детство– почему он ненасытен в своем рессентименте? что заставляет его убивать снова и снова? По всей вероятности, ему безразлично, кого персонально он покарает– его деструктивность отвлечена от конкретных объектов. То, что руководит им, есть присвоенный им себе, никому, кроме него, не данный смысл, влагаемый им в преступление. Зло вовсе не транспарентно или по меньшей мере противится опрозрачниванию, возражу я Бодрийяру (право же, его толстяки и стриптизерки отнюдь не отмечены, как ему казалось, каиновой печатью). Оно прячется за завесой, скрывается от правосудия, желая само быть вынесением приговора и расправой (и в резне, устроенной Джеком-Потрошителем на улицах Лондона, и в тайных массовых убийствах, учинявшихся тоталитарными режимами). Конфронтируя с миром референтов, оторванный от перехода в значения, в себе уединенный, зациклившийся смысл Зла оборачивается неким противосмыслом. Психопат продолжает быть автотеличным, и исступая из себя в действии, объект которого существует только для того, чтобы прекратить существование. Будучи овнешненной, самоцельность человека извращает свою функцию– спасать от угрозы смерти– и становится танатологичной и деструктивно-эротичной (претерпевает контрапозиционный переворот– «Verkehrung», как сказал бы Хайдеггер). Присоединение Эроса к пагубе подразумевает, что психопат инвестирует свою энергию в действия, сообщающие творению бесплоднось. Оно не имитируется здесь конструктивно-деструктивно, как на войне, а противоречит себе в мертворожденности, становится не завершаемым ни в каком готовом продукте. «Театр жестокости» не дозревает до премьеры, там бывают только репетиции. Если война предназначает заемщику роль того, кто дает взаймы (кто занят культуросозиданием), то Зло– это противонаправленный кризис кредита, расправа с тем, кто мог бы стать должником.
Зло не просто антипод Добра (эту оппозицию диктует нам логика языка, здесь недостаточная), но и, сверх того, бегство из сферы смысла как ценности с каким бы то ни было знаком. Злодеяние, часто не оглашающее свой резон или хотя бы не рассчитанное на то, что он будет понят, помимо посвященных, и сторонними интерпретаторами, ставит себя вне оценок. Противосмысл учреждается по ту сторону аксиологии. Виновный в глазах общества, индивид, одержимый жаждой убийств, невинен в том плане, что ему незнакомо самоотчуждение, что он не способен заступить предел, положенный ему автотеличностью, занять относительно себя метапозицию, стать себе судьей. Поведение психопата императивно– он свободен не в выборе действия, а от выбора, то есть свободен абсолютно– по необходимости. В качестве предпосылки Зла, нарушающего договор человека с Богом-творцом, плероматическим воплощением смысла, невинность была концептуализована в ветхозаветной истории Адама и Евы. Заповедуя перволюдям вкушать плоды с древа познания, Господь заранее не доверяет своим невинным крeатурам180.
Злодеяние вероломно нарушает ожидание, которым мы обязаны смыслу, не знающему данного без иного. Зло, отбирающее у контрагента возможность соучаствовать в смыслообразовании, только актуально (нет законов, карающих потенциальных преступников). Впадение в Зло компенсирует неустранимость внутреннего Другого в трансцендентальном субъекте за счет насилия над внешним Другим. В этом аспекте палач должен иметь нечто общее со своей жертвой (Сталин казнил соратников-революционеров, Гитлер-мессия, по точному суждению Ханны Арендт в работе о происхождении тоталитаризма, обрушил геноцид на нацию с традиционным мессианским сознанием).
Я потратил много слов, дабы определить Злo, но можно быть совсем кратким. Оно представляет собой дисфункцию смыслопорождения, отказывающегося выполнять свою работу– связывать комплексы значений. Разрыв этой связи– такая же умственная операция, как и введение значений в соотнесенность. Зло подлежит моральному запрету, но не имеет препятствия как «мозговая игра», пусть и загоняющая себя в тупик, в самоупразднение. Зло черпает свой смысл из отказа быть смыслом для Другого. Оно есть смысл, у которого отсутствует copula. В случае патологии изверг фиксирован на противосмысле, ничем иным он не располагает. Зло– всегда противосмысл, однако отнюдь не всегда захватывает индивида целиком, не оставляя ему никакой альтернативы. Чаще всего оно результат выбора, осознанного более или менее, но даже и в своей безотчетности допускаемого логикой негации, берущего назад смысл как творящее начало и все же пытающегося реализоваться в деле. Демонизм заразителен, потому что масса менее креативна, нежели индивид. Стать на сторону Зла тем легче, чем более само собой разумеющимся кажется смыслопорождениe, которое столь же машинально готово потерять эту свою минимальную созидательность. Искушенный застрельщиками злодеяний, среднестатистический человек, не будучи психосоматически предрасположен к изуверству, тем не менее дает втянуть себя в разгул спонтанных погромов и с бюрократическим рвением поддерживает гостеррор. (Когда страна прикажет быть злодеем, У нас злодеем становится любой.)
Лучше всех обрисовала безликость и неоригинальность попутчиков Зла Ханна Арендт в очерках (1963, 1964), написанных под впечатлением от Иерусалимского процесса над Адольфом Эйхманом. Что движет подобными людьми? Раз человек целеустремлен в себе par excellence, ему, надо думать, не совсем просто решить, в какую форму выльются его соприкосновения с миром, какова будет его социальная роль. Эта трудность развязывается в следовании традициям или в подчинении авторитету, каковым для Эйхмана, как показала Арендт, стал Гитлер. Как ни странно, но именно в коллективе (руководствующемся обычаем или послушанием лидеру) мы оказываемся в наибольшей степени пленниками автотеличности, запечатленной в наших телах, которые получают абсолютность, множась в групповом теле. Массы уступают соблазнению харизматическим Злом, поскольку у них нет возможности сопротивляться ему идейно. Конечно же, коллективы бывают неодинаковыми. Менее всего я имею в виду научные содружества и прочие ассоциации лиц, сплоченных обменом мнениями, признающих и поощряющих индивидуальный вклад в общий умственный или умственно-физический труд. Чтобы вершить Зло, коллектив должен ощутить себя сугубой корпорацией, пережить единение плоти, самоцельной у каждого из его участников. Условием для такого экстаза автотеличности служит очищение группового тела от собственного Другого, от вросшей в него чужеродности, от тайного врага. Что еще угрожает в первую очередь соборному субъекту, овнутрившему свою цель, как не он же сам, но в не поддающемся нивелировке виде– в образе аристократа, еврея, гомосексуалиста, еретика, паразита-интеллектуала и так далее?
Антропологизировав политику в качестве опирающейся на элементарно-человеческое различение друга и врага, Карл Шмитт представил ее, объективно говоря, ответственной исключительно за мир и войну. Зло ли война? Она сопровождается всяческими бесчинствами, благоприятствует росту Зла, но как таковая она– поединок, выявляющий не столько то, что есть bonum, а что– malum (пусть того и хотелось бы ее пропагандистам), сколько то, какая армия сильнее. Знаменательно, что Шмитт, философски-юридически подготовивший приход к власти нацизма, не обратил внимания на двуликость врага, каковой бывает не только внешним, но и внутренним. Кроме политики мира и войны, в распоряжении человека имеется также политика Зла, и она зиждется на борьбе не с трансцендентным, а с имманентным обществу противником, проповедует ненависть к ближнему, а не призывает померяться силами с дальним. Социальный организм, проникшийся Злом, инкорпорирует мертвое– нечто подлежащее истреблению в нем самом. Противосмысл– наша оборотная сторона, короткое замыкание в смысловой цепи, которой скреплена социокультура. Как смысл обретается, так он и теряется, точнее, обнаруживает свою изнанку. К Злу может стать причастным любой из нас, пусть и в неодинаковой мере. Оно распределяется градуально в широком диапазоне, простирающемся от патологий и фанатизма ожесточившихся толп до легкомысленно бесцеремонного обращения с теми, кто находится в слабой позиции, как в случае с девушками, которые оттеснили в моем исходном примере пожилую женщину от входа в автобус. Одна из их опций состояла в том, чтобы помочь старушке. Этот поступок был бы добродетельным. Вторая заключалась в элементарном соблюдении очередности при посадке и была бы проявлением справедливости. Зло контрарно обеим этим возможностям– смыслу и как Добру, и как попросту порядку.
Особую ступень на лестнице Зла занимают искусители, подстрекающие общество к террору. Несмотря на фамильное сходство с серийными убийцами, личности вроде Робеспьера—Ленина—Сталина—Гитлера не просто аномальны, иначе они не были бы способны возводить Зло в норму, разделяемую многими. Перед нами то, что следует назвать интеллектуальной психопатией. Трудно сказать, что здесь первично: идейная мономания, оправдывающая жестокосердие, или душевная склонность к некрофилии, ищущая себе рациональный довод. Как бы то ни было, оба этих компонента сливаются у психопатов интеллектуальной складки в нерасторжимом единстве. Без остатка сосредоточенные на одном только образе будущего (на просветительски-уравнительном, классовом, расовом или имперском переделе мировой власти), искусители не в состоянии отграничить себя, телесную самость от своих убеждений (проникновенный исследователь такого рода обсессии, Достоевский, именовал ее «идеей-чувством»). Тирания идеи пурифицирует тело и превращает его в тирана.Не различающие ментальное и биофизическое, инициаторы террора поставляют массам обольстительное доказательство того, почему социально-политическое тело обязано безжалостно извергнуть из себя какое-либо проявление отщепенства и инаковости. Смысл (ультимативно-светлого будущего), парализующий свободу в связывании значений, с необходимостью не только креативен, но и рестриктивен, ограничителен, включает в себя противосмысл, скрывает за наружным Добром (так он планируется) уходящую в глубь толщу Зла (так он реализуется). Воистину, благими намерениями вымощен путь в ад. Вот что влечет нас туда: ide fixe. Зло монотонно (как это неоднократно отмечалось, например, в «Less than one» Иосифа Бродского), неважно в чем унылое однообразие выражается: в механическом воспроизведении преступного распутства в текстах де Сада, в безостановочном законодательном мракобесии нынешней Думы или в перехвате всех без разбора мировых e-mails, которым занимается National Security Agency в США.
До наступления поздней Античности и до побед, одержанных иудео-христианской религией, Зло не было предметом пристального философского внимания. В своих истоках философия была поглощена конституированием собственного смысла, выработкой фундирующего ее мифа, который контрастировал не с противосмыслом, а с недостоверным знанием, будь то мнения, неприемлемые для Платона, либо паралогизмы, критически разобранные Аристотелем. От блага подлинного знания отпадало заблуждение, неумение человека справиться с когнитивным заданием, а не его злоумышление. Христианство и близкая ему философия (например, Плотина), напротив того, придали Злу вселенский масштаб. Страсти Христовы изобличают человека как готового подвергнуть пыткам и позорному умерщвлению представителя мироздания, который обещает благодать вечной жизни. Борьба со Злом охватывает у Блаженного Августина историю в целом и завершается только вместе с ней в апокалиптическом Граде Божьем. Негативный двойник есть и у Христа, чью роль похищает антихрист, и у Бога-Творца, с которым конкурирует лжетворец– Сатана.
Переориентация сознания, выразившаяся в новозаветной вере, требовала постижения, наряду с бытием, и инобытия в их парности. С этой точки зрения у всего, даже у Демиурга, обнаруживается второе начало (вочеловечившийся Логос). Оно имеется также у знания, которое тем самым обязывается преодолевать себя. В процессе самопревозмогания, становясь верой, когнитивный акт сопротивляется не ошибкам ума («Credo quia absurdum est»,– полемизировал Тертуллиан с теорией паралогизмов), но уму же, положившемуся в трансцендировании на произвол, подчинившемуся злонамеренной установке. В своей познавательной омнипотенции философия открывает мировое Зло, находит пагубное начало в космосе. Для гностиков и Плотина (III век), как он постулировал в Первой книге «Эннеад», во Зле (нужде) лежит материя в полном ее объеме. Но если Зло сторожит рассудок на развилке, где тот должен превзойти себя, то оно может трактоваться и как лишь антропогенное. По концепции Иринея Лионского («Против ересей», II век), воспринятой позднее Василием Великим («Беседы на Шестоднев», IV век) и уже упоминавшимся Аквинатом, космос сотворен для человека, которому предоставлена свобода развития, устремляющегося либо в вечность, либо мимо нее. Ведь Зло, полагает Ириней, будет сожжено по скончании времен.
Ницше был прав, утверждая, что категория Зла была пущена в идейный оборот христианством, однако он совершил промах, увидев в ней продукт рессентимента– той нравственности, которую формируют рабы, компрометируя господ, которой вооружаются слабые, восставая против сильных («Генеалогия морали», 1887). Как и Уголовный кодекс, мораль не дает обобщенного определения тому, что заслуживает пресечения. Перечисляя действия, которых нужно избегать с тем, чтобы был обеспечен социостаз, она не отвлекается от частных, практически релевантных случаев. Перефразируя Гегеля (предисловие ко второму изданию «Энциклопедии философских наук», 1827), можно сказать, что мораль, пока она не опредмечена философски, старается избавить нас от злодеев, а не от Зла. Поскольку табуированное не схватывается в раз и навсегда установленном едином понятии, мораль релятивна: даже инцест запрещен не повсюду– он был допущен для древнеегипетских правителей. Чтобы выдвинуть в центр философии нравственную проблематику, Канту пришлось предпринять дерзкий диалектический ход: человек радикально зол, потому и дисциплинирует себя в моральном законе («ber das radikale Bse in der menschlichen Natur»181, 1792). Не мораль указывает на то, что есть Зло как таковое, а Зло, в котором мы все погрязли, обязывает нас к соблюдению правил общежития. Изначальная нравственная относительность, с которой намеревался покончить Кант, приведет в дальнейшем к тому, что философия, концептуализуя Зло, будет подчас пытаться морально легитимировать его. Споря в книге «О сопротивлении злу силою» (1925) с Львом Толстым, Иван Ильин отстаивал принцип «наименьшего зла», вытекающий из того, что без принуждения к Добру справедливость недостижима. Воины Добра должны, согласно Ильину, принять на себя вину и пережить катарсис в осознании таковой. Сходно с этим, но без ильинского активизма, на мазохистский манер морализировала Симона Вейль в заметках, изданных в 1947 году после ее смерти под названием «Тяжесть и благодать». Нравственно, по Вейль, впустить ад в себя, ибо Злo нельзя устранить, не претворив его в чистое страдание.
Конечно же, представление о Зле, возникшее на заре христианства и закате Античности, имело большие последствия для морали (к которой прибавилась антимораль– подробные правила греховного поведения и сатанология), но опричинено было семантически и эпистемологически– смещением искомой ценности в объединение здешней действительности со сверхъестественной. Категория Зла была порождена максимaлизацией смысла, связавшего не просто некие значащие области внутри одного и того же универсума, но два мира– сей и иной. Зло выступило оппозитивом этого, по слову Плотина, всеединства. За пределом такого объемистого смысла нет более ничего, и его Другое, стало быть, нужно распознавать в нем же– как сожжение моста, проложенного из посюсторонности в потусторонность, как противосмысл, как Зло. Интуицией о Зле-противосмысле мы обязаны грянувшей христианской эпохе. Ницше хотелось бы ввести удвоенный христианством генезис в еще одну– третью– фазу, разыгрывающуюся после смерти Бога и поражения, которое переживает homo religiosus. За этой гранью воля к Добру или к Злу уступает место воле к власти. В сущности (пусть она и парадоксальна), Ницше продолжил, как никто другой, христианскую революцию, развязавшую историзм. Ее новое начало показало, что она может состояться еще раз, только если отнять у смысла могущество, придав власти сугубую формальность.
Прослеживая историю понятия о Зле в философском дискурсе, я забежал вперед. До того поворота, который она претерпела в учении Ницше, она протекала в русле, предзаданном ей в ее истоках, хотя бы и привнося постепенно все больше изменений в две отправные модели Зла– космическую и антропогенную.
В «Теодицее» Лейбница «метафизическое Зло» входит в «предустановленную гармонию» созданного Богом мира в виде несовершенства, отличающего тварное от Творящего. В изображении Ральфа Уолдо Эмерсона («Опыты», 1841, 1844) не только в людском общежитии, но и вне социокультуры, в природе, господствует закон возмездия, карающего Зло, не позволяющего ему перевесить Добро. Хотя Николай Лосский был несогласeн с доктриной «предустановленной гармонии» (ведь дело самого человека– обжиться ли ему или соперничать с Всевышним), компилятивный трактат «Бог и мировое зло» (1941) повторяет основоположный аргумент Лейбница: Зло сопричастно тварной действительности, производя которую Демиург отчуждается от себя, от абсолютного Блага. Самый грандиозный образ вселенского Зла является читателям «Мира как воли и представления». Мало того, что Зло для Шопенгауэра неизживаемо из бытийного порядка,– только оно и составляет подоплеку сущего, где все утверждает себяза счет отрицания Другого. Имевший опору в Боге, мир Лейбница вырождается у Шопенгауэра в царство дисгармонических разноволений, которые безосновательны, потому что желание не свидетельствует ни о чем ином, кроме нехватки.
Космология и антропология Зла иногда (например, у Лосского) переплетаются, и все же у каждой из этих моделей– своя судьба. Зло, не запрограммированноe в устройстве универсума, не обладающее онтологическим статусом (пусть даже негативным– в качестве неполноты бытия), прежде всего экземплярно, индивидно. В «Этике» (она была опубликована в 1677 году) Спиноза противопоставляет Благо сохранения бытия Злу его растраты, происходящей, когда субъект теряет контроль над аффектами, которые говорят о нем персонально, а не о его принадлежности к natura naturata. Во «Втором размышлении» (1755) Руссо уверяет нас в том, что Зло не было свойственно человеку, пока тот был интегрирован в природe. Лишь выломившись из нее, люди в себялюбивом собственничестве учреждают цивилизацию, преисполненную Злом социального неравенства. В ХХ веке руссоизм будет реанимирован Теодором Адорно («Minima Moralia», 1951), упрекавшим индустриализацию культуры в том, что производство все новых и новых товаров заставляет людей забывать прошлое, общую им жизнь, и предает их Злу обособленности в необратимом (всякий раз линейно своеобычном) времени. Такое модернистское приурочение Зла к текущей истории сужает тот смысловой объем, который сообщил ему Гегель в «Основных линиях философии права» (1821). Зло у Гегеля коренится в самостийности субъекта, однако она вездесуща. Поэтому прийти к всеобщности Добра, торжествующего над индивидуальными волеизъявлениями, к абсолютной и в себе свободной субъектности можно не в обход Зла, а лишь «сняв» его и признав его неизбежность. Гегелевское Зло работает на Добро. Точно так же «служебно» Зло в построениях Владимира Соловьева. Оно, как значится в «Оправдании добра», имеет место в мире, дабы человек самоопределился и, оставив позади «эгоизм каждого и антагонизм всех»182, занялся улучшением себя, одухотворением материи в идее, собирающей воедино «центробежные» силы природы. В отличие от Гегеля, Соловьев не просто субъективирует Зло, но и рассматривает его под космическим углом зрения, в традиции гностиков и Плотина– как телесно-физическое.
Подобно тому, как Шопенгауэр довел до предела абстрактность вселенского Зла, Шеллинг (не без влияния Канта) крайне расширительно пересмотрел ту христианскую доктрину, в которой Зло выступало результатом авторизованного человеком решения. В книге «О сущности человеческой свободы» (1809) Шеллинг приравнял Зло к Духу, в котором самость («Selbstheit») эмансипируется от основания вне себя (в Боге, в causa sui). В пространном толковании на этот труд (в лекциях, читанных во Фрайбургском университете в 1936 году) Хайдеггер заключит, что Шеллингово Зло духовной свободы есть история. Согласно Хайдеггеру, человеку, коль скоро ему дано «быть в состоянии всех состояний быть»183, не приходится выбирать между Добром и Злом– оба этих начала в нем конъюнктивны (обменны), а не дизъюнктивны: «Человеческая свобода <…>– способность к Добру и к Злу»184 (подчеркнуто в оригинале). Совсем иной вывод из того же источника сделает после конца Второй мировой войны Эммануэль Левинас («Гуманизм другого человека»). Кроме свободы выбора, каковая для Левинаса, как и для Шеллинга, чревата Злом, есть еще доальтернативная, пресуществующая волеизъявлению ответственность перед лицом Другого, в абсолюте– Бога. Ответственность, однако, янусообразна, на что Левинас закрывает глаза. Есть множество примеров того, как Зло творилось в сознании исполненного долга и во имя Божье.
Были ли перeчисленные мыслители религиозны или нет, интриговало ли их мироздание или человеческое естество, они вдохновлялись в своих соображениях о Зле тем его пониманием, которое сложилось в период перехода средиземноморской культуры к христианству. Соответственно, как бы ни варьировались их подступы к Злу, за этой наружной разноликостью скрывалось нечто инвариантное, парадигмообразующее. Во всех своих модификациях Зло предстает в качестве рассоединения, вытекающего из того обстоятельства, что философское воображение берет свой предмет в виде двуипостасного– имеющего и теряющего полноту признакового содержания, единоцелостного и поддающегося индивидуализации, ментального и субстанциального, абсолютно необходимого и частноопределенного (подвижно свободного). Даже если философия Зла не трактовала его как разрывающее связи между наличным здесь-сейчас и запредельным, она наследовала вере, религиозной идее двумирия. Наделяя концептуализуемую действительность тем или иным смыслом, философ видит Зло в том, что конфронтирует с его, философа, семантическим убеждением. Универсум Лейбница, покоящийся на достаточном основании, впадает в Зло лишенности (столетие спустя Шопенгауэр помыслит ее всеобъемлющей– не как nihil privativum, a как nihil negativum, так что припишет благодать одной только нирване). В пагубное противоречие с общезначимым самосознанием у Гегеля вступает авторефлексия отдельной персоны. В подверженной распаду материи Соловьев диагностирует то препятствие, которое Добро должно преодолеть духовным путем. Но и Дух– Зло, если умозрение ставит себе задачей слиться с сущим– в искомом ли Шеллингом тождестве субъекта и объекта, в утверждавшемся ли Хайдеггером примате бытия над бытующим. Философия, эксплицирующая в Зле Другое, чем ее собственный смысл, права операционально, но не по сути дела, потому что человек, в том числе и homo philosophicus, обладает счастливой способностью конституировать смысл на разные лады. Зло враждебно не каким-либо смыслам, а самой смыслопорождающей связи, комплексно сочетающей значения и потому интерсубъективной– способной объединить также партнеров по коммуникации.
В то время как для философских спекуляций Злом оказывается то, что мешает им, искусство, всегдашний оппонент умозрительности, не гнушается объявлять Зло своей собственностью. Кровожадные тираны– от Нерона до Сталина—Гитлера—Мао– не случайно были (или мнили себя) ценителями искусства185. Как показывают мои примеры, и философия иногда снисходительна к Злу, но в таких случаях она нейтрализует его (в покаянии у Ильина, в страдании у Вейль). Литература же склонна отводить Злу привилегированное положение, оставлять его безнаказанным, апологетизировать жестокость, как, скажем, в романах де Сада. Жорж Батай объяснил это свойство художественной словесности ее трансгрессивностью («Литература и Зло», 1957)186. Но генерирование любого смысла подразумевает переступание порога между твердо очерченными полями значений. Всякий текст трансгрессивен. Что и впрямь разнит художественный дискурс с прочими знаковыми ансамблями, так это его высокая степень самодостаточности, самоценности, независимости от прагмы. Чем сильнее литература осознает свой автономный статус, тем более она готова стать не только «искусством для искусства», но и искусством после конца самой дискурсивности, абсолютным, замкнувшимся в собственныx границax творческим актом, смыслом, погруженным в себя, отменяющим семантическую компетенцию за своими пределами, Злом. Перенасыщенные шокирующим Злом ранние романы Владимира Сорокина финализуют литературу как целое, призывают ее на Страшный суд, где выносится обвинительный приговор писательской фантазии. Де Саду, автору не одних лишь художественных сочинений, но и «Философии в будуаре», хотелось бы упразднить (религиозную) метафизику с тем (опровергающим Спинозу) доводом, что природа как созидательна, так и разрушительна и, не будучи вечной, не имеет тем самым ничего общего с Богом и с нравственными заповедями христианства. Если в философии сотворение человеком смысла поднимается до максимума (до всезначимости), то либертены де Сада, обрекающие женщин на мучения, подавляют даже тот телесный минимум креативноcти, который содержится в покреативности, в природной плодовитости.
Чтобы искусство без остатка отдалось Злу, художественный текст должен нести в себе идею завершенности культуры (вообще или в ее отдельных формах), то есть отвечать весьма специфической авторской установке. Согласие со Злом возможно, но не обязательно в литературе (как лишь возможное, оно бывает не только по-десадовски однозначным, но и амбивалентным: поди разберись, чего больше в текстах молодого Сорокина– упоения изображением неслыханных злодейств или компрометации «букв на бумаге», слова, каковое не являет собой verbum Dei). Литература и Зло– большая тема, которую следовало бы обсудить особо. Может быть, я и обращусь к ней когда-нибудь, если достанет жизненного времени. Кстати, о естественной смерти. Она не имеет ни малейшего касательства к Злу, качество которого вменил ей Владимир Соловьев. Исчезновение смыслопорождающих особей не дает противосмысла.
XI. Утечка смысла
Последний крик философской моды, к счастью, почти еще не услышанный во всеотзывчивой России, нарекся «новым реализмом». Принципы складывающегося учения были оглашены на конференции в Берлине, по следам которой вскоре был издан сборник статей «Реализм сейчас»187. Участники этого интернационального манифеста избрали мишенью критики «корреляционизм» кантовского толка, подразумевающий, что существует соответствие между познавательными способностями субъекта и постигаемой им действительностью.
Как показывает нейрология, пишет Пол Чёрчленд, механизм нашего головного мозга устроен так, что разыгрывает имманентный ему воображаемый спектакль, не отвечающий внешнему положению вещей188. Будь Чёрчленд последовательным, он должен был бы без ложной скромности запатентовать сенсационное открытие, состоящее в том, что человеческий мозг не является продуктом природной эволюции, отпадая от нее самым решительным образом.
Раз наука в силах точно датировать начало жизни на Земле и тем самым проникнуть в «радикально нечеловеческое время», представимым оказывается абсолютное бытие, не зависимое от привычных категоризаций,– так считает Квентин Мейассу189. Такого рода «безосновательное» бытие выступает в виде сугубо контингентного, в форме протяженности, где может случиться или не случиться все что угодно. Убежден ли Мейассу в том, что исследования по происхождению жизни на нашей планете (кстати, расходящиеся на сотни миллионов лет в своих выводах), а заодно и его собственные философские выкладки не имеют ничего общего с ментальными актами? Впрямь ли он полагает, что «контингентность» и «сверххаос» не такие же умственные категории, как «причинность» и «порядок»? Думает ли он вообще или производит какую-то иную операцию, и если иную, то какую же? И последний вопрос, обращенный к «новым реалистам»: допустимо ли стопроцентное отчуждение человека от самого себя, чреватое его превращением из res cogitans в res extensa?
В поисках чистой объектности «новый реализм» тонет в безыcходных апориях. Они следуют из того, что философия пытается добиться прямого доступа к сущему– так, как если бы она не была дискурсом среди дискурсов, одним из порождений социокультуры. Главное противоречие, подтачивающее «новый реализм», проистекает, стало быть, из его намерения сделаться истинным мышлением вне и помимо мыслящего существа. Эту стратегию легко принять за потуги беззаботного дурака, пилящего сук, на котором он сидит, но на самом деле она не просто олигофренична, а знаменует собой закономерный итог в развитии современных идей. Если классический постмодернизм 1960—1970-х годов был увлечен моделированием человеческой деятельности без человека, концептуализацией символического хозяйства, лишившегося владельца, исследованием текстов, потерявших своих создателей, то сегодняшняя философия, наивно мнящая себя революционным преодолением этого интеллектуального наследия, только перемещает в нем акцент с бессубъектной субъектности на бессубъектную объектность.
Более осторожно, нежели французские и англосаксонские авторы, сплотившиеся в коллективном труде «Реализм сейчас», формулирует положения свежеиспеченной философии молодой профессор из Бонна Маркус Габриель190. Он отдает себе отчет в том, что нельзя заниматься спекулятивным философствованием в надежде попасть за пределы социокультуры. Оставаясь в ее границах, Габриель ставит себе задачей избавить ее от веры во всемогущество. Чтобы дезавуировать поползновения человека властвовать над бытием, приходится играть словами: нам дан, по Габриелю, физический «универсум», но мы не в состоянии выстроить в нем наш «мир». «Das Universum» и «die Welt»– синонимы. Преподнося таковые в качестве антонимов, Габриель прибегает к тропу, называемому в риторике «оксюмороном». Такой риторический прием был когда-то в ходу у декадентов191: «Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне». Будучи идеологизированным, изъятым из набора поэтических условностей, оксюморон служит одним из важнейших орудий демагогии, с которой, знать, напрасно боролись Платон и Аристотель. Если целостная картина мира, согласно Габриелю, иллюзорна, то, с другой стороны, для него непреложен тот факт, что человек сталкивается с разными предметными областями, наделяя их смыслом, вследствие чего они составляют фрактальное множество (где подмножества аналогичны друг другу). Габриель не замечает, что те «смысловые поля», к каким он сводит активность сознания,– то же самое всё этой интеллектуальной работы, что и «мир», конституирование которого он отрицает. Как и положено философу, Габриель предпринимает общезначимое (мироохватное) умозаключение, отнимая, однако, у прочих смертных право на подобные претензии. Не все ли равно по большому счету, как исчерпывать всё– по частям, что делает Габриель, или зараз? За нехваткой логических аргументов он обильно сопровождает свои соображения наглядными примерами, популяризует подачу идей– и, соблазняя таким способом простодушных читателей, впадает в демагогию в самом буквальном значении этого слова.
К числу примеров, призванных воочию убедить наивную публику в том, что она знакомится со строго «реалистическим» философствованием, принадлежит и тот, которым Габриель иллюстрирует, что такое смысл, понятый им– с опозданием более чем на столетиe– по Готтлобу Фреге как возможность взглянуть на предмет в разных перспективах: наблюдатели, расположившиеся в неодинаковых позициях, придадут представшему перед ними Везувию каждый свою коннотацию. Достаточно перейти с одной точки зрения на иную, как тут же народится смысл– для его обретения не нужно прилагать никаких умственных усилий. Он не продукт логических действий, не Логос, а результат визуального восприятия реалий, картинка192. У жизни не было бы смысла, если бы его вообще не было. Но он не просто позиционирует индивидов среди объектов, а жаждет переиначить саму жизнь. Он, собственно, и есть главное содержание нашего желания. Прими мы трактовку смысла в качестве видеопрезентации предмета, следовало бы согласиться с Габриелем и в том, что «мира» нет, поскольку нет внеположного ему места, с которого его можно узреть в целом. Но оно есть и, более того, завоевывается человеком снова и снова в процессе социокультурной истории, то и дело меняющей парадигмообразование по собственной воле, то есть по внутренней логике. Эпохальная история творит смысловые миры, множит их, позволяя человеку быть внутри и вне неких больших системных единств, мыслить целокупно.
Для «нового реализма» социокультурной истории не существует вовсе. Габриелю хотелось бы оставить позади себя постмодернизм, о чем он во всеуслышанье заявляет, но он не осознает при этом, что сам находится в истории. И немудрено: историзм стремительно приходит в упадок. Ницше покончил с Богом, Мишель Фуко– с человеком, теперь исчез и человеческий «мир». История, бывшая перемещением из одного смыслового мира в другой, продолжается какотмена самой себя, так сказать, из своих последних сил, почерпнутых из того, что ее всегдашнюю миросозидательность можно подвергнуть фрагментации. Мыслители 1960—1970-х годов пообещали наступление постистории– «новый реализм» расстался и с этим чаянием, став явлением акультурации, безбудущностным презентизмом, из которого не могут выбраться также другие бытующие сейчас философские доктрины.
«Новый реализм»– отнюдь не первая проба отрешить человека от смысла или, как в случае Габриеля, от интеллектуальной суверенности. Одно из ярких свидетельств в этой серии– «Переписка из двух углов» (1920), в которой Михаил Гершензон призывал Вячеслава Иванова освободиться из-под гнета культурных конвенций. Порождение смысла, совершающееся в истории, постоянно сопровождается его вырождением. Коль скоро идеотворчество исторично, изменчиво, ненадежно, в нем легко разочароваться. Чем сильнее недовольство подвижностью смысла, тем навязчивее соблазн избавиться от него. Обессмысливание призвано перекрыть течение духовной истории, превратить ее в длящееся настоящее.
Смысл по-разному мельчает, расставаясь со своей демиургической способностью. Войны вытягиваются в историю, альтернативную духовной, подражающую смыслопроизводству и переносящую трансцендирование в сферу биофизических действий. Будучи противосмыслом, Зло антиисторично, оно как бы убивает человеческое время, намеревается расположиться поодаль от его протекания. Обессмысливание– еще один, наряду с войной и Злом, путь бегства из социокультурной истории. Воюют завистники, злодеяниям предаются из бездарности, настоящим живут из переоценки себя, из нехватки самокритичности.
Выдвигая разные концепции будущего, homo historicus занят в конечном счете поиском одного и того же, а именно спасения. Как логическая операция, устанавливающая некое отношение между отдельно взятыми значениями, смысл сам по себе не сотериологичен. Спасительным он становится тогда, когда конституируется по ту сторону истории, в вечности. Для этого он должен обладать двумя взаимоотрицающими свойствами: иметь универсальный характер и вместе с тем быть исключительным– разительно иным, чем семантические миры, возникавшие во времени. Такой эксклюзивной всеобщности отвечают и Царство Божие на земле, и соловьевская «сизигия», и коммунизм, и завоевание избранной расой господства над ходом цивилизации, и многие прочие утопические проекты. На горизонте человеческих ожиданий маячит сверхсмысл. Он отличен от всех возможных способов социокультурного устроения, запределен им. Какие бы значения он ни связывал друг с другом, эти термы перестают разниться между собой, уравниваются, оказываются членами тавтологии (так, воскрешенные отцы в федоровской утопии встают в один ряд с сынами, которых произвели на свет). Отношение, на коем покоится сверхсмысл, не спeцифично, оно есть связь как таковая (и как раз поэтому сразу и уникальнo, и универсальнo). Сверхсмысл объединяет нас с полнотой смысла– с Богом– или вменяет человеку черты Всемогущего. Как говорил в «Речи о достоинстве человека» (1486) Пико делла Мирандола, природа ограничена законами, но воля Адама свободна и в своем богоподобии может царить над «всем».
Выветривание смысла конкурирует с историческими преобразованиями модусов социокультурного бытия так же, как и сверхсмысл, но, вразрез с ним, не подытоживает раз и навсегда человеческое время, а задерживает его. В отсутствие смысла современность делается самодовлеющей. Страх конца, не преодолимого в переходах от одной эпохи в следующую, одинаково с предыдущей финальную, диктует интеллектуалам картины как абсолютного, панхронного будущего, так и действительности, у которой нет глубинного содержания и символического выражения. Сверхсмысл указывает путь в бесконечность, обессмысливание игнорирует конечность, оно ни финитно, ни инфинитно. Что в желании изъять смысл из обращения сквозит неудовлетворенность историей, особенно отчетливо следует из рассуждений Константина Леонтьева. Брошюра «Византизм и славянство» (1876) предрекала любой цивилизации неизбежную гибель после периода расцвета, из чего Леонтьев делал вывод о необходимости для России подчиниться власти формы, эстетизму, дабы движение страны к катaстрофе застопорилось.
Тот консервативный формализм, который проповедовал Леонтьев,– лишь один из многих видов обессмысливания. В ранних трудах ОПОЯЗа небрежение содержанием художественной культуры, сведенным к не более чем «материалу» ее текстов, станет революционным и выльется в исследование формотворчества. Много позднее на этот подход к искусству сочувственно отзовется Джорджо Агамбен в трактате «Человек без содержания» (1970), где определит poiesis как акт «демиургической свободы» и не увидит в таком выкликании «бытия из небытия» ничего, кроме созидания чистых ритмов. Ex nihilo выстраивается, по Агамбену, только формальный порядок.
В приведенных примерах обессмысливание либо затрагивает одну эстетическую работу, либо требует, чтобы таковой, как думалось Леонтьеву, подражала остальная социокультура. С техническим умением бывают отождествлены явления не только искусства, но и любые другие, допустим, политическая активность, которую Макиавелли изобразил как ремесло правителей, как набор «приемов» по удержанию и укреплению власти. Во всех этих случаях формализации и технизации человеческая деятельность, пусть лишаясь смыслового наполнения, остается самостоятельной. Но ее автономный статус может и упраздняться вместе со смыслом, если от нее ожидается, что она должна быть адекватной естественной среде. Биологизация и физикализация социокультуры столь часты и вариативны, что даже сжатый перечень такого рода моделей перекосил бы композицию этой главы. Вот что стоит здесь подчеркнуть, если не гнаться за описательной полнотой. Когда гуманитарии распространяют на духовное производство, скажем, теорию хаоса, выработанную применительно к химическим и метеорологическим процессам, или когда человеческое поведение рассматривается социобиологией в качестве способствующего сохранению генных программ, перед нами не что иное, как троп, перенос на культуру природных свойств. Связывая значения по какому-либо принципу, смысл трансцендирует их, образует семантический комплекс, замещающий элементы, из которых складывается. Смысл неизбeжно тропичен, в силу чего, собственно, социокультура и оказывается в состоянии быть субститутом природы, второй Вселенной. Приписывание человеческому космосу признаков дочеловеческого натурального мира использует стратегию тропического смыслопорождения, чтобы опустошить его, чтобы придать ему обратный ход. Своя риторика есть и у монтажа, и у демонтажа смысла193.
Реверсированный троп, переворачивающий, берущий назад восхождение от природы к культуре, подменяет смысл, сам себя организующий, значениями, прикрепленными к биофизическим реалиям и поддающимися эмпирической проверке. Так возникает псевдосмысл, отказывающийся на разные лады создавать собственную действительность. Он полифункционален, человек находит для него множество рабочих применений. Среди них и абсолютизация современности. Какие бы нагрузки ни ложились на псевдосмысл, порабощенная им философия скептически подтачивает свои устои, преисполняется недоверием к силе интеллекта и запрещает– в лице Дэвида Юма– вынесение априорных суждений. Показательно, что в «Исследованиях о человеческом разумении» (1734—1737) Юм протестовал против умозаключений о будущем, исходящих из прошлого опыта, и тем самым ограничивал познание сосредоточенностью на настоящем, презентизмом, который возрождают ныне «новые реалисты».
В логическом пределе значение, выданное за смысл, замкнуто на себе, обособлено от контекста, не включает в себя ассоциативно инозначение. Чтобы похитить у социокультуры идейную самоценность, не обязательно уравнивать духовное с биофизическим. В «Единственном и его достоянии» Макс Штирнер противопоставил химерическим, по его мнению, головным конструктам вроде «бога» и прочих человеческих святынь как будто непреложную фактичность индивида и его плоти. Неаутентичен для Штирнера (как и для его совеменников Маркса, Фейербаха, Бакунина) смысл как таковой– подлинно в «Единственном…» только «я», реферирующее к своему телу. Жак Деррида был прав, когда упрекал в «Призраках Маркса» (1993) философию, сложившуюся в 1840-х годах, за то, что ее «контрмагия» (читай: ее стремление покончить с «призрачностью» логосферы) таит в себе все ту же магическую подоплеку. Индивидное у Штирнера занимает место, которое было зарезервировано за всеобщим, знаменует собой смену сакральных ценностей, а не полную эмансипацию от них, недопустимо абстрагирует конкретность: ведь в виду имеется всякое «я».
Критика, метившая в поколение 1840-х годов, была в «Призраках Маркса» и автодеконструкцией постмодернистского (постисторического) мышления, одним из главных застрельщиков которого выступил сам Деррида. Подозревая в символическом порядке сплошную иллюзорность, тиранию симулякров, Жиль Делёз и Жан Бодрийяр думали о нем как о беспочвенной имитации внеположной человеку реальности. На самом деле «копии без оригиналов»– это значения, разыгрывающие роль смыслов. Воистину оригинален только смысл, которого нет в нашем естественном окружении. Он утрачивает это конституирующее его свойство, становится симулятивным, если толкуется в качестве верифицируемого применительно к биофизическим данностям, к ordo naturalis. Ранний постмодернизм проецировал на социокультуру в ее полноте и многообразии собственную одержимость псевдосмыслом, обусловленную намерением шестидесятников прошлого столетия сказать новое, не завершая, но и не продолжая логоисторию. Смысл первичен для генезиса социокультуры, псевдосмысл в ней производен и его тем больше, чем дальше в своем развертывании забегает эпохальная история, шаг за шагом исчерпывающая отмеренные ей возможности.
Впрочем, у вторичности всегда было больше власти, чем она того заслуживала. Псевдосмысл жаждет править в социокультуре, не будучи самовластным, восполняя свою неполноценность. Он завоевывает господство в обществе, формирующемся по ту сторону мифоритуального, не семантическим, а соматическим путем– в виде доминантного положения избранных семей, передаваемого по наследству, или бунтов плебса, вызываемых нехваткой материальных благ. Биополитика, которую изучали Мишель Фуко, Джорджо Агамбен и другие, двуконечна. С одной стороны, она добивается ультимативности за счет того, что безоговорочно отлучает подданных от смысла, низводит их на ступень сугубо отприродных особей, занятых принудительным, рабским трудом или объявляемых вне закона. Эта виктимизация впрямую противоречит архаическим жертвоприношениям, спиритуализовавшим умерщвляемую плоть. С другой стороны, биополитика дает отдельным лицам преимущество не по делам, а по рождению и тем самым выводит династическую власть, длящуюся от поколения к поколению, за скобки истории, обрекаемой буксовать в неизменном времени.
Власти псевдосмысла не достает аргументативности, внутренней логики, убежденности в том, что она самоправна. Она наглухо отгораживается от людских масс, осуществляя тайную политику, базирующуюся на обмане, на одурачивании ведомого ею общества. Лгут неуверенные в себе. Ложь– смысл, недоступный для воплощения. Но истории хорошо известен и другой тип тайны, которая вынашивается в неофициальных объединениях лиц, посвященных в сверхсмысл (масоны, кружки заговорщиков-революционеров, эзотерически-мистериальные союзы). Если сверхсмыслу удается вырваться из групповой стесненности, публично реализоваться, он становится фундаментализмом, который досрочно подводит черту под историей и, соответственно, прибегает к насилию и жестокостям, кладущим преждевременный конец человеческим жизням (как это мы знаем на примерах камбоджийских коммунистов и афганских талибов). Спасительный в обещаниях, эсхатологизм въявь– требует кровавых жертв.
Избавляясь от смысла, философия отбирает у языка способность генерировать тексты. Согласно «Логико-философскому трактату», «смысл мира» лежит «вне его» (6.41), но проникновение в эту трансцендентную область для Людвига Витгенштейна– дело мистиков, а не научной рациональности, которой известны лишь истинные («тавтологические») и ложные («контрадикторные») высказывания о непосредственно предстающей нам действительности. Под таким углом зрения у текстов, ведущих самобытную жизнь, нет шансов явиться на свет, а язык вступает в одно однозначное соответствие (или несоответствие) с положением вещей. Границы языка и знания совпадают между собой (5.62). В русском и в других европейских языках не все пальцы ног имеют имена. Следует ли считать, что у нас нет о них ни малейшего понятия? Подстановка значений в позицию смысла, претендующая на фактологичность, упускает из внимания тот несомненный факт, что язык составляет неотъемлемую часть социокультуры, творящей себя и потому заявляющей свое право на произвол относительно природного порядка. Выросшая из логицизма 1910—1920-х годов аналитическая философия старается обуздать эту вседозволенность, эксплицируя употребление слов и переводя их многозначность в моносемию. Реверс тропообразования достигает здесь своей крайней точки, упирается в скучнейший (неинформативный) буквализм. Смысл без остатка вытесняется в аналитической философии значением. Негодующие реплики по ее адресу, прозвучавшие в «Одномерном человеке» (1964) Герберта Маркузе, остаются в силе по сию пору. Среди прочего Маркузе назвал антиметафизику подобной выделки «садомазохизмом интеллектуалов». И впрямь, аналитическая философия тратит немало умственной энергии с целью не расширения, а сужения семиосферы, в которой бытует. Тем самым этот способ мышления загоняет себя в исторический тупик, в бесперспективность и подготавливает контрреволюционную, антидиссидентскую «политкорректность» в публичном словоупотреблении, опошляющую когнитивную «корректность».
Выше шла речь о метатекстах культуры и о социальной борьбе за верховенство в ней (что почти одно и то же). Псевдосмыслом пропитана также ее повседневная реализация. Захватом значениями функции смысла объясняется возведение собственности, которой распоряжаются члены общества, в сигналы социального престижа, будь то яхта олигарха или доступный по стоимости сразу многим электронный гаджет последнего выпуска. Товары, извещающие о привилегированном статусе их владельцев, допустим, сумка Louis Vuitton, часто подделываются не потому только, что фальсификаты приносят сверхприбыль их изготовителю, но и потому еще, что их производство запрограммировано тем взглядом на вещь, который превращает ее служебную ценность в символическую по принципу quid pro quo. Можно сказать так: вещь, исключительно утилитарная по характеру, не фальсифицируема, она лишь воспроизводима. Для Маркса и адептов его философии (таких, как Георг Лукач) фетишизм– детище капиталистического рынка, на котором отношения между людьми замещаются отношениями между товарами. Но, как явствует из полевых исследований Бронислава Малиновского («Аргонавты Западной части Тихого Океана», 1922), в традиционном, близком к архаическому, обществе не рынок «овеществляет» человека, а, наоборот, фетишизация объектов (раковин особой формы у тробрианцев) становится предпосылкой ритуального обмена, предшествующего торговому. Рыночная трансакция вводит участвующие в ней объекты, несмотря на их разницу, в некое единое лишь в воображении аксиологическое пространство, то есть манипулирует значениями, как если бы те были смыслами. Вначале– фетиш, потом– торг. Наделяя жизненно необходимые изделия символической надбавкой, повседневный обиход притворяется большой историей, которая меняет свои приоритеты помимо утилитарного задания, из имманентных ей побуждений. Фетишизм компенсирует непринадлежность большинства в обществе к истории творческих инициатив. Мода, обновляющая человека снаружи, поверхностно и формально,– плагиат, присваивающий себе место, которое легитимно должна была бы занимать преобразовательная работа Духа. Реклама соблазняет нас, символически преувеличивая значения вещей (пропаганда манит в сферу сверхсмысла). От массовой погони за социальным престижем нужно отличать то, что принято называть «поэтикой поведения». Начиная с античных киников и раннехристианских монашеских браттв, poiesis в бытовом обличье отграничивает идейный авангард от остального общества, отелеснивает историческую динамику смысла, идет от сокровенного к явленному, а не выдает внешние инновации за сущностные, как то происходит в модных поветриях. Спектакль в обществе разнороден с тем, что Ги Дебор окрестил «обществом спектакля».
Наряду со значением, в качестве смысла Dasein преподносит и назначение артефактов и орудий, с чем корреспондирует прагматизм в философии, загипнотизированный успешностью действий в ущерб рассмотрению их семантики. Смыcл действия заключен в его интенции. Если вместо разгадывания мотивировок, подталкивающих нас к той или иной активности, на передний план выдвигается ее эффект, то она становится– в своем финализме– увековечиванием современности. Действие, не истолкованное по происхождению, а измеренное по результату, совершается в настоящем времени, воочию наступившем– позитивно либо (в случае недостижения цели) негативно. И в философском, и в поведенческом исполнении прагматизм придает истории лишь кажимость смысла, коль скоро та не застывает ни в какой из современностей– текучих, неустойчивых. В условиях затемненных мотивировок, лежащих в основании поступков, человек сливается с инструментом, которым пользуется (и отождествляется в максимуме сопровождающей такое слияние авторефлексии, например, у Ламетри– с машиной). Человек-орудие утверждает себя, оправдывая любые средства, если они результативны. Улетучивание смысла чревато безнравственностью. Тогда как мода мнимо инновативна, прагматическое поведение ложно консервативно. Оно направлено на то, чтобы удержать достигнутое, сделать современность непреходящей, но тем самым вызывает кризисы, поскольку настоящее оказывается безвыходным, не желающим уступать себя неустанно вершащейся истории. Закономерно, что самый грандиозный биржевой крах разыгрался в 1929 году на родине философского прагматизма– в США. Эта катастрофа, как и всякий иной финансовый кризис, была следствием того, что при вложении денег, вроде бы устойчиво выгодном, не учитывалась та динамика, сообразно которой чем больше их инвестировано, тем ниже их цена. История принципиально неэкономична, она разрушает любой расчет на получение предельной прибыли при минимуме трат. Молодые российские чиновники, охваченные решимостью эффективно реформировать образование и науку в стране, не ведают, что творят, не подозревают, какой урон их ожидает.
В первом приближении кажется, что обессмысливание, цепляющееся во что бы то ни стало за текущий период, за «модернизм», предохраняет логоисторию от перегрева, от слишком торопливого истощения ее идейных ресурсов. Отчасти так оно и есть. С другой стороны, стагнация логоистории, умственного времени придает его дальнейшему движению характер катастроф. Пока они разрешались благополучно– в прыжках общества в новую социокультурную темпоральность. Сомневаюсь, что такую же развязку получит и наша застойная современность.
Неважно, значение или назначение явленного в социокультурной практике приподнимается на уровень смысла, в обеих ситуациях подменный Дух, намертво сцепленный с референтами, от них отсчитывающий себя, закупоренный в текущем моменте, ограничивает сознание, принуждает его быть односторонним, фиксированным на приложении к действительности, бессильным выстраивать собственный мир. Чистый смысл свободен в выборе как термов, которые он сопрягает, так и типа связи, устанавливаемой между ними. Он не использует вещи, а вольно комбинирует их, так что в такой поддающейся глобальному трансформированию среде открывается позиция для вовсе иного, для еще не бывалой Вселенной, куда и устремляется креативность логоистории. Чем слабее такое визионерство, тем более витальность, упускающая из виду то, как она могла бы быть качественно преобразована, накапливается количественно, спасает себя в телесном умножении, как то происходит сейчас, когда население земного шара переваливает через границу в семь миллиардов человек.
Псевдосмысл ведет непрекращающуюся войну со смыслом, который он не в силах победить, пока история не иссякла, и потому компрометирует, выставляет в качестве страдающего пороками, неприемлемыми для здравого рассудка. Очернительство осуществляется с помощью самых разных уловок, одна из которых состоит в том, чтобы обвинить дешифровку смыслопорождения в параноидности, в безосновательной подозрительности. Так, Одо Марквард скопом отвергал философию истории, якобы непременно выдумывающую «образ врага» в жажде сообщить человеческому времени целеположенность, которую оно должно обрести в схватке за истину194. Некоторые (прежде всего политизированные) историософии (например, марксизм) и впрямь имеют дело с фигурой антагониста, мешающего обществу организоваться раз и навсегда наилучшим способом. Но есть и такие историософии (скажем, учения Иоахима Флорского или Джамбаттисты Вико), что не рассматривают срезы социокультурного развития как внутренне агональные, обходясь тем самым без «образа врага» (диахрония здесь актуализует возможности, вложенные в человеческую природу). Компрометация попыток рассекретить смысл исторического творчества замалчивает неугодные ей факты. Понятно, что cмысл, коль скоро он ассоциирует значения, не дан, в отличие от них, для непосредственного созерцания. Как отношение, как идеальность он непостигаем помимо гипотез, догадок. Предположение питает и интерес к Логосу, и сознание, плененное конспирологией. Логос, однако, отнюдь не следствие злоумышления. Те, кто свертывают поиски смысла к «теории заговора», сами параноидны: их преследует страх, который внушает им смысл, прячущийся под поверхностью явлений. От смысла нам становится не по себе (он и есть «das Un-heimliche»), потому что он с нами везде и всегда, никогда и нигде в символическом порядке не открываясь в своей чистой форме.
Существуют и многие иные приемы, посредством которых опорочивается смысл. Он объявляется то неразрешимо антиномичным (но как раз по той причине, что он допускает взаимоисключающие ответы на один и тот же вопрос, социокультура представляет собой динамичное образование, обнаруживающее в себе все новые и новые потенции), то плодящим, по выражению Гоббса, «пустые имена», не обеспеченные обступающими нас реалиями (прикажете отменить искусство?), то избыточно удваивающим мир (пусть так! не будь, однако, этого дубликата, откуда взялась бы оперирующая как будто одними значениями экспериментальная наука, которая ставит действительность в условия, в той не наличные?195).
Более подробный обзор демагогических хитростей, на которые пускается псевдосмысл в своем конфликте со смыслом, отнял бы немало места, но вряд ли принес с собой добавки к освещению проблемы по существу. Касательно же существа надобно заметить, что смысл и сам сeбя компрометирует, помимо тех нападок, которым он подвергается извне. Такое автопародирование приводит смысл к абсурду. Не значения узурпируют тогда функцию смысла, а, напротив, смысл расписывается в бессилии сочленять значения в логических цепях, в умозаключениях. Нонсенс демонстрирует нам, что взятые им темы на каждом шаге поступательного семантического движения не составляют достаточных оснований для переходов к ремам, к последующим сигнификативным единицам: «cпит пунцовая соломка / на спине сверкает “три” / полк английский ерусланский / шепчет важное ура» (Александр Введенский). На заре московско-тартуской семиотики О.Г. и И.Г. Ревзины выявили в литературе абсурда несоблюдение разного рода правил, которыми имплицитно руководствуется в норме отправитель сообщения, чтобы быть понятым адресатом196. С какой бы стороны ни подходить к нонсенсу– как к расстройству выводов из поднятых в текстах тем или как к нарушению коммуникативных ожиданий,– он предстает в виде темпорального кризиса, подразумевающего, что настоящее дефицитарно, что оно не в состоянии быть плацдармом для времени, которому предстоит наступить. Если псевдосмысл абсолютизирует современность, то нонсенс отрицает, обесценивает ее. Согласно извесному тезису Мартина Эсслина, литература, предпринимающая reductio ad absurdum, знаменует собой потерю веры в инобытие, узревает метафизическую пустоту197. Драматургия Бекетта и многие прочие тексты второго авангарда (в том числе философские) бесспорно подтверждают это положение. Но, вообще говоря, абсурд сплошь и рядом источается и религиозным, метафизическим мировидением, предупреждающим о тщете профанной жизни (Vanitas vanitatum et omnia vanitas). Чтобы дать нонсенсу универсальное определение, не ограниченное лишь одной (позднеавангардистской) эпохой его бытования, нужно принять в расчет, что он выворачивает наизнанку сверхсмысл, в котором история отыскивает свой исход с точки зрения и обмирщенного, и религиозного сознания198. Смысл, окарикатуривающий себя, ставящий под сомнение свою транзитивную мощь, свою способность сцеплять времена, замыкает логоисторию, не придавая ей той счастливой концовки, которую обещает сверхсмысл. Негативный двойник сверхсмысла, нонсенс– инструмент для самокритики духовной истории на каждом этапе ее протекания, служащий чаще всего маркером, который метит затухание отдельных периодов, исчерпанность их трансформационного резерва и предвещает дисконтинуальный прорыв в пока еще нами не испытанное. Чем императивнее сверхсмысл, тем актуальнее абсурдистская реакция на него, как то показывает жизнестойкость политического анекдота в условиях тоталитаризма, безуспешно преследовавшего этот жанр народной словесности.
Абсурд сразу фрустрационен и оптимистичен. Эта амбивалентность абсурда, зачеркивающего данное, ломающего его перспективированность и все же прогрессирующего на событийной оси, не безнадежного, являет собой неистощимый источник комизма. Смех деиндентифицирует свою жертву здесь и сейчас, однако не обесправливает ее на будущее. Праздничное веселье означает конец определенного времени (сезонного в архаическом ритуале, трудового в исторически продвинутом обществе), но не конец времен. Поскольку я затрагиваю проблему карнавала, мне придется (при всей нелюбви к повторам) привести длинную выдержку из того, что я уже писал о нем: «Феноменологически в высшей степени меткое рассмотрение карнавала у М.М. Бахтина никоим образом нельзя считать справедливым там, где оно эксплицирует смысл карнавала. Менее всего можно признать карнавал праздником регенерации, рождающего тела, бессмертия плоти, умноженной коллективом. Карнавал отрицает какую бы то ни было возможность порождения, генерирует негенерируемое. Похотливые старухи и сластолюбивые старики непроизводительны. Беременная смерть может разрешиться от бремени только мертвым. Мужчины в женских масках и женщины– в мужских теряют собственные половые признаки, не приобретая противоположных. Перемещение телесного низа на место телесного верха лишает человека способности к мыслительному порождению. Обратная передвижка кастрирует. Животные маски возвращают в докультурное состояние. Карнавальная апология глупости ставит под сомнение плодотворность сознания. Неумеренность, которой участники карнавала предаются в потреблении (алкоголя и пищи), прямо противоположна производительности. Фиксированность карнавала на анальных и оральных извержениях низводит творчество до переваривания пищи и исторжения переваренного из тела. Как и любой иной праздник, карнавал вершится на границе между уже-отданностью и еще-невозвращенностью бытия»199.
Абсурду не хватает только словесного пространства, он просится на сцену, ибо, аннулируя в человеке человеческое– смысл, он оспаривает антропогенез, воплотимость Духа в организме. С первых же месяцев после рождения ребенок поглощен освоением непослушных, словно бы чужих ему верхних и нижних конечностей, туловища, лицевых мускулов. Он уже духовен (предрасположен согласованно связывать между собой части тела, так как eго асимметричный мозг оснащен зеркальными нейронами, которым мы обязаны способностью к авторефлексии, к самоотнесенности), но еще далек от того, чтобы сполна инкорпорировать этот спиритуальный дар. Нонсенс в форме комической (или трагикомической) драмы (или наглядно представимого рассказа) экскорпорирует смысл, так что тело его обладателя не появляется на сцене (где Годо?– его нет; где «подпоручик Киже» из одноименного фильма Тынянова и Файнциммера?– он есть только на бумаге; и как тут не вспомнить исчезновение носа с лица гоголевского майора Ковалева!). Вынесенный на улицу карнавальный абсурд пускает антропогенез вспять иначе, чем театральный: народный праздник позволяет телам ускользнуть из-под контроля смысла, вести себя наперекор ему.
Абсурдизация социокультурного творчества происходит подчас и помимо установки на комизм. Параллельно с разработкой Бахтиным карнавальной сотериологии Жорж Батай выстраивает теорию расточительного символического порядка («Понятие траты», 1933; «Прклятая часть», 1949). Заряженная излишком энергии, социокультура расходует ее понапрасну– в войнах, производстве роскоши, человеческих жертвоприношениях, потлаче и т.п. Если Бахтин приписал карнавальному абсурду черты спасительного сверхсмысла, разрушающего иерархии и солидаризующего людей, которые равно погружаются в непрерывающуюся родовую жизнь, то Батай низвeл до бессмыслицы историю смысла. Обе концепции ошибочны, базируются на отождествлении нонсенса с тем, что ему противостоит (в истории или за ней). Амбивалентный, отрицающий актуальное, но не грядущее время, нонсенс вводит мыслителей в соблазн спроецировать Другое, содержащееся внутри него, вовне– на то, что ему чуждо. И Бахтин, и Батай шли по стопам Ницше. Забывание того, что было, которое Ницше отстаивал в трактате «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) ради «переоценки всех ценностей», превращается у первого в карнавальную пародию даже на сверхчеловека, а у второго– в демистификацию социокультуры, не предлагающую ничего взамен критикуемого (кроме разве что легитимизации самой этой критики).
Наряду с абсурдным самопревозмоганием, cмысл всегда готов также к ответным атакам на значения, борющиеся с ним. Защищая себя, смысл прилагает свои силы к тому, что следовало бы назвать обеззначиванием. Оно направляется смыслом прежде всего против естествоиспытания, экспериментально удостоверяющего свою истинность, проверяющего головные сценарии на соответствие положению дел в природе. Несогласие со сциентизмом широко простирается в социокультурной истории от церковной цензуры, налагаемой на опытным путем добытую картину мира, до протеста Бакунина и других анархистов против элитарного гелертерства, от философии Бергсона, который собирался откорректировать рациональное познание интуицией, вбирающей в себя безошибочную инстинктивность, до постмодернистских попыток вырвать науку из рамок строгих методологий, обратить ее в хаотический набор случайных открытий, лишить ее смысловой поддержки («Anything goes!», по когда-то шокировавшей публику формуле Пауля Фейерабенда). В порыве к истине, не подвластной человеческому времени, утверждаемой навсегда как закон природы, наука беспечно игнорирует свою социокультурную обусловленность. Со своей стороны, смысл карает такой поворот ума обеззначиванием. В распоряжении у смысла есть две стратегии, когда он входит в соприкосновение с наблюдениями и выводами естествоиспытателей. Умаляя свою роль, он может идти навстречу наукам о природе, становясь методологией, апологетизирующей познание с чистого листа, призывающей исследователей к освобождению их пытливого интеллекта от «идолов»– от всяческих предрассудков, как того хотелось бы Фрэнсису Бэкону и Гуссерлю. Чаще, однако, смысл конфронтирует с сознанием, обращенным к биофизической действительности, и покушается при этом на когнитивное превосходство над ним, которое обеспечивали бы религиозная вера, интуитивное озарение или, по Бакунину, наука, совокупившаяся с народной мудростью. Обеззначивая естествознание, смысл вырастает в собственных глазах и переходит в утопический сверхсмысл.
Но обеззначивание так же не удавалось смыслу, как обессмысливание– значениям. Сциентизм процветает, какие бы претензии к нему ни редъявлялись; социокультура продолжaла– во всяком случае до сегодняшнего момента– быть логоисторией, сколь желанным ни являлось бы для людей существование в неизменной и нескончаемой современности. Если теперь прагматизм возьмет верх над смыслом, homo sapiens попадет в дотоле не бывалый кризис, из которого не видно никакой позитивной развязки. Удваивающий бытие смысл с неизбежностью множится в дальнейших удвоениях. Смыслу трудно оставаться наедине с собой, быть адекватной себе авторефлексией. Он бросается в крайности, отчуждаясь от своих носителей то в Граде небесном (где возноcится до сверхсмысла), то в природном окружении (где опускается до значений). Не будь этого, нам пришлось бы признать, что наша дискурсивная, техническая и исследовательская изобретательность делает из нас подопытных существ, над которыми проводится космический эксперимент, не подтверждаемый контрольным рядом. Увы, свидетельств того, что вне Земли существует нечто подобное нашей социокультуре, пока нет (пусть с этим не мирится искусство). Человек– alienus мироздания. Он ищет себя другого, потому что жаждет быть, растворяться в сущем, а не твориться смыслом и не творить его. Но мы суть смысл, и мы одиноки– герои антропологической робинзонады, попавшие на необитаемый вселенский остров, где нет следов Пятницы. Спектакль духовной культуры, поставленный человеком, проходит при пустом зале.