Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией Абашин Сергей
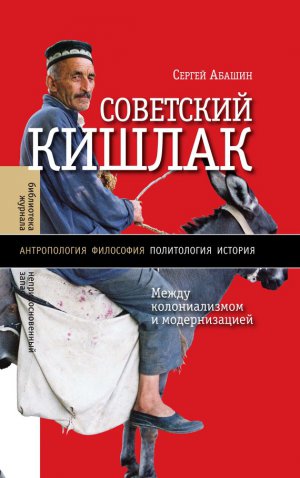
Таблица 2
Деятельность ФАПов в 1965 и 1975 годах
Источники: Годовой отчет Аштской райбольницы, СВУ, ФАП за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 150. Л. 153–154; Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 128–130.
Советская медицина и ее местные адепты, получившие образование в специализированных институтах и техникумах, принесли в Ошобу новые практики диагностирования. Одной из них было касание и осмотр тела другого человека. Мусульманские установления строго требуют скрывать тела взрослых мужчин и женщин. В среднеазиатских городах и кишлаках в конце XIX — начале XX века женщина в публичном пространстве должна была появляться в накинутом на голову длинном халате-парандже (паранжи) с закрытым черной сеткой (чачвон) лицом, что полностью прятало даже общие очертания ее тела; обязательной женской одеждой были длинная туникообразная рубаха, шаровары (лозим, иштон), разного рода халаты и головные платки. Открытие лица и тела рассматривалось как аморальный поступок, хотя в приватном пространстве — в помещении или без посторонних свидетелей — эти нормы постоянно нарушались636. В сельской же глубинке, в стороне от городов, где жители знали друг друга с детства и все были в разной степени родственниками, граница между приватным и публичным пространствами размывалась, поэтому скрывание лица и тела не было тотальным, паранджу и чачван надевали редко — только на публичных мероприятиях или в поездках за пределы кишлака. Тем не менее и здесь существовали сегрегация мужчин и женщин, скрывание или прикрытие тела и лица при массовом скоплении людей, осуждение чрезмерной открытости.
Во времена Российской империи чиновники и общественные деятели критиковали эту сегрегацию и изолированность женщины, но не стремились вмешиваться в местные порядки и диктовать новые правила поведения. Советская же власть не просто разрешила открываться, но потребовала от женщины определенной открытости в публичном пространстве637. Этой политикой декларировалось освобождение женщины и поощрялось включение ее в сферу советской публичности, что рассматривалось как один из способов борьбы с прежними социальными порядками и гендерными иерархиями.
Медицина была одним из направлений этой политики, она должна была приучать к новым практикам поведения. Женщины должны были открываться в присутствии врача-мужчины на осмотрах или в случае болезни. При этом советская медицина не предполагала разделения больниц на мужские и женские, как это было до 1917 года, когда для местного населения существовали женские и мужские амбулатории. В результате возникали непростые коллизии, выход из которых приходилось искать и пациенткам638, и врачам (как правило, мужчинам) — и те и другие были воспитаны на запретах в отношении открытого тела и соприкосновения с ним. Женщины старались исключить лишнее общение с врачами, решая все вопросы устными консультациями или прибегая к помощи медсестер в качестве посредниц. Если осмотра нельзя было избежать, то многие предпочитали пройти его за пределами кишлака, в районной или городской больнице, где можно было сохранить анонимность. В ошобинской больнице общение врача и пациента, если они были разного пола, происходило по возможности в приватной обстановке, при максимальном соблюдении всех предосторожностей морального свойства.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов эти коллизии приобрели характер публичных дискуссий. Некоторые общественные и местные деятели в Узбекистане и Таджикистане, ссылаясь одни на национальную мораль, а другие на ислам, призвали более строго соблюдать сегрегацию полов в транспорте, школах и больницах, раздавалось, в частности, требование, чтобы мужчины не были гинекологами. Однако дискуссия не получила развития, учителя и врачи продолжали придерживаться прежних норм, которые были частью их профессиональной социализации и культурного капитала.
Кроме открывания тела появились и другие — конечно, так или иначе связанные между собой — новые медицинские практики: пребывание больного в изоляции в больничной палате, роды в стационаре, инъекции как способ приема лекарств, использование средств контрацепции и так далее639.
Разумеется, не следует забывать, что медицина была лишь частью общего социального и культурного ландшафта, в котором присутствовали и другие институты — государственное образование, армия, формы организованного отдыха. Социализируясь и действуя во всех этих пространствах, люди получали множество разнообразных навыков. Они заключались, например, в умении выстраивать отношения в замкнутом коллективе (в школьном классе, военном подразделении, общежитии), общаться с представителями другого пола, что в повседневной сельской жизни было ограничено, в умении обманывать врача, преподавателя или командира, выслуживаться перед ними и добиваться благосклонности начальства, обходясь без поддержки родственников и односельчан, в умении формировать категории своих и чужих и ориентироваться в них. Это могли быть навыки курения, распития спиртных напитков и употребления новой пищи (например, свинины, которая в родном кишлаке находилась под запретом), навыки ношения другой одежды, использования непривычных предметов обихода. Те, кто жил в городе, получали опыт езды на общественном транспорте, посещения магазинов и заведений общепита, а также учреждений культуры — кинотеатров, музеев, библиотек, где тоже надо было осваивать новую манеру поведения. Можно упомянуть также знание русского языка, который обязательно изучали в средней школе640 и практические навыки употребления которого получали в вузах и во время военной службы.
Нескольким поколениям ошобинцев через сложную систему формальных поощрений и наказаний внушались определенные, санкционированные государством представления о мире и обществе, жителей кишлака учили и приучали не только к тому, что говорить, но и к тому, как говорить — каким образом описывать себя и других людей, как правильно (с точки зрения формальных норм) вести себя по отношению к окружающим. Этот опыт включал не только информацию, которую необходимо было знать, но и многие практические умения — письма и чтения, заучивания и рассказа, ухода за внешностью (ношения формы, например), соблюдения гигиены, использования каких-то стандартных движений (нахождение в строю, поднимание руки на уроке) и стандартных выражений. Полученный опыт был очень многообразным, и перечислить все составляющие его элементы сложно.
Я не ставлю своей целью анализ всех этих практик. Я лишь констатирую, что медицинские категоризации и идентичности были частью более общего знания, они сцепляли самые разнородные навыки и умения, полученные в разных сферах, в особый подвид медицинского современного знания и поведения, который, в свою очередь, должен был помочь пациенту чувствовать себя здоровым, больным или вылеченным. При этом больница создавала особый режим истины с сильным воздействием на сознание людей, поскольку болезнь — это состояние, когда активно задействуются эмоции, ресурсы и отношения, когда включаются социальные сети. Болезнь ставит перед человеком многие вопросы идентичности и поведения, и именно в этот момент врач обладает большой властью над больным641. Медицинское убеждение в необходимости определенного поведения и определенной идентичности подкрепляется и усиливается собственным желанием человека избавиться от реальной или предполагаемой боли/болезни.
Локальная медицина
В 1975 году главный врач Аштской центральной районной больницы писал, что во всех сельских больницах «помещения… являются примитивными, условий для больных нет, также [больницы] недостаточно обеспечены мягким, твердым инвентарем, медицинским оборудованием, инструментарием, лечебно-диагностической аппаратурой, медикаментами и предметами ухода за больными»642. В 1995 году, спустя двадцать лет, один мой собеседник, показывая на новое огромное здание ошобинской больницы и хитро улыбаясь, сказал: «Смотри, сколько в больнице находится больных — десять человек. А сколько персонала их обслуживает? Семьдесят». В этих двух противоположных суждениях мы видим два угла зрения на больницу: один — изнутри больницы, с точки зрения ее интересов и логики ее экспансии, другой — извне, с позиции локального наблюдателя, оценивающего больницу во всей совокупности местных представлений о здоровье и причинах болезней. Для главврача имеющихся надзора и контроля за человеком со стороны государства (и со стороны самого главврача как медицинского чиновника и специалиста) недостаточно, а для местного жителя, на которого эти надзор и контроль нацелены, их уже избыточно много.
Осторожное, недоверчивое отношение к больнице я могу проиллюстрировать еще одной зарисовкой из своих наблюдений. В ошобинской семье, где я жил в 1995 году, однажды заболел маленький мальчик, и хотя здесь же, по соседству располагалась больница с целым детским отделением и десятком врачей с высшим образованием, взрослые решили показать заболевшего соседке, которая была бу-отин, то есть женщиной, получившей мусульманское образование, и принадлежала к роду местных ходжей643. Пожилая женщина поставила свой диагноз и посоветовала диету и травки, что вполне удовлетворило моих знакомых.
Почему же мои информаторы выбрали в этом случае не дипломированного врача, а соседку? Какого-то однозначного объяснения я не получил. Во-первых, соседка имела в локальном восприятии более высокое социальное положение — пожилая (значит, более опытная) женщина из особой, «сакральной» семьи, за членами которой закрепилась устойчивая слава успешных врачевателей. Дипломированные врачи ни по своему возрасту, ни по своей семейной истории на такой же статус претендовать не могли. Во-вторых, в больничном враче видели скорее не практика-лекаря, а человека, который делает прививки, проводит беседы, выдает различные справки со всеми вытекающими из этого выгодами и ограничениями. Связь всей этой деятельности со здоровьем, которая, безусловно, имелась, тем не менее не была очевидной с точки зрения человека, почувствовавшего себя плохо. Соседка же знахарка действительно, по местным представлениям, занималась лечением, сохраняя необходимую приватность и даже иногда важную для людей секретность этого процесса. Поскольку такое обращение к ней было не первым, значит, ей доверяли, в ней видели надежного лекаря, который справляется со своими обязанностями. К слову, приболевший мальчик через несколько дней выздоровел, что, скорее всего, произошло бы и без помощи соседки, но в сознании его родителей именно она оказала решающее воздействие на процесс выздоровления.
Советские больничные практики категоризации болезней и способов их лечения, таким образом, не всегда полностью обеспечивали снятие боли (я бы сказал — ее контроль), а также объяснение причин ее появления. Это порождало неформальные способы самолечения признанными медицинскими препаратами — таблетками, капсулами, порошками, мазями, настойками, которые можно было приобрести вполне легально, используя различные социальные связи, а не официальную процедуру выписки рецепта. Люди пытались использовать те же механизмы воздействия на организм, но минуя публичные и официальные способы категоризации и диагностирования.
Появление в Ошобе советской больницы и новых лечебных практик не привело к исчезновению прежних, локальных способов излечивания или снятия боли. Местные жители продолжали обращаться к разнообразным экспертам и занимались самолечением, исходя из собственных представлений о причинах недомогания. Это было связано отчасти с сохранением доверия к местным методам лечения644, отчасти с желанием избежать больничных практик, которые, с одной стороны, требовали больших затрат — времени, ресурсов и социального капитала, а с другой — более бесцеремонно вторгались в жизнь человека и принуждали его к избыточной открытости и контролируемости. Больничные практики не вытесняли других — небольничных, локальных — практик лечения, а вполне уживались с ними, иногда даже переплетаясь причудливым образом, о чем я скажу ниже.
Прежде чем перейти к описанию локальных медицинских практик в Ошобе, сошлюсь на супругов Наливкиных, которые в 1886 году дали емкое и красочное описание местных знаний о болезнях и их лечении в том виде, как они существовали в Фергане в сельской глубинке в момент присоединения региона к Российской империи645:
Медицина процветает, но только в том смысле, что ежедневно предлагаются тысячи самых несуразных советов и ежедневно же съедается, выпивается, прикладывается и намазывается целая прорва иногда далеко не безвредной дряни.
Большинство медицинских книг бомбейского издания; все почти на персидском языке, похожи одна на другую и привозятся сюда непосредственно из Индии. Местные медицинские книги, написанные на местном же, узбекском языке, очень редки, а по содержанию мало чем отличаются от бомбейских. Одна из таких книг лежит в настоящую минуту перед нами, и мы позволим себе сделать из нее несколько выдержек в русском переводе, дабы познакомить читателя с современным состоянием местной медицины.
Книга носит название: Шифа-и-клюб, что в подстрочном переводе означает — излечение сердец, а так как в переносном смысле сартовское сердце равнозначно русскому нутру, то заглавие это правильнее будет перевести так: излечение внутренних болезней. Как и все вообще мусульманские книги, будь то хотя бы даже сборник анекдотов, Шифа-и-клюб начинается словами: Бисм-илля ар-рахман ар-раим — во имя Бога милостивого, милосердного <…> Далее говорится о несомненно божественном происхождении медицины, после чего уже следуют 35 глав, в которых излагаются способы лечения разных болезней. Вот отрывки из некоторых.
Глава 1 <…> Головная боль. Цветы мальвы и цветы колючки вскипятить в воде и натирать этим настоем ноги ниже колена, пребывая в спокойствии <…>
Глава 8 <…> Растрескивание губ. Если оно происходит от желчи, то признаки болезни: горечь во рту, сухие губы, жесткий язык. Средство — давать слабительное (для уменьшения желчи) и мазать губы мазью из шафрана <…>
Глава 9 <…> Опухоль десен. Признак болезни: если она происходит от крови, то десны постоянно болят и во рту образуются трещины покровов; если от желчи, то горечь во рту; если от мокроты, то опухоль мягкая и цветом белая. Средство: если болезнь происходит от первой причины, то следует пустить кровь, а если от других (причин), то принимать слабительное, соответствующее этим причинам <…>
Глава 11 <…> Если в груди заведутся черви, то полоскать глотку смесью 10 золотников сахара, вскипяченного в чайной чашке воды, и 5 золотников соли, тоже вскипяченной в таком же количестве воды <…>
Глава 12 <…> Язвы на легких. Признаки болезни: постоянный жар; при кашле отделяется гной; если этот гной отделить от слюны и бросить в огонь, он издает дурной запах, а в воде тонет. Средство: пить ослиное молоко и примешивать к пище сок ячменя <…>
Глава 26 <…> От неплодия — есть язык зайца <…>
В предисловии к другой подобной же книге говорится, что как стихи, так и болезни, и равно и лекарства от этих болезней разделяются на горячие и холодные. Так как пища и питье могут различно влиять на состояние человеческого организма, то к ним относятся как к лекарствам, а потому и они подразделяются на горячие (иссык) и холодные (саук).
Медикаменты, которыми пользуют туземные врачи, донельзя разнообразны. Цветы и коренья различнейших, как туземных, так и иноземных растений, квасцы, купоросы, сушеные змеи и ящерицы, вареные, печеные и сушеные овощи и фрукты, известь, серная кислота, ртуть, воск и медь, привозимые сюда из Семиречья и пр. По большей части все это дается в виде различнейших соединений.
Одним из наиболее популярных лекарств считается мумия. Из чего и как мумия приготовляется, нам достоверно неизвестно; мы знаем только, что цвета она обыкновенно желтого или красноватого, вкус неприятный, горький; на базарах продается около 20 копеек за кусочек с горошину и рекомендуется как внутреннее средство при порезах, вывихах, переломах костей и многих других болезнях. Большинство сартов того мнения, что мумия приготовляется в Китае (или Тибете) двумя способами: или из сока какого-то тамошнего растения, или же из человеческого жира. Что касается до второго способа приготовления, то каждый описывает его по-своему. Одни упоминают о китайских покойниках; другие более склонны думать о ловле и откармливании китайцами людей, предрасположенных к ожирению. Как бы то ни было, но общественное мнение стоит за приготовление мумий из человеческого жира и стоит за это настолько твердо и непоколебимо, что несколько лет тому назад в одном из уездов области производилось даже следствие, имевшее несколько оригинальный характер, ибо у туземных сельских властей явилось подозрение, не было ли совершено происшедшее там убийство с целью приготовления мумий.
От коклюша, который по-сартовски называется кук-юталь (синий кашель) и которым в Кокандском уезде болели двое наших сыновей, нам советовали нижеследующие средства: 1) зарыть в землю пять синих кукол; 2) привесить к больному несколько перьев сизоворонки (кукъ-карга); 3) повесить несколько синих тряпок на мазар, могилу какого-нибудь святого; 4) кормить больного яйцами, окрашенными в синюю краску, или, наконец, 5) у первого проезжающего на серой лошади (кук-ат) в синем или сером халате (кук-тун) спросить, какое средство от коклюша — что он скажет, то и делать.
Конечно, в этом ироническом описании много ориенталистского предубеждения против странных и отсталых способов лечения646. Но даже из этой наливкинской цитаты мы видим, что среднеазиатская медицина представляла собой хаотическую смесь самых разных книжных и местных представлений, иногда построенных на каких-то магических аналогиях и действиях, иногда апеллирующих к рациональным знаниям, иногда использующих нерационализированный локальный опыт. В научной литературе мне встречалась попытка разделить медицинские практики у мусульман на два типа — сакральные и секулярные, которые, имея разное происхождение, дают разные же объяснения причин болезни и способов избавления от нее647. Хотя это, на мой взгляд, не очень удачные названия, но я воспользуюсь ими для удобства изложения.
Сакральные практики были связаны с убеждением, что причиной болезней являются зловредные духи, само определение и классифицирование которых входит в процесс лечения, то есть их изгнания. В Средней Азии к таковым относили джиннов (жин), албасты (алвасти), пери (пари), лашкар (лашкар — буквально «войско»), а экспертами по их выявлению и борьбе с ними считались муллы, ишаны (эшон), шаманы-бахши (бахши), заклинатели (парихон), которые использовали набор разнообразных техник для излечения (чтение молитв, изготовление амулетов-тумор, разного рода ритуалы, принесение жертв, поклонение святым могилам). Секулярные практики основывались на представлениях о состояниях и свойствах веществ и организмов, которые подразделялись, в частности, на холодные и горячие. Экспертами в этой сфере считались табибы (табиб), они ставили диагноз и, опираясь на специальную медицинскую литературу, подбирали ту диету и те правила поведения, которые больному следует соблюдать для выздоровления. Два типа практик существовали и продолжают существовать в очень смешанном виде, и люди часто пользуются ими одновременно, незаметно для себя переключаясь с одной объяснительной и поведенческой модели на другую648.
Среди локальных способов лечения в Ошобе, которые мне приходилось наблюдать или о которых мне рассказывали, можно было обнаружить секулярные практики, например употребление трав, растений, других органических и неорганических веществ. Каждый ошобинец знал схему деления пищи и внутренних органов человека на горячие (исси) и холодные (сову) и соблюдал, следуя этой схеме, определенные диеты в случае того или иного недомогания и рекомендации, какую пищу принимать при болях в определенных органах649. В кишлаке не было табибов, которые могли бы дать более развернутую консультацию и более широкий набор советов. Однако какие-то травы и средства вместе с описанием правил их употребления можно было купить на окрестных базарах. В самой Ошобе тоже проживали местные знатоки, которые, видимо, коллекционировали способы лечения травами и предлагали желающим свои рецепты. Например, я разговаривал с человеком, который в возрасте за 60 лет не имл своей семьи, жил всегда в одиночестве, часто работая на кладбищах, и собирал в горах разные травы, чтобы готовить из них снадобья. Местные жители называли этого человека каландаром650.
Оказать первую помощь при травмах или сделать, например, лечебный массаж могли либо родные, либо какие-то местные «специалисты», которые приобрели соответствующий опыт. Простейшие хирургические операции — выдергивание зубов, удаление нарывов — в прошлом делали брадобреи (усто, сартарош). Когда-то в Ошобе был усто Розикул, потом было несколько брадобреев, в том числе усто Негматулло, два Маматкула — сын Розикула и сын Негматулло. Эта профессия передавалась по наследству или от мастера к ученику, брадобреи имели своего духовного покровителя (пир) и проводили особые ритуалы в его честь, зачитывая устав (рисола). Каждую семью обслуживал свой усто: он ходил от дома к дому и делал свою работу, подстригая мужчин и выполняя какие-то лечебные действия. В его обязанности входило также обрезание мальчиков. В прошлом усто получал с урожая небольшую долю, а когда появились колхозы, каждая семья отдавала один свой трудодень в пользу брадобрея. В 1995 году в кишлаке было несколько брадобреев, но они уже не занимались ни медицинской практикой, ни обрезанием651.
Особую категорию экспертов составляли повитухи — опытные женщины, которые помогали роженице в родах и следили за ее здоровьем и здоровьем новорожденного. Они тоже обладали целым набором лечебных знаний и приемов на случай возможных осложнений состояния здоровья у их подопечных. В позднесоветское время отношение к повитухам официально было отрицательным, поэтому к их помощи обращались крайне редко. А начиная с 1990-х годов женщины все чаще стали опять рожать дома, приглашая к себе медсестер, акушерок или повитух либо и тех и других вместе.
Сакральные практики тоже сохранялись в Ошобе на протяжении всего советского периода и включали в себя разнообразные ритуальные и магические действия, направленные на изгнание злых духов. Должен сказать, мне не раз приходилось слышать, как ошобинцы самого разного возраста и образования с серьезным видом и в подробностях рассказывали об этих духах. Обычно последние выглядели в рассказах как группа реальных, идущих куда-то и танцующих людей во главе то ли с хромой девушкой, то ли с хромым мужчиной, прикосновение которой/которого к человеку приводило к болезни и даже смерти. Не очень уверенно этих духов называли пари, появление же их единодушно связывали с местечком Халпез, небольшим горным ущельем между Ошобой и Шеваром.
Другое, пожалуй самое популярное, объяснение болезней и недомоганий, которое приходилось слышать, — сглаз. Сглазить могут обычные люди, имеющие недобрые намерения и какую-то нехорошую силу (я не выяснял специально, откуда, по мнению моих собеседников, эта сила берется).
Злых духов и сглаза очень боялись, и всегда существовала целая система разнообразных приемов защиты от них — использование амулетов, всяческих предметов и засушенных растений, которые вывешивают во дворе, в комнатах, на дверях, в машинах и так далее, окуривание помещений и людей дымом от тлеющей травы исири (гармала обыкновенная, Peganum harmala). Если же человек заболел, то обращались к местным специалистам по изгнанию духов или избавлению от сглаза (кинна). В Ошобе было несколько категорий таких специалистов. Целительством занимались женщины-бахши, которые после перенесенной болезни обращались к духовному наставнику (пир) и получали благословение (патаха652) на то, чтобы производить те или иные ритуалы и читать молитвы для лечения от сглаза. Некоторых таких женщин называли еще фолчи (полчи), если они специализировались на гаданиях, и кинначи — если на сглазе. Лечение состояло в основном из магических действий: заклинательница от сглаза набирала золу в чашку-пиалу, накрывала последнюю марлей и водила ею в районе солнечного сплетения — считалось, что при этом сглаз выходит в пепел653.
Кроме бахши лечением заболевших от сглаза или от злых духов занимались религиозные деятели. Муллы и бу-отин могли совершать, как и бахши, простейшие виды магических действий — читать молитвы, изготовлять талисманы с цитатами из Корана; возможно, некоторые муллы знали и какие-то другие приемы лечения. Один мулла — Турди-кори, потомок Нурмата Исаматова654, — был известен тем, что лечил (пытался лечить?) душевнобольных, привязывая и избивая их. Ишаны и ходжи, особая группа жителей Ошобы655, имевших, как считалось, сакральное происхождение и особые способности, также практиковали разные виды лечения. Оно состояло опять же в чтении молитв и сдувании (куф-суф) сглаза и каких-то злых сил, которые незримо присутствуют в человеке или рядом с ним, в расплескивании крови барана и так далее656.
Следует заметить, что эксперты, специализировавшиеся на разных методах лечения, находились между собой в некоторой конкуренции за признание со стороны пациентов и те материальные подношения, которыми процесс лечения обязательно вознаграждался. Особой критике бахши и кинначи подвергались мусульманскими деятелями, высказывавшими время от времени сомнения по поводу легитимности их практик с точки зрения ислама. Однако такая критика, хотя и была постоянной, не сопровождалась серьезными конфликтами, так как бахши и кинначи научились обставлять свои действия мусульманскими символами, да и к тому же все эти эксперты были связаны между собой сложной сетью родственных и соседских отношений, которые гасили взаимное недовольство.
С сакральными практиками лечения было связано посещение (зиерат) святых мест — мазаров (мозор), включая как местные (могилы «потомков святых» в Ошобе, Чинар-бува, Бойоб-бува657), так и другие известные места658. Паломничество к мазарам включало в себя целый ряд переплетающихся мотиваций и целей. Это и совершение бескорыстного благого (душеспасительного) дела — савоб, и решение с помощью святости места каких-то жизненных проблем, а именно излечение болезни, рождение долгожданного ребенка, окончание цепи неудач и так далее. Наконец, часть паломников в разговоре со мной мотивировала необходимость посещения того же мазара Бойоб-бува потребностью в своеобразном отдыхе или оздоровляющем усилии. Место, где расположен мазар, имеет, по мнению этих людей, некую положительную ауру, а подъем к нему, сопряженный с преодолением физических и духовных трудностей, несет укрепление и исцеление человеческому организму. Подобного рода мотивацию можно было бы отнести к варианту рационализации веры и локальной практики, что получило широкое распространение в советское время659. Те, кто придерживался таких взглядов, имели смутное представление о легендах, связанных со святым, и выражали по поводу этих рассказов скептицизм. Замечу, однако, что эти паломники, даже если они не осознавали или отрицали сугубо религиозные причины своих действий, старались придерживаться, хотя бы в сокращенном виде, принятых у верующих правил поведения при посещении мазара — они читали какую-нибудь молитву у могилы660, клали около нее камень, омывались святой водой и часто устраивали ритуальное угощение.
Вылечивающим эффектом обладают, согласно местным представлениям, многие религиозные ритуалы — бусешанба, мушкул-кушод, ашура-оши, мавлуд-оши661 или просто худойи, то есть пожертвование Богу в виде коллективного угощения. Помимо названных ритуалов, часто встречающихся в Ферганской долине, в Ошобе был свой, местный вариант худойи, который исполняли члены Лашкарак-топи (буквално «группа из Лашкарака»), то есть те ошобинцы, которые считали себя выходцами из небольшого селения Лашкарак (оно располагается на северо-западном склоне Кураминского хребта, в Узбекистане662). Ритуал имитировал своеобразное дистанционное паломничество к святому месту, которое находится в Лашкараке, и в том числе к своим предкам, похороненным около него. Он проводился так: когда у кого-то из членов группы кто-нибудь заболевал или, например, рождался слабый ребенок, такой человек созывал всю группу и в их присутствии выводил предназначенного к жертве барана на веревке за ворота своего дома, как бы направляясь в Лашкарак; после этого выбранный в Лашкарак-топи смотритель мазара (шайх)663 говорил: «Достаточно, вы уже отправились в Лашкарак», — и человек возвращался обратно во двор, барана резали и готовили блюдо атала664, а всех членов Лашкарак-топи звали на трапезу; все угощались, и шайх читал молитву, призывающую Бога, святых и предков помочь разрешить существующие проблемы.
Хотя такого рода ритуалы нередко имели своей явной целью решение проблем выздоровления, но тем не менее они не воспринимались и не описывались в понятиях болезни и лечения. Подразумевалось, что сакральные действия влияют на человека в целом — на его состояние, самочувствие, удачу, душевное и духовное равновесие. Проблематика болезни и лечения не выделялась из общих представлений о судьбе, на которую можно каким-то образом религиозно/магически воздействовать, и о грехах, которые можно тем или иным способом искупить.
На первый взгляд все эти способы лечения были примитивными и неэффективными, а стойкая приверженность к ним несмотря на появление современной медицины — пример иррационального поведения665. Однако разрабатываясь и применяясь на протяжении длительного времени, перечисленные способы борьбы с недугами и болью, возможно, имели какие-то реальные лечебные результаты. К тому же упомянутые выше эксперты благодаря долгой практике общения с разными больными и, возможно, передававшимся в их семьях знаниям простых приемов и лекарственных средств могли действительно оказывать первичную помощь или хотя бы рекомендовать тактику обращения с больным. При оценке эффективности и популярности такого рода лечения надо учитывать также близость между пациентами и традиционными лекарями, которые принадлежали к одному и тому же локальному сообществу. Такая близость могла оказывать влияние на самочувствие и оценку своего состояния у тех, кто обращался к экспертам за советами. Представления о причинах болезней и методах лечения были вписаны в местные социальные отношения и иерархии и даже в местные климатические и природные условия, что вызывало и вызывает у ошобинцев доверие к небольничной медицине и ее результативности.
«Я верю»
В 2010 году я встретился опять с теперь уже бывшим главврачом ошобинской больницы Ашурали Дехкановым, и он рассказал мне несколько историй о своих собственных болезнях:
Это было четыре года назад. Я такой стал, сижу, дыхания не хватает, напряжение большое, двадцать дней лежал дома. Врачи приходили и ничего не находили. Обратился к хирургу в селение. Там есть хирургическое отделение, врач хороший. Я спросил его: «Может быть, это непроходимость кишечника, потому что там сильно болит, напряжение большое». Он сказал: «У тебя никакой хирургической болезни нет, только воспаление есть». Ничего не давал, лекарства не давал. Он удивился: анализы ничего не показывают, рукой ничего не определил, я рассказываю, а он слушает и удивляется. Потом меня обратно домой привезли. На другой день свадьба, раис-бобо [Ходжаназаров] сидит, гостей полный дом. Я сестре сказал: «По-моему, это не медицинская болезнь, найдите мне кинначи». Ночью в 11 часов привезли молодую девушку, она начала снимать сглаз. Я с нетерпением жду, сижу с трудом, не могу сидеть, боли у меня, дыхания не хватает. Ритуал продолжался где-то час. А утром встаю — здоровый, никакой боли нет, напряжения нет, вздутия нет.
Пятнадцать лет назад у меня была похожая история. Я стал плохо себя чувствовать. Сильно болела голова. Я не знал, что делать. Обращался к знакомым врачам в районе, но никто не мог помочь. Тогда моя мама решила позвать соседку — Джаннат-кампыр [кампир — старушка], она кинначи. Я не верил в эти вещи, но решил не обижать маму. Джаннат-кампыр положила в тарелку пепел, перец, соль и еще что-то и стала делать над моей головой какие-то пассы. В пепле образовались ямки, как будто его трогали рукой. Это, видимо, выходила болезнь. После этого я заснул и проспал больше суток. Встал, и голова перестала болеть.
Природа, оказывается, нерешенный вопрос очень. Если бы другие сказали, что так получилось, то я бы не поверил как врач: пепел, добавляют в него кое-что, проводят около человека, и от этого все проходит. Удивительно, но действительно так.
Когда кинначи делают пассы, то появляется в их руках какое-то напряжение, они действительно могут сказать, есть ли у кого-то сглаз, много или мало. У любого человека может быть сглаз. Некоторые люди могут подействовать на другого человека, у них из глаза луч или нехороший взгляд. Плохие люди есть, вредные — они плохим образом обращают внимание на кого-нибудь, и человек заболевает. Таких людей никто не знает. Не знаешь, кто посмотрел, не почувствуешь, но постепенно действует. Вредный человек направляет эту энергию сзади или спереди — как это действует, я точно не знаю. А кинначи снимает это.
Я на себе испытал. Я действительно вынужден верить, я же вылечился. Я думаю, вот больной в таком состоянии — лежачий, не ходит, не кушает, долго кашляет, болезнь неясная. Его отправляют на туберкулезное обследование, делают анализы, исключают определенные болезни. Меня отправили бы, лежал бы шесть-семь месяцев или год, ничего не обнаружили бы, делали бы уколы, вводили бы химикаты — я бы хуже заболел, может быть. А здесь за один раз, буквально за пять минут вылечился.
Я врач, могу определить сам, например, воспаление легких, это ясно — кашель, температура, можно услышать изменения. Это я знаю, лабораторно знаю. У каждой болезни свои признаки имеются — куда боль отдает в лежачем положении или когда человек встает, ходит, ногу поднимает. Если объективно не можешь определить, если признаки неясные, лаборатория ничего не дает, то тогда ясно, что это сглаз — у них своя болезнь.
Если камень в почках, то кинначи ничего не сделает. Но иногда в самом деле почки воспалены — хотя обращаться к кинначи нельзя, люди обращаются, но это бесполезно, время проходит, это надо обращаться к врачу. Ногу сломал — кинначи не помогут, а вот зуб болит — могут помочь.
Не все могут быть кинначи, обычно эта способность передается по наследству. Они читают молитвы, но я не знаю, помогают ли эти молитвы, но пепел на самом деле действует. Я удивляюсь: нехороший луч от больного человека ударяется о пепел, и в нем появляются специально сделанные разные ямки — то, что вышло из человека, в них остается. Кинначи десять — пятнадцать минут пассы делает, и ямки исчезают, пепел уже гладкий — она снимает вредные лучи. Я верю.
Раньше, когда не было медицины, к кинначи многие ходили, а в последнее время к ним обращаются, когда от медицинского лечения пользы нет — лечатся у врачей сначала, но пользы нет.
От обсуждения сглаза мой собеседник перешел к другим болезням:
Медицина не учит, что у каждого человека есть сухость, влажность, горячесть и холодность. Их надо определить и давать лекарство в зависимости от этого — чтобы оно действовало. Органы тоже холодные и горячие: печень, почки, сердце — горячие, лимфа, кости, сухожилия, язык — холодные. Нельзя принимать долго холодную пищу, так как это повлияет на горячие органы.
Есть знатоки, наблюдательные люди, которые могут определить болезнь и подсказать диету. Я работал в сельсовете председателем. Смотрю — устаю, вид другой, припухлость, отеки, я сто метров не мог пройти тогда. Я принимал разные лекарства, мочегонные, чтобы отеки снять. Обращался к врачам в Ходжент, они тоже назначили мочегонные, но на самом деле откуда и какая это болезнь, не знали. Однажды я сижу дома, одна женщина — ей шестьдесят лет, из Мархамата, тоже кинначи, — пришла, мы сидим, чай пьем. Она посмотрела на меня, сказала: «Что с вами?» Я ничего не ответил. Она сказала: «У вас какая-то болезнь, вы не обращаете внимания. Вы должны держать сорок дней диету, не пить спиртное, кипяченую воду и чай не пить, жареное, сладкое, сахар, соленое, жирное, молоко нельзя, лепешки с дрожжами нельзя». Она назвала болезнь — бадук. Я думаю, это было воспаление всего организма наподобие аллергии, снаружи ничего не видно, ничего не высыпает, но отеки есть. Я послушал ее, держал сорок дней, трудно было — и все прошло. В медицине такого назначения я нигде не встречал и не читал. Я думаю, что острая, соленая и жареная пища усиливала аллергический воспалительный процесс, а когда я стал держать диету, эта пища не поступала в организм — болезнь потихоньку проходила. Долго надо держать диету.
В детстве у меня была другая история. Где-то в седьмом классе школы я стал совсем слабым, у меня был слабый кашель, и я ничего не мог делать. Мама позвала одну старуху. Она посмотрела мне под язык и сказала, что у меня болезнь левший. Она взяла кусочек дикорастущего дерева илгой666 и положила мне под язык, потом я полчаса стоял наклонившись и у меня изо рта постоянно текла вода. Я потом десять дней лежал в больнице, и моя болезнь прошла.
Я думаю, механизм такой: когда под языком появляются своего рода венозные сосуды зеленого цвета, то язык укорачивается, его нельзя высунуть изо рта, язык уходит назад, корень языка трогает заднюю стенку гортани и раздражает ее — человек кашляет, потому что язык должен быть впереди. Это механический кашель — процесс простой, но медицина его не знает. Когда старуха поставила свое лекарство, зеленый цвет прошел, язык высунулся, раздражение исчезло и кашель перестал. Интересно. Интересно же, бадук или левший — об этом медицина не пишет нигде, не знает667. А я сам болел. Оказывается, простой метод: болезнь можно определить легко, никакого анамнеза, и вылечить легко.
Прежде чем я попытаюсь проанализировать этот рассказ, несколько слов добавлю о самом Ашурали Дехканове. После моего отъезда из Ошобы в 1995 году он несколько лет оставался главврачом, а потом был назначен председателем сельсовета/джамоата. На этой должности он, конечно, оказался при поддержке своих влиятельных родственников и заменил другого своего родственника (который внезапно умер). Почти десять лет Дехканов оставался аксакалом и развернул активную деятельность, много работая — при поддержке международных фондов — над реконструкцией дорог, прокладкой труб для питьевой воды и так далее. Он продолжал также медицинскую практику в качестве врача на полставки. В эти же годы Дехканов стал много болеть. Когда я встретил его в 2010 году, уже после отставки с должности аксакала, он выглядел очень уставшим и нездоровым человеком.
Таким образом, перед нами рассказ не просто врача, а врача, несколько — не полностью, конечно, — отошедшего от повседневной медицинской практики в больнице и самого испытывающего недомогания, снять которые современная медицина не могла. Добавлю, что в 1990—2000-е годы больничная медицина в Таджикистане, особенно в сельской глубинке, оказалась в весьма плачевном положении с точки зрения финансирования и подготовки кадров: с трудом поддерживался ее в общем-то и без того невысокий уровень, который был достигнут в советское время. Постсоветский кризис не мог, конечно, не повлиять на настроения людей, на их восприятие себя, своей профессии, своих знаний, своей роли в обществе — это нужно учитывать, читая рассказ бывшего главврача, записанный мной в 2010 году.
Тем не менее я думаю, что вправе экстраполировать услышанное на советское время, чтобы увидеть, как тогда современная медицина взаимодействовала с местными взглядами на болезни и лечение. Стремясь осмыслить собственную историю боли, Дехканов, несмотря на свое современное (или русское/европейское образование), не отвергал локальные медицинские практики, а, наоборот, включал их в опыт своих переживаний и раздумий. Он пришел к этому, как видно из его объяснений, через осознание ограниченных возможностей той модели медицины, которой сам был призван служить и которую должен был укреплять и пропагандировать. Другим важным аргументом в рассказе бывшего главврача является ссылка на людей, которые его окружали (мама, сестра, соседка Джаннат-кампыр, анонимные женщины-кинначи) и убеждали опробовать новые способы излечения. В формирование мотиваций и восприятия боли и недомоганий включались, следовательно, различные акторы локальных социальных сетей, они воздействовали на чувства, которые испытывал Дехканов. Далее закономерно включался механизм сакрального обоснования — отсылка к наследственной передаче способностей излечивать, разного рода истории о духах, святых, чудесных исцелениях и так далее, которые я в большом количестве слышал от других ошобинцев. Все это в итоге создавало у заболевшего ощущение того, что лечение ему помогает, хотя, как я уже говорил, мой собеседник, к сожалению, вовсе не производил впечатления излеченного, здорового человека.
Правда, замечу, что бывший главврач завершающего шага — сакрализации своего опыта — не сделал и обходился без него. Он явно пытался цензурировать такого рода аргументацию и рационализировать локальные практики в терминах и в логике своего советского образования668. Дехканов использовал три способа такой рационализации669. Во-первых, он обозначил список того, чт современная медицина может лечить своими силами, а остальные недомогания, которые она не в состоянии точно диагностировать, отнес к компетенции местных экспертов, которые опираются на традиционный, накопленный веками опыт. Сначала — и здесь Дехканов был строг в своих убеждениях — надо все-таки обратиться в больницу, и только если она не поможет — искать помощи у народных целителей, то есть приоритет сохранялся за советским медицинским знанием.
Во-вторых, чтобы объяснить необъяснимые с точки зрения науки действия местных экспертов, бывший главврач ввел знакомое нам понятие доверия, которое существует и в современной медицине, призывающей больного доверять врачу для достижения комфорта и наиболее полного эффекта от лечения. Соответственно, и локальные эксперты, несмотря на сомнительность применяемых ими средств, смогут помочь больному, но лишь в том случае, если он верит в эти средства, — тогда в его организме задействуются и активизируются психологические механизмы защиты, которые приводят к снятию боли или даже излечению. Такого рода рационализация была очень популярна среди населения, особенно у образованной его части, которая вынуждена была мирить свои современные убеждения с местными привычками.
В-третьих, защищая свой прежний высокий статус в больничной иерархии, Дехканов пошел еще дальше и попытался сформулировать языком современной медицины некие гипотезы о механизме действия того лечения, которое ему предложили кинначи и эксперты. При этом он, в частности, использовал термины «пассы», «энергия» и «луч», взятые им, по его же утверждению, из словаря российской целительницы Джуны Давиташвили, которая дальше многих других небольничных экспертов продвинулась в получении официального признания670. Вот что он сам говорил по этому поводу:
В 1991 году я около месяца учился в Москве у Джуны Давиташвили. Теперь я могу лечить по методу Джуны. Я держу ладонь над человеком, чувствую тепло от тела и делаю пассы — это одновременно установление диагноза и лечение. Иногда надо держать десять — пятнадцать минут, иногда — до тридцати минут. Для детей достаточно трех — пяти минут. Особенно это помогает детям. Я не верю лекарствам и считаю, что надо пользоваться более естественныи средствами. Наука еще многого не знает. У каждого человека есть энергия, которая может лечить или быть источником болезней. В чем метод Джуны? У каждого человека есть биоток. У некоторых способности больше. Это биологический ток, так как у человека есть энергия внутри, благодаря которой он ходит, двигается. Когда в организме возникает воспаление или травма, то происходит изменение механизма и направления биотока, энергии. Пассами можно регулировать биоток — снять его или добавить.
Из этого признания следует, что Ашурали Дехканов давно, видимо еще до своей болезни, интересовался тем, как совместить небольничные локальные практики излечения с деятельностью в рамках больничной медицины. Ссылка на Джуну Давиташвили позволяла ему добиться того, чтобы его советское медицинское образование и статус не только не вступали в противоречие с местными привычками и представлениями, но, наоборот, подкрепляли последние отсылкой к авторитетному и легитимному институту больницы, которую он представлял и возглавлял, и к связанной с ней формальной и неформальной власти. Этот интерес к локальным практикам не был случайным и исключительно теоретическим — меня поразил обнаружившийся во время разговора с Дехкановым факт применения и самим главврачом методов небольничной медицины: будучи в его доме, я видел, как во двор зашли две женщины, которые принесли на лечение своих маленьких детей; бывший главврач районной больницы позвал каждую по очереди в гостиную и там несколько минут «делал пассы» над маленькими пациентами. Современная больница и современный рациональный язык вполне, таким образом, вросли в местную почву, были приспособлены к локальному контексту, к ошобинским социальным связям и иерархиям.
Подытоживая сказанное, вернусь к вопросу о колониальности советской медицины. Такая характеристика уже изначально выглядит слишком прямолинейной, так как речь идет о сфере деятельности, где, несмотря на наличие инструментов подчинения, всегда присутствовала забота о человеке, о его здоровье и жизни.
Эта противоречивость обвинения в колониальности видна в статье «Медицина и колониализм», которую в конце 1950-х годов написал один из самых ярких интеллектуалов и идеологов антиколониальной борьбы в Северной Африке — Франц Фанон671. Очень емко сформулировав критику в адрес так называемой современной медицины, автор заявил, что, несмотря на все достижения последней, она выполняла роль оправдания и поддержки колониальной власти, закрепляла иерархию между колонизаторами и колонизируемыми, сохраняла черты неравенства и превосходства Запада над покоренными народами: «Вынужденный, во имя правды и благоразумия, сказать „да“ некоторым нововведениям захватчиков, колонизируемый понимал, что тем самым он оказывается заложником системы в целом и что французская система медицинской помощи в Алжире неотделима от французского колониализма в Алжире»672. Также Фанон писал, что коренные алжирцы не доверяли западной медицине и старались ее избегать, что было формой сопротивления западному колониализму, а доктора из числа местных жителей, усвоивших европейское образование, находились в сложном, двойственном положении, и их нередко воспринимали как представителей колониальной власти (напомню, что сам Фанон был врачом-психиатром). Однако, продолжал он в своей работе, одновременно с национальной борьбой против колониализма местные доктора реинтегрировались в свое сообщество и западная медицинская технология превращалась в средство укрепления и поддержания «тела нации».
В такой позиции Фанона присутствует внутренний парадокс: в зависимости от точки зрения современная медицина виделась/становилась то инструментом власти индустриального/капиталистического/рационального социального порядка, то орудием в первую очередь колониального господства и местом, где разворачивается сражение империи и антиколониальных сил, то, наконец, чуть ли не средством освобождения от колониализма. Мы понимаем, таким образом, что по отдельности оба определения — европейская (и советская) медицина как колониализм и как черта модерности — имеют каждое свои ограничения и внутреннюю двусмысленность. Я бы не решился принять какое-то одно из них в качестве окончательного и бесспорного. Мне представляется, что вместо отстаивания однозначных определений и навешивания ярлыков более правильно видеть в медицине пересечение разных интересов и процессов, разнообразные — не только колониальные — возможности доминирования и одновременно сопротивления, культурной иерархии и проявления гибридности. Вслед за поздним Фуко я полагаю, что отношения власти — это стратегическая игра, в которой люди, с одной стороны, всегда обладают некоторой степенью свободы и самости, а с другой — могут получать выгоды и удовольствия, реализовывать свои интересы. В этой игре вещи могут переворачиваться, поскольку отношения власти «подвижны, обратимы и неустойчивы»673. Медицина — это инструмент государства, с помощью которого власть отслеживает, контролирует и формирует идентичности и поведение населения, это институт, обладающий социальными и экономическими ресурсами, которые используются в локальных стратегиях и локальных социальных сетях, это корпорация, выступающая в качестве отдельной статусной социальной группы и формирующая свой язык самости и престижа.
Возвращаясь к Ошобе, можно сказать, что появление института больницы и других советских институтов, а также всех соответствующих представлений и практик привело к тому, что сообщество оказалось в новом пространстве, которое предоставило ошобинцам дополнительные возможности и одновременно ввело новые инструменты разделения и принуждения. Люди включились в игру, где у них был выбор — какие и по каким правилам делать ставки. Последствия или эффекты оказались такими же неоднозначными и двойственными: выгоды от этой игры довольно неравномерно распределялись по всему социальному полю, создавая свои диспропорции и иерархии — кто-то был скорее лоялен к новым правилам и старался их придерживаться, кто-то чувствовал себя аутсайдером и искал возможности приспособиться к такому положению. Советская модерность приходила в Ошобу извне и скрывала в себе различные виды социальной и культурной гегемонии, но вовсе не сводилась только к стратегиям подчинения и сопротивления.
Очерк седьмой
МАХАЛЛЯ
В статье «Жизнь в махалле: значения городских узбекских кварталов в Оше», опубликованной в 1998 году, американский антрополог Морган Лью и киргизский исследователь Эртабылды Сулайманов сформулировали свой взгляд на узбекскую махаллю (маалла) как на «пространство, в котором происходят „циркуляции“ <…> людей, информации и денег — плотно, быстро и интенсивно»674. Такой взгляд, по их мнению, позволяет видеть в махалле не выражение изолированной и неизменной «сущности народа», а «уникальное место», пронизанное «транслокальными течениями». Они дают еще одно — более описательное — определение махалли: «плотно и компактно организованная группа, состоящая из отдельных людей, как правило, живущих в одноэтажных домах»675. Каждый дом (или двор) — это семейная, экономическая и социальная ячейка махалли. Циркуляция людей — это «взаимные посещения друзей, где мужчины, женщины, дети, взрослые и пожилые члены каждого хозяйства обращаются в разных социальных кругах», при этом многие семьи знают друг друга на протяжении жизни нескольких поколений. Вместе с циркуляцией людей происходит обмен информацией — слухами, новостями. Местные жители знают все о происходящем в махалле, и это закрепляет данную территорию за ними, закрывая ее для чужих. Циркуляция ресурсов — взаимные обмены на туях, которые создают сеть взаимных обязательств, перераспределяют капитал и помогают «держать общину цельной». Все это вместе, а не «узбекский характер», дает местным жителям «чувство дома», «чувство общины». Конечно, они учатвуют в социальных практиках и за пределами махалли, но самые важные и значительные события их личной биографии происходят внутри этого сообщества.
Статья Лью и Сулайманова, опубликованная в малодоступном сборнике, — одна из немногих попыток изменить утвердившийся в научной и популярной литературе язык описания махалли. Идиомами последнего являются отсылки к «общинности», «коллективистскому духу», «традиционности», «менталитету», «образу жизни», «культуре» и так далее. В поддержание и воспроизводство подобной объяснительной модели много усилий и инвестиций вкладывают самые разные стороны. И это не только исследователи, ученые, приезжающие в Среднюю Азию изучать местное общество, разного рода журналисты, международные эксперты676, но и политические, а также культурные элиты среднеазиатских государств, для которых понятие традиции играет важную идеологическую и символическую роль в постсоветской символической легитимации (узбекская власть создала целую «индустрию махалли» с одноименными фондами, праздниками, соревнованиями и тому подобным). Даже критика в адрес махалли со стороны правозащитников677 и интеллектуальной оппозиции678 воспроизводит все указанные стереотипы о махаллинских традиционности и общинности, подчеркивая лишь, что современная власть манипулирует махаллей и превращает ее в инструмент своей государственной политики и идеологии. Совпадение языка всех этих влиятельных инстанций, часто имеющих разные интересы и устремления, наделяет и сам этот язык, используемые им понятия, выражения и утверждения, непререкаемым авторитетом, очевидностью, неоспоримостью.
Конечно, в потоке высказываний и исследований о махалле появляются работы, из которых мы узнаем, что махалля — это не только и не столько некая форма локальных отношений, сколько результат длительных интервенций внешних сил в эти локальные отношения, совершаемых под лозунгами советской демократизации или национального возрождения. Некоторые исследования показывают, что и в Российской империи, и в советское время, и особенно в нынешнюю постсоветскую эпоху махалля неоднократно конструировалась и реконструировалась, местные социальные сети, практики и идентичности (способы самоописания) подвергались интенсивному воздействию извне — прежде всего со стороны государства679. Это заставляет увидеть в существующем языке описания махалли как феномена, вписанного в традицию и существующего в форме общины, элемент такого рода интервенции, идеологическую конструкцию, оказывавшую, в свою очередь, влияние на те формы, в которых махалли, а точнее разнообразные локальные сети и практики, существовали и существуют ныне.
Возвращаясь к статье Лью и Сулайманова, хочу обратить внимание на то, что их критика языка описания махалли ограничивается лишь методологией. Они отказываются от схематизма и автоматизма, подразумеваемых при отсылке к унифицированной традиции, и предлагают рассматривать махаллю как совокупность всех отношений, имеющихся в локальной среде, отношений динамичных, реагирующих на различные изменения, но при этом устойчивых. Однако вопрос о том, что отсылка к традиции используется государством для встраивания махаллинских связей в административные и идеологические рамки, ими никак не затрагивается. В их картине движения людей, информации и денег — которые сами по себе образуют некие плотные пространства, где, согласно Фуко, действует власть взаимной «видимости, слышимости и знания», — отсутствует власть насилия, власть внешнего взгляда, который стремится все узнать и упорядочить, власть государственной классификации и категоризации, власть как некая точка, откуда исходят импульсы реформирования.
Такое игнорирование роли государства — колониального, модернистского или национального — приводит к тому, что Лью и Сулайманов воспринимают некоторые особенности махаллинской жизни в качестве некой общей данности, не учитывая конкретных исторических обстоятельств их формирования и конкретных современных рамок существования, различных, допустим, в Узбекистане, где государственные институции проявляют настойчивое внимание к махалле, и в Таджикистане или Кыргызстане (в том же Оше, который изучали Лью и Сулайманов), где, несмотря на наличие аналогичных бытовых практик среди издревле оседлого населения, власть мало интересуется махаллей и во многом предоставляет ее самой себе. В этом, кстати, тоже проявляется эссенциалистский взгляд на общество, которого авторы вроде бы стремятся избежать.
Одной из таких заранее заданных особенностей у Лью и Сулайманова является территориальность махалли, ее некоторая изолированность и замкнутость в рамках определенного физического пространства680. Хотя метафора движения не должна была бы заострять внимание на границах, авторы тем не менее создают их, вводя понятие пространственной «плотности» циркуляций и привязывая ее к определенной территории.
Я не отрицаю, конечно, того, что между социальным пространством и пространством физическим существует определенная гомология и что той или иной конфигурации социальных сетей часто соответствует определенным образом организованная территория681. Однако было бы ошибкой рассматривать локальные практики и локальные идентичности исключительно сквозь призму физического пространства. На мой взгляд, различные практики и идентичности представляют собой кластеры отношений, которые имеют свою собственную — и территориальную тоже — конфигурацию, накладываясь друг на друга, иногда почти совмещаясь и производя впечатление нераздельных и взаимозависимых, или же существуя параллельно, не пересекаясь и не взаимодействуя. Все вместе эти кластеры создают сложный (и для чужака довольно запутанный) лабиринт путей, движений, потоков, возможностей и ограничений. Территория или территориальность возникает здесь не как условие, а скорее как результат взаимного наложения подобного рода отношений. В такой перспективе легче увидеть и те внешние воздействия, которые испытывает на себе локальное сообщество, и те изменения, которые вызваны этими воздействиями, и те варианты социальных стратегий и интерпретаций, которые в итоге формируются. Именно об этом пойдет речь в настоящем очерке, который посвящен ошобинской махалле.
Махалля в Ошобе
Махалля-туй
О прошлом махаллей в Ошобе известно немного. Таджикский этнограф Н. О. Турсунов в книге «Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начала XX вв.» писал следующее682:
Ошоба состояла из восьми жилых кварталов: Бутка махалля, Кичкина Бутка, Урта, Кичкина Урта, Катта кутан, Кичкина Кутан, Катта курган и Кичик курган (перечислены по течению сая, сверху вниз). В последнем, на высоком месте, находилось укрепление, в котором раньше жило население683 <…> Население названных кварталов по этническому составу объединялось в три прихода. Вначале четыре семейно-родовые подразделения узбеков-«каракитайцев» создали четыре жилые квартала: Ниязмухамед — Бутку, Элкунди — Урта-махалля, Малай-мерган — Кутан, Мирфайзи — Курган. По мере роста населения каждый квартал разделился на две части.
Если проигнорировать непонятную фразу о трех «приходах», формировавшихся «по этническому составу», то эта версия вполне соответствует тому, что я услышал в Ошобе спустя примерно тридцать лет684. Мои информанты также говорили, что первоначально кишлак состоял из четырех махаллей, каждая из которых представляла собой группу близких родственников. Правда, между моей версией и турсуновской есть различия: мои информанты подчеркивали, что отправной точкой для отделения махаллей друг от друга было разное родство по материнской/женской линии — первые ошобинцы брали жен из разных кишлаков, и потомки таких брачных союзов выделялись в самостоятельные сообщества.
В процитированном тексте обращает на себя внимание, что Турсунов локализовал махалли в определенных частях Ошобы и даже назвал их жилыми кварталами. Названия махаллей, которые автор перечислил, также явно указывают на некий географический ориентир: ўрта означает «средний» (или центральный), ўтон — огороженное место, где держат скот, ўрон — большой двор с высокими стенами. В последнем случае речь идет о вполне конкретном кургане — небольшой крепости со сложенными из камня стенами, которая располагалась чуть ниже нынешнего центра кишлака (на этом месте сейчас находится комбинат по изготовлению ковров и паласов, хотя сохранились еще следы старой каменной кладки). Все местные предания связывают с этим курганом основание Ошобы, и даже основной канал-арык (ари), выведенный из Ошоба-сая и орошающий бльшую часть участков, называется «курган-арык». Значение четвертого названия, бўта, — «каша», но слово имеет также дополнительный смысл: «беспорядочный» (еще одно значение этого слова — «топь, болото»), что, возможно, указывало на беспорядочное, неорганизованное расположение домов и участков.
Позже каждая из первых четырех махаллей разделилась на две новых, которые сохранили в своем названии имя прежней махалли и добавили к ней прилагательное «большая» (катта) или «маленькая» (кичкина, кичик), указывающее, видимо, на численность ее членов685.
Вот тот примерный набор исходных данных о махаллях Ошобы, который был известен мне к началу исследования. Несмотря на скудность информации, в целом она вписывалась в те схемы и те описания махалли как жилого квартала, небольшой территориальной части города или большого селения, соседской общины, которые господствовали и, собственно, продолжают господствовать в научном и околонаучном воображении. В мою поездку в Ошобу в 1995 году вопрос о махалле был одним из первых, которые я начал изучать. При этом я не сразу понял, что имею дело с ситуацией, противоречащей всему, что я когда-либо читал о махалле, и в том числе тому, что писал Турсунов.
Прежде всего я столкнулся в кишлаке с тем, что прежние названия махаллей, упомянутые у Турсунова и встреченные мной также в старых архивных документах, практически перестали употребляться в повседневной жизни, особенно среди людей среднего и молодого возраста, — махалли в кишлаке именовались совсем по-другому (табл. 1). С некоторыми усилиями, опрашивая стариков, которые еще помнили старые названия, хотя и путали их, мне удалось идентифицировать сегодняшние названия со старыми. Причем оказалось, что указания на территориальное расположение махаллей, которые содержались в их прежних названиях, были забыты; новые названия образовывались от имен или прозвищ людей — тех, кто в недавнем прошлом на протяжении многих лет обслуживал особые ритуальные пиршества — катта-тўй, или маалла-тўй. Эти новые названия не оставались фиксированными, а имели иногда варианты, которые употреблялись в зависимости от того, чье имя в памяти говорящего запечатлелось более отчетливо.
Таблица 1
Старые и новые названия махаллей в Ошобе
1 Юсуп-раис Юлдашев (см. Очерки 4 и 5).
2 Махсумова — это имя включает в себя титул «махсум» (см. Очерк 8) и уважительное обращение «ова» (местное произношение слова «бува», то есть дедушка).
3 Джинни (жинни) означает «сумасшедший». Существует множество версий, почему Абдуваххобу было дано такое прозвище. По одной из них, оно перешло к нему от отца — Эшмата, который занимал административные должности, решал споры соседей между собой и собирал налоги в разных кишлаках (возможно, речь идет об Эшмате-мингбаши, о котором я писал в Очерке 3).
4 Рахим славился своими победами над разбойниками, а свое прозвище (буквально «кривой») он получил за свою кривую шею.
5 Думабай Олимов, сын Мирзаолим-аксакала (см. Очерк 3).
6 Хальпа — богобоязненный человек, близкий сподвижник ишана (см. Очерк 8).
7 Егчи (ечи) — раздатчик сливочного масла.
8 Дуппириш, дуппифуруш — продавец тюбетеек.
9 Ошвоки (ошбаир) — громко говорящий, прозвище Назара Турсунова, который многие годы работал мирабом и исполнял обязанности туйбаши, именно в беседе с ним я услышал все старые названия махаллей в правильном виде.
10 Кози-раис Гоибов (см. Очерки 2 и 4).
11 Одина-аксакал (см. Очерки 2, 3 и 4).
12 Джурабай Султанов (см. Очерк 2).
Смена названий махаллей была связана, как я постепенно выяснил, с изменениями в понимании самого термина «махалля». Этот термин стал употребляться в Ошобе не для обозначения какой-то определенной территории, а для описания сети отношений между людьми, участвовавшими в упомянутом ритуале катта-туй, который устраивал каждый из мужчин в махалле. Теперь члены одной и той же махалли могли проживать на разных улицах кишлака, в разных его частях, а близкие соседи, наоборот, могли принадлежать к разным махаллям. Более того, членами махалли оставались все, кто уехал из Ошобы и постоянно жил за ее пределами — как в ближайших выселках, так и в отдаленных селениях и даже городах. Право/обязанность участия в ритуале (и, соответственно, членство в махалле) наследовалось по мужской линии, о случаях перехода из одной махалли в другую я ни разу не слышал. Принадлежность к махалле была связана с понятием долга или обязанности (арз), которую ее члены имели друг перед другом. Чтобы объяснить это понятие, расскажу, что представлял собой ритуал катта-туй и чему он был посвящен.
Каждый взрослый и женатый мужчина должен был, как гласили местные обычаи, организовать один раз в своей жизни пиршество для своей махалли, пригласить всех мужчин махалли к себе, угостить их пловом и раздать угощение им домой. Таково главное условие долга. В принципе бывали редкие случаи, когда житель Ошобы по своему желанию и, видимо, для создания более широкой сети личных отношений устраивал катта-туй не только для своей, но и для других махаллей. Так поступил, например, Султанназар-нонвой, который устроил пир для двух махаллей (точных мотивов его поступка я не знаю) — Ваххоб-джинни-махалли, к которой он принадлежал, и Дума-махалли686. Правда, ритуал по отношению к неродной махалле имел сокращенный вариант — ограничивался только угощением пловом и не включал раздачу угощения домой; соответственно, проведение туя для чужой махалли не означало возникновения долга и того, что сам Султанназар и его дети становились отныне членами этой другой махалли.
Катта-туй не связан напрямую с каким-то конкретным событием в жизни человека. Правда, в прошлом было иначе. Пожилые люди иногда называли этот ритуал ўил-тўй (пиршество в честь сына), что указывает на его происхождение от празднества по случаю обрезания мальчика687. Видимо, еще в первой половине XX века эта связь была для жителей Ошобы довольно ясной, но в 1920—1940-е годы, когда население испытывало большие экономические трудности, обязательное обрезание (чупрон) начали проводить с гораздо более скромными торжествами, при участии только ближайших родственников, а дорогостоящее коллективное пиршество для махалли откладывали — из-за недостатка средств. В результате эти два ритуала совершенно отделились друг от друга и стали существовать порознь — так, в частности, в организации катта-туя уже не принимали участия родители и родственники матери ребенка, а ведь это один из обязательных элементов пиршества по случаю обрезания.
В 1990-е годы, когда я жил в Ошобе, люди среднего и молодого возраста уже не осознавали, что катта-туй должен быть как-то связан именно с обрезанием. Однако большинство моих собеседников говорили, что ритуал можно провести только после рождения первого сына, причем отмечался н сам факт его рождения, а вступление отца мальчика в статус настоящего мужчины, и поэтому не нужно было устраивать нового угощения по случаю рождения других сыновей — долгом считался лишь один катта-туй688. Не было и строгой привязки времени проведения туя к моменту рождения или к какому-то году после него (пиршество по случаю обрезания обычно проводится на третий, пятый или седьмой год жизни ребенка), хотя считалось желательным, чтобы ритуал прошел до свадьбы первого сына. Если в семье рождались только девочки, их отец вставал перед выбором: он мог организовать обычный катта-туй, сославшись на то, что важно выполнение долга в статусе отца, а не пол ребенка; он мог добавить этому мероприятию легитимности, совместив проведение катта-туя со свадебными обрядами, когда выдавал дочь замуж. Аргументация, объясняющая повод для проведения катта-туя, не являлась строго нормированной и варьировалась в зависимости от обстоятельств. Но в любом случае этот долг был обязательным, и нарушение его, например задержка с проведением катта-туя, вызывало осуждение окружающих, а характеристика «он не делал туя» считалась негативной и обидной.
Еще одна интересная особенность этого долга, или морального обязательства, заключалась в том, что его можно было наследовать689. Мой информант К. (из Катта-Кутон-махалли) рассказывал, что первый свой катта-туй он организовал в 1951 году и сделал его в счет своего отца, который умер, не успев при жизни провести этот ритуал, а спустя всего лишь два года К. вновь собрал махаллю на угощение — уже по поводу рождения своего первого сына, то есть второй ритуал был исполнением его собственного долга.
Организация туя
Чтобы понять, каким образом возникал долг, надо обратиться к тому, как катта-туй проводился.
Сезон проведения катта-туя начинался в феврале и продолжался в марте и частично апреле, в этот период сельскохозяйственные работы еще не набирали полную силу и у ошобинцев оставалось много свободного времени для общения и развлечений. В один сезон в одной махалле могли организовывать, в зависимости от количества ее членов, один-два десятка туев, то есть один или два туя в неделю.
Перед самым первым в сезоне пиршеством собирался совет (маслаат-оши, буквально «совещательное угощение»), на котором махаллинские активисты при участии стариков, придававших своим присутствием собранию необходимый авторитет, назначали очередность проведения заявленных катта-туев, определяли число членов махалли и количество необходимых продуктов, которое каждый заявитель должен был предоставить, и выбирали тех людей (хизматчи), которые будут обслуживать пиршество. Совет — это важный этап, когда махаллинское сообщество после многомесячного периода затишья возобновляло свою деятельность и свои связи и даже в некотором смысле формировалось заново, когда внутри махалли определялись изменившиеся или оставшиеся прежними иерархии и авторитеты, утверждались те или иные нововведения в ритуальную процедуру. На такие собрания нередко специально приходили представители административной власти, которые рассказывали собравшимся о своих инициативах и решениях по самым разным вопросам жизни кишлака. В прошлом такие собрания, видимо, использовались для подсчета населения и проведения выборов пятидесятников.
Все основные решения совета касались организации общемахаллинской трапезы, которая, собственно говоря, и составляет суть самого ритуала.
Центральным блюдом трапезы являлся плов (палов, также часто употребляют слово ош, то есть еда) (Илл. 23). Надо сказать, что на катта-туях в Ошобе готовили плов, не совсем характерный для Ферганской долины: сначала в большой котел-казан (озон) клали 20 кг топленого масла (е), разогревали его, потом туда же добавляли немного мяса, 1,5–2 мешка моркови, 3–4 кг лука, обжаривали всю эту смесь, после чего наливали воду и клали до 70 кг риса; когда вода выкипала, казан накрывали куском ткани и держали так, пока плов доходил на маленьком огне, после чего посередине рисовой массы делали углубление, через которое из котла вычерпывали масло, сливая его в отдельный котел. Полученное кушанье затем раскладывалось по большим керамическим блюдам (тоора): сначала наливали масло, потом выкладывали сам плов и сверху — кусок мяса, сваренного в отдельном котле. Вместе с пловом подавали также лепешки и чай690. Топленое масло в данном случае — это ошобинская изюминка, поскольку обычно в соседних кишлаках большой плов делают на растительном (как правило, хлопковом) масле и никакой специальной процедуры разливания его по тарелкам не производят691.
В зависимости от числа членов махалли, которое определялось на совете, хозяину предлагалось закупить все необходимые продукты для приготовления угощения. А.С. из Кичкина-Бутка-махалли делал катта-туй в 1989 году и истратил 300 кг риса, 12 мешков муки, 400 кг моркови, 50–60 литров сливочного масла, зарезал одного бычка (новвос), не считая издержек на отдельное угощение для знакомых и родственников. М. из Катта-Кутон-махалли в 1977 году потратил на угощение до 300 кг риса и приготовил около 3 тыс. лепешек692, из них примерно 2,5 тыс. он раздал членам своей махалли — на 400 семей (при этом, по его словам, в махалле было 250 глав семей, не считая женатых мужчин, которые жили с родителями). Н. из Катта-Курган-махалли делал туй в начале 1980-х годов, и ему пришлось потратить более 300 кг риса, около 80 литров топленого масла, 16 мешков муки (3,6 тыс. лепешек), 4 мешка моркови (280 кг) и зарезать быка — судя по числу лепешек, в этой махалле было около 500 семей. Махалли Катта-Кутон и Катта-Курган считались в Ошобе самыми большими.
Илл. 23. Приготовление плова на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
На совете определялся также набор предметов, которые необходимы для организации угощения. В перечень входили большие котлы (катта-озон, маалла-озон) для приготовления плова, маленькие — для топления масла, несколько десятков — от 60 до 200 — больших блюд, куда раскладывают угощение, самовар для заварки чая, пиалы, чайники, скатерти-дастарханы (дастурхон), столы, скамейки и прочее. Обычно у каждой махалли все это имелось — предметы хранились в доме, где в последний раз проводился туй. Участники совета проверяли, все ли в пригодном состоянии и не нужно ли что-то добавить или заменить.
Любопытно происхождение вышеназванных ритуальных вещей. Какие-то из них приобретались на колхозные средства в 1930– 1950-е годы и находились на балансе колхоза. Некоторые предметы тот или иной член махалли приобретал на свои деньги и затем передавал в общее пользование: по рассказу упомянутого К., в 1951 году, готовясь к своему первому катта-тую, он купил два новых алюминиевых котла и передал их в распоряжение своей махалли693. В 1970—1980-е годы многие предметы, необходимые для организации ритуала, покупались уже вскладчину — с каждой семьи собирали для этого деньги. Такие разные биографии вещей указывают на то, как поддерживались махаллинские отношения в разные периоды: какое-то время их субсидировал колхоз, потом — зажиточные и влиятельные ошобинцы, и наконец возобладал принцип эгалитарного принуждения.
Как я уже упоминал, на совете выбирались люди, которые отвечали за организацию катта-туев, — хизматчи, или служители. Их могло быть, самое большее, шесть человек: один готовил основное угощение — плов, другой его раздавал, третий разливал масло, четвертый раздавал хлеб, пятый резал животных и раздавал мясо, шестой созывал гостей (Илл. 24). Часто несколько функций выполнял один служитель: например, глашатай резал бычка и раздавал мясо694 или один и тот же человек раздавал плов и хлеб. Одного из этих хизматчи — нередко того, кто раздавл плов, — назначали главным (тўйбаши). Кроме них, остальных помощников — тех, кто выполнял различную подсобную работу, — хозяин мероприятия выбирал сам из числа своих друзей и родственников. При этом он не имел права вмешиваться в порядок работы хизматчи, назначенных на махаллинском совете, не мог указывать, кому из них что делать, даже не мог брать и самостоятельно распределять продукты.
В советское время за выполнение своих обязанностей служители получали от устроителя катта-туя символические подарки — халат (тўн), летний легкий халат (яктак) и поясной платок (белбо). За сезон каждый из них собирал по нескольку таких халатов, рубах и платков, но все эти подарки не имели потребительской стоимости, то есть их не надевали и не носили (даже не подбирали размеров), их нельзя было рассматривать как доход, чаще всего эти предметы одежды использовали в том же качестве — перекладывали в новый узелок и дарили кому-нибудь еще по какому-нибудь другому ритуальному поводу, которых в кишлаке всегда было очень много. В середине 1990-х годов в Ошобе обсуждался вопрос о замене подарков на денежный эквивалент — называли сумму 15 тыс. рублей (около 3 долларов США), но и это вряд ли можно было назвать большим доходом. Работа на катта-туе считалась скорее общественной обязанностью, чем способом заработать. Раньше ее рассматривали как почетную, поэтому, в частности, среди туйбаши многие прежде занимали должности председателя сельсовета, председателя колхоза, бригадира, мираба или пятидесятника.
Илл. 24. Приготовление мяса для угощения в Янги-кишлаке, 1995 г.
Совсем не случайно махалли Ошобы стали называть по именам тех или иных хизматчи. Ритуальный служитель должен был иметь репутацию человека, который ставит интересы сообщества выше личных интересов. В момент раздачи плова, мяса, масла и хлеба на этих людей возлагалась большая ответственность, так как, исполняя данные функции, они обязаны были строго придерживаться принципа равенства всех членов махалли (некоторое неравенство в угощении — чуть больше плова, чуть больше мяса — допускалось только в отношении гостей преклонного возраста либо имеющих религиозный или другой общепризнанно высокий социальный статус). Служителям запрещалось выделять, например, собственных друзей или родственников, так как это грозило бы вызвать недовольства и конфликты. Кроме того, участие в обслуживании ритуала являлось своего рода демонстрацией тех знаний о местном сообществе, которыми обладали хизматчи. Туйбаши должен был быть настоящим хранителем генеалогической и биографической информации — он знал всех жителей селения (в частности, своей махалли), их возраст, социальные и родственные связи, ведь от этого зависели процедура раздачи угощения, порядок рассаживания и прочее, и ему нельзя было перепутать статусы, кого-то обидеть. Туйбаши должен был также выступать в роли эксперта по самой ритуальной процедуре, быть ее хранителем, а если надо — и реформатором. Кстати, не у всех это получалось и некоторых туйбаши заменяли на более подходящую кандидатуру. Считалось, однако, что если человеку прежде довелось занимать какую-то важную должность и социальную позицию, то он уже имел необходимые знания и навыки для выполнения ритуальных обязанностей, поэтому многие бывшие чиновники в пожилом возрасте охотно конвертировали приобретенный социальный капитал в символическую роль обладателя ритуальной власти на катта-туе.
Угощение и дары
Катта-туй проводился в течение трех дней: один день — подготовительный и два — собственно пир, на который собиралась махалля.
В подготовительный день утром в доме устроителя пиршества организовывался завтрак для ближайших соседей и родственников. Днем устраивалось чтение Корана (хатми-уръон), на которое приходили старики и мулла, не обязательно принадлежавшие к той же махалле, что и хозяин дома. Это единственный религиозный элемент в ритуале, когда читались молитвы и акцентировалась мусульманская идентичность. Для присутствующих готовили отдельный плов и резали овцу или козла — этим занимались люди, приглашенные устроителем туя. В этот же день во дворе дома устанавливали два-три больших котла и несколько маленьких, а также резали бычка — в прошлом (до середины прошлого века), как утверждают местные жители, чаще для этой цели использовали лошадь, богатые же люди могли позволить себе и верблюда. Вечером в дом собирались юноши и мужчины среднего возраста, чтобы нарезать морковь для общего плова. Это хозяйственное в общем-то мероприятие сопровождалось отдельным угощением (супом на мясном бульоне), и, как говорили информанты, всю ночь присутствовавшие пили водку и веселились.
На второй день утром глашатай созывал членов махалли — только мужчин — на катта-туй. Так делали лишь во время проведения первого пиршества в сезоне — о дате и месте проведения следующего объявлялось заранее, на проходящем туе. В полдень члены махалли собирались и рассаживались по своим местам, которые определял им туйбаши. Если на улице было прохладно, то сотни гостей размещались в доме хозяина и в домах его соседей. Они сидели, беседовали, пили чай, пришедшим разносили лепешки и сливочное масло — это называлось нонушта, то есть завтрак. Примерно через час раздавали плов — одно блюдо-тоора подавали на четырех человек695. В большинстве махаллей перед пловом угощали еще и супом (шўрва), но в некоторых махаллях (например, в Ошвоки-махалле) подавали только плов. Пиршество длилось еще около часа, во время которого гости продолжали вести разговоры, обсуждать новости и дела в кишлаке, после чего, прочитав краткую молитву и пожелав устроителю ритуала всяческих благ в будущем, махалля расходилась (Илл. 25).
Третий день катта-туя повторял второй — днем мужчины снова собирались на плов. Но в этот день происходило еще одно важное событие — раздача угощения членам махалли на дом, за ним посылали женщин или детей (Илл. 26). В прошлом на катта-туе каждой семейной паре, принадлежащей к махалле, давали набор из пяти лепешек, полукилограммового куска отварного мяса и тарелки с совута696. В начале 1980-х годов (по другой версии — на два десятилетия раньше) раздачу мяса отменили и гостям стали выдавать по шесть лепешек (до этого шестым считался кусок мяса — на праздниках обязательно должно было фигурировать четное число подношений). Такую замену объясняли тем, что число членов в махаллях значительно выросло (в результате общего демографического роста) и приходилось резать слишком много скота, чтобы обеспечить всех мясом697.
Кроме семейных пар лепешки получали также связанные с махаллей одинокие люди — вдовые или разведенные (как мужчины, так и женщины), что являлось своеобразной формой социальной помощи. Лепешки относили и тем из членов махалли, кто держал траур или был болен, поэтому не мог присутствовать на пиршестве. Любопытно, что те члены махалли, которые постоянно жили за пределами Ошобы и фактически не принимали участия в катта-туях, тоже имели право на эти лепешки — обычно они доставались их близким родственникам, которые приходили на ритуал. Это право вытекало из того, что уехавшие либо когда-то проводили свой катта-туй в Ошобе, либо собирались здесь его провести.
Илл. 25. Махалля-туй в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 26. Женщины на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
Угощение, которое забирали домой, — шесть лепешек — считалось важным символом взаимных связей и обязательств внутри махалли. Именно об этом в первую очередь говорили мои собеседники, объясняя, в чем заключается долг перед махаллей. Принять эти лепешки означало признать себя должным вернуть шесть таких же лепешек и тем самым вступить в круговорот непрекращающихся дарообменов. Ответный дар в этом случае заключался в обязательстве организовать аналогичный махалля-туй и раздать всем членам махалли то же набор продуктов.
В прошлом лепешки (раньше и мясо), полученные на катта-туе, и еженедельные угощения пловом в течение двух месяцев на исходе зимы и ранней весной могли составить существенную часть рациона питания для ошобинцев, то есть получается, что устроители ритуала — а это 10–15 семей за сезон в одной махалле — кормили остальные 100–200 семей. Ритуал, таким образом, выполнял функцию перераспределения материальных ресурсов между членами сообщества, чаще всего от состоятельных к более бедным. Однако во второй половине прошлого столетия, и особенно в 1970—1980-е годы, перераспределительная функция катта-туя заметно ослабла. В это время местное население получало довольно приличные доходы (считая домашнее хозяйство и официальную работу698), дефицита основных продуктов не было и питание семей, за редкими исключениями, не слишком зависело от махаллинских угощений. Долг перед махаллей перестал восприниматься как взаимопомощь и превратился в большей степени в способ легитимации социальных статусов и социальных связей.
За кулисами махалли
Затраты на угощение стали скорее социальным обменом, нежели материальным, и иногда даже напоминали излюбленный этнографический пример — индейский потлач, то есть щедрую раздачу (или уничтожение) ресурсов в обмен на уважение и признание своего социального статуса. Подобный смысл любых ритуальных даров отметил еще французский социолог Марсель Мосс699. Применительно к Средней Азии первой об этом написала советский этнограф Ольга Сухарева700.
Во второй половине XX века социальные связи внутри махалли постепенно теряли свою практическую значимость. Члены одной махалли, живущие в разных частях селения, а порой и в разных селениях, за рамками ритуала могли очень мало взаимодействовать, даже редко встречаться и не иметь никаких общих интересов. Кроме долга в шесть лепешек с катта-туя их могло ничего больше и не связывать. Ценность таких отношений для повседневной жизни девальвировалась, но ритуал, скрепляющий в момент его проведения людей в единое сообщество, тем не менее сохранялся и был важен для жителей кишлака.
Как говорили мне многие ошобинцы, старые махалли стали исчезать уже в 1960-е годы: до того все члены махалли обязательно приходили на совместные пиршества и чужих на них не пускали, теперь же на катта-туях присутствовали в основном родственники, друзья, сослуживцы и соседи устроителя ритуала, а многие члены махалли, наоборот, перестали на них бывать, и лишь дети или женщины приходили, чтобы забрать положенные лепешки — пресловутый долг701. Обязательный ритуал превратился в публичную арену, и за ее кулисами формировались и поддерживались совсем другие связи, реальные социальные и материальные интересы сместились на окраины этого социального пространства, в сопутствующие катта-тую мероприятия, в которых принимали участие в основном родственники и близкие знакомые устроителя ритуала и в которых махалля как таковая потеряла свое значение, оставшись лишь легитимным поводом для пиршества и его символом.
В прошлом, надо сказать, роль родственников и близких знакомых в махаллинской сети отношений особо не выделялась — это был один и тот же круг людей, с которыми приходилось каждый день и по самым разным поводам общаться. Все их действия были регламентированы обычаем: в частности, родственники и близкие знакомые помогали устраивать катта-туй, участвовали в его подготовке, на ритуал они приходили с гостинцами (конфеты, чай) и какими-нибудь небольшими подарками, взамен получали по окончании праздника яктак и белбо, иногда — за дорогой подарок — тўн. Раньше женщины на все катта-туи приносили завернутые в дастархан 4–6—8 своих лепешек (число должно было быть четным), отрез какой-нибудь ткани и маленький подарок вроде зеркала или чайника с пиалой, взамен им потом вручали ответные дастарханы с двумя лепешками, сладостями и отрезом ткани того же сорта, но другой расцветки. На рубеже 1980—1990-х годов этот обмен подарками был сокращен: мужчинам перестали вручать рубахи и поясные платки, а женщины перестали дарить друг другу ткани.
Главное изменение последних десятилетий заключалось в том, что в силу демографического роста и дифференциации деятельности ошобинского населения родственные и приятельские связи вышли за рамки махалли, а значит, более или менее строгая их регламентация, в том числе и в ритуальной сфере, во многом перестала действовать. Тогда-то и возникла сложная игра разнообразных социальных статусов и ролей, которые нужно было подтверждать размерами и щедростью подарков и отдарков — в том виде, как их описывал Мосс. В пик относительного благополучия в качестве подарка могли дать деньги, какую-нибудь мебель или барана — все это запоминалось, нередко даже записывалось в специальную тетрадку, и при ближайшей возможности следовал ответный подарок примерно той же стоимости или чуть больше. Причем необязательно было ждать следующего катта-туя, чтобы совершить новый виток обмена, — пространство закулисных отношений включало и другие ритуалы, например свадебные, организация которых никак не была связана с махаллей.
Все подобные обмены и отношения, как я уже сказал, существовали на окраинах махаллинского круга. Я имею в виду, что они не были связаны с ритуалом приглашения, угощения и одаривания членов махалли. Принимать и угощать 300–500 человек два дня подряд в течение двух часов — такие сети отношений в определенной степени обезличились и унифицировались. Для всех важнее стало то, какие связи возникали в процессе подготовки ритуала, чт происходило параллельно с основным угощением — в отдельных комнатах, где собирались родственники, друзья и коллеги. Можно сказать, что катта-туй в последние десятилетия превратился в повод для устройства неформальных встреч и угощений, в которых сама махалля как таковая уже не участвовала. Эти встречи не лимитировались строго по времени, на них кроме плова выставлялся более разнообразный набор блюд, в том числе спиртное, что делало такие собрания еще менее регламентированными. Кого приглашали или не приглашали, кто пришел или не пришел, кто что делал и с какой готовностью или не делал вовсе, кто что подарил или не подарил, кто в какой компании с кем сидел и о чем говорил и так далее — вот что действительно больше всего интересовало людей при проведении катта-туя с точки зрения местной политики социальных связей. И именно эти обстоятельства потом, после проведения ритуала, всеми его участниками бурно и долго обсуждались, именно они становились причиной размолвок или укрепления родственных и дружеских связей.
Кроме важных обменов устроители катта-туев организовывали параллельно с пиршеством разного рода развлекательные мероприятия — скачки на лошадях и/или концерты. На них приходили все желающие, включая женщин и детей, независимо от принадлежности к махалле. В этом случае затраты не были жестко стандартизированы, поэтому в зависимости от своего благосостояния каждый из жителей Ошобы мог демонстрировать односельчанам свои богатство и щедрость, приглашая популярных певцов и предлагая богатые подарки участникам состязаний. Между известными людьми начиналось иногда настоящее соревнование в расходах на такие мероприятия — наиболее дорогостоящие акции активно обсуждались и надолго запоминались жителям кишлака, становились предметом гордости и уважения, а значит, служили для подкрепления социального положения устроителя туя. Вслед за наиболее богатыми людьми тянулись и средние слои, за ними — и малообеспеченные, которые тоже стремились повысить свой статус с помощью сверхрасходов на организацию развлечений.
Махалля и государство
Трансформации махалли
В рутинной сельской жизни, допустим, начала XX века ритуал был едва ли не единственной ареной для общения людей, предоставляя им возможность публично демонстрировать и определят социальные статусы и иерархии, выстраивать и «отрабатывать» социальные сети. Это была едва ли не единственная арена для обсуждения насущных тем, вопросов и новостей, а также для аккумулирования значительных материальных ресурсов и их перераспределения, обмена на символический и социальный капиталы. Это была едва ли не единственная арена, где формировались моды, привычки, вкусы, где люди могли показать свои таланты, где возникали симпатии и антипатии. Повторяющиеся год за годом ритуалы не выделялись из повседневных отношений, а были их частью, даже в какой-то степени тем пространством, в котором эти отношения институционализировались, приобретали нормированный характер, выражались в виде представлений о долге.
Можно было бы сказать, что такая роль ритуала была связана с сельским, однообразным образом жизни, с изолированностью горного сообщества, со сравнительно небольшой численностью населения, где все друг друга знали, с отсутствием в этих условиях других социальных механизмов и институтов, других пространств для самореализации. Однако я предпочел бы не приписывать порядку организации катта-туев некий неизменный вид, будто бы укорененный в древних, чуть ли не первобытных традициях. Так, замкнутость и однообразие жизни в Ошобе усилились в конце XIX века, то есть, как это ни странно, после присоединения к России. До этого ошобинцы в поисках работы охотно поступали на военную службу к кокандскому хану, занимались торговлей и уходили учиться в города, что должно было способствовать формированию социальных сетей, выходящих за пределы кишлака702. Завоевание ханства и установление колониального управления привели к тому, что прежние социальные сети и статусы были во многом насильственно разрушены, возможности продвижения по чиновничьей или военной (популярной среди ошобинцев) карьерной лестнице сузились почти до нуля, найти дополнительный заработок за пределами кишлака стало труднее, многие местные жители вынуждены были расширять свои земельные наделы и стада, приспосабливая к такой экономической жизни все повседневные связи. Помощь родственников, соседей по кишлаку и членов махалли превратилась чуть ли не в единственный социальный ресурс.
Росту практической и символической значимости махаллинских отношений способствовала колониальная система военно-народного управления, которую Российская империя установила в регионе после присоединения Кокандского ханства703. Напомню, что народная часть данной системы включала, в частности, волостной съезд, который избирал волостного управителя, волостного судью и решал многие другие вопросы местной жизни. Состав депутатов волостного съезда формировался путем выборов в каждом сельском обществе, и количество депутатов зависело от численности населения — избирали по одному человеку от каждых пятидесяти домохозяйств. Соответственно депутатов стали называть пятидесятниками, или элликбаши. При этом, разумеется, российские чиновники лишь определяли общее число пятидесятников, но за самой процедурой выборов не следили, предоставляя населению право приспосабливать ее к своим обычаям. В 1881 году в Ошобе было 300 домохозяйств, значит, должно было избираться шесть депутатов. В 1890-е годы число домохозяйств в кишлаке перевалило за 400 и количество пятидесятников должно было увеличиться до восьми, но в документе 1899 года перечислялись имена только шести пятидесятников704, при этом там же говорилось о восьми кварталах кишлака. К 1917 году, судя по числу домохозяйств — более 500, должно было быть уже десять пятидесятников. Хотя количество депутатов не всегда соответствовало числу ошобинских махаллей, однако, по воспоминаниям самих ошобинцев, каждая махалля избирала своего элликбаши — возможно, некоторые из них не имели формального статуса.
Помимо избрания волостных управителей и решения других вопросов на уровне волости в обязанности элликбаши входила помощь сельскому старосте в организации сельских сходов, ведении учета населения и несении представительской функции — пятидесятники присутствовали при любом появлении в кишлаке вышестоящих чиновников. Кроме того, одной из самых главных их обязанностей было помогать старосте своевременно и в полном объеме собирать налоги, установленные колониальной властью. Особенность сбора налогов заключалась в том, что они основывались на принципе круговой поруки705. Сумма налога рассчитывалась в денежном виде на все сельское общество, за населением же (формально за сельским сходом) оставлялась возможность распределять ее выплату между домохозяйствами706. По рассказам пожилых ошобинцев, в «николаевские времена» пятидесятники могли прекратить подачу воды для всех жителей махалли в случае задолженности кого-то из ее членов по налогам. Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, но правдой, видимо, является тот факт, что круговая порука действовала и на уровне всего сельского общества (кишлака), и на уровне отдельных махаллей, где родственники выступали гарантами выплаты полной суммы.
Другое воспоминание, которое трудно проверить, относится к процессу сбора налогов. Один старик в Ошобе говорил мне, что какие-то деньги собирались с населения во время проведения туев, затем на часть их устраивали общее угощение (весеннее жертвоприношение-худойи у святого места Мозор-бува707), а оставшиеся средства отдавали государству. Очевидно, местные жители к процедуре сбора государственного налога добавляли какие-то местные практики, связанные, в частности, с разного рода ритуалами. Поэтому совсем не случайное совпадение то, что элликбаши, судя по другим воспоминаниям, одновременно выполняли роль руководителей и организаторов коллективных пиршеств — тех самых, которые к концу XX столетия сохранились в виде катта-туя, подробно описанного выше.
Вся эта система управления и сбора налогов в урезанном и полуофициальном виде еще сохранялась, по-видимому, в 1920—1930-е годы. Хотя формально никакой должности пятидесятника уже не существовало, председатель сельского совета (преемник старосты сельского общества) назначал — у него было такое право — своих уполномоченных, которые помогали ему собирать налоги, присутствовали при обмере земли и урожая, вели учет населения и так далее. Жители Ошобы даже не заметили разницы и называли их по-прежнему пятидесятниками. В районном архиве я работал, в частности, с похозяйственной книгой сельского совета Ошоба за 1935 год, в которой махаллинский принцип учета и организации ошобинского общества был представлен вполне наглядно: книга разделялась на восемь частей, каждая из которых относилась к определенной махалле, и сведения о домохозяйствах были занесены в книгу в зависимости от махаллинской принадлежности последних708. Таким образом, в 1930-е годы прежние махалли оставались в кишлаке своеобразной сеткой для учета населения и, видимо, сохраняли за собой некоторые хозяйственно-административные функции. Подобная практика, судя по всему, не регулировалась никаким официальным законодательством на уровне правительства, а использовалась местной властью по привычке и для удобства (Илл. 27).
После создания колхозов в середине 1930-х годов большинство хозяйственно-административных функций — помощь в сборе налогов, учет населения, представительство перед вышестоящими институтами — перешли к колхозным председателям и бригадирам709.
Илл. 27. Собрание жителей Ошобы (предположительно 1940-е гг.)
В литературе существует точка зрения, согласно которой колхозы и бригады в среднеазиатском обществе организовывались с учетом деления селений на махалли710. Действительно, такого рода факты отражены в многочисленных свидетельствах того времени по всей Средней Азии. Более того, местные чиновники, отвечавшие за коллективизацию, сами нередко предлагали использовать локальные сообщества как фундамент для социалистического переустройства деревни711. Однако такое мнение вовсе не было господствующим. Советский этнограф Николай Кисляков, который в начале 1930-х годов сам участвовал в колхозном строительстве в южном Таджикистане, оценивал подобного рода попытки отрицательно: «разделение труда и специализация отдельных членов семейной общины, в связи с вопросом учета трудодней и расстановкой сил в колхозе, <…> заставляют подойти индивидуально к каждому члену общины при приеме его в колхоз, а не рассматривать общину как некое целое <…> большая семейная община пережила самое себя настолько, что она не может уже служить фундаментом, на котором можно было бы построить общинное хозяйство нового типа — советский колхоз»712.
Возвращаясь к Ошобе, должен сказать, что созданные здесь колхозы и бригады не имели никакой формальной или неформальной привязки к прежним махаллям. Хотя за бригадирами на какое-то время закрепилось прозвище «элликбаши», это отражало лишь факт передачи большинства функций прежних депутатов колхозным чиновникам.
Разумеется, бригады и звенья в 1930-е и 1940-е годы стихийно формировались с учетом самых разнообразных отношений между людьми, в первую очередь семейных и родственных. Это было связано в том числе и с тем, что нередко несколько частных наделов, которыми владели потомки одного и того же человека, включались в поливные земли одного колхоза или даже одной бригады. Например, в колхоз «22-я годовщина» вошли наделы вокруг выселка Аксинджат, значительная часть которых принадлежала потомкам Исламбая — как по мужской, так и по женской линии713. Колхозники предпочитали возделывать свои прежние участки земли, которые они лучше знали и к которым испытывали хозяйскую привязанность.
Однако родственный принцип все же не был основным при создании колхозов и бригад. Периодические реорганизации структуры колхозов, освоение новых земель, стихийные и спланированные переселения людей из одного места в другое — все подобные изменения физического и социального пространства делали состав колхозов и бригад непостоянным, меняющимся.
Сами махалли тоже не оставались в замороженном состоянии. Они переживали одновременно два взаимосвязанных процесса. Первый, о котором я подробно говорил, — это дальнейшее превращение махалли из соседско-родственного сообщества в своеобразный сгусток персональных ритуальных взаимных обязательств, не имеющих четких территориальных очертаний и даже выходящих за рамки кишлака, а также утративших — из-за возросшего количества членов махалли — символику единого генеалогического прошлого. Вместе с этим махалля в Ошобе теряла какие бы то ни было хозяйственные и административные функции.
Второй процесс, в некотором смысле обратный первому, — переселение ошобинцев в новые поселки и выселки и образование новых махаллей, имеющих строгую приписку к новому месту жительства и создающихся именно как территориальные сообщества. Причем последние, в какой-то мере замкнутые в отдельном физическом пространстве, должны были помимо обеспечения ритуальных мероприятий решать и другие задачи, например поддерживать общую инфраструктуру — дороги, каналы и так далее.
В одном из предыдущих очерков я писал, что еще в начале XX века часть ошобинцев обосновалась в кишлаке Оби-Ашт, где они со временем образовали самостоятельное сообщество и прекратили ритуальные связи с махаллями Ошобы. В 1940—1950-е годы в самостоятельное сообщество выделилось селение Янги-кишлак (оно относилось к переселенному в орошенную часть аштской степи колхозу «22-я годовщина»714), его члены какое-то время придерживались тех же правил организации махалля-туев, которые были в Ошобе, но постепенно реформировали их, и в частности отказались от раздачи лепешек. В 1960-е годы отдельное сообщество организовали жители Оппона. Люди объясняли свой отказ от прежних махаллинских связей тем, что дальние расстояния не позволяли поддерживать постоянные контакты — это создавало слишком большие трудности и требовало дополнительных расходов. Плюс, конечно, постоянное проживание по соседству вызывало у этих переселенцев, прежде принадлежавших к разным махаллям, потребность в каких-то формах символического единства и ритуального взаимообмена, которые должны были помогать регулировать и регламентировать социальные связи и иерархии.
Политика и махалля в Узбекистане
Говоря о трансформации махалли и о роли советского и постсоветского государства в этом процессе, я хотел бы подчеркнуть те различия, которые существуют между двумя среднеазиатскими странами — Узбекистаном и Таджикистаном. В современной литературе внимание исследователей сосредоточено на том, чт представляет собой махалля в крупнейшей по населению стране региона, на территории которой находятся большие и наиболее древние города и в распоряжении которой — мощные экономические и пропагандистские ресурсы. Таджикистан же оказывается в тени, хотя сравнение двух государств и двух социальных политик могло бы показать разные траектории изменений в обществе, которое когда-то, относительно недавно, не было разделено по национальному признаку.
История государственной политики в отношении махаллей в Узбекистане началась вовсе не с 1991 года, когда была провозглашена независимость бывшей советской республики и объявлено о возвращении к национальным традициям715. Еще в 1923 году циркуляром Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Туркестанской автономной ССР были узаконены и наделены официальным статусом махаллинские комиссии и махаллинские уполномоченные в так называемых старых кварталах городов716. В их обязанности входили сбор налогов и недоимок, ведение учета жителей, решение текущих хозяйственных вопросов, наблюдение за порядком. Подчинялись комиссии напрямую милиции и городскому совету, а власть смотрела на них как на «вспомогательные аппараты административного порядка Гормилиции»717.
На более высоком политическом уровне этот институт получил официальное признание в положении «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах Узбекской ССР», принятом в 1932 году правительством Узбекской ССР. В нем комитеты объявлялись «подсобными общественными органами при горсоветах <…>, райсоветах в деле осуществления директив правительства и предпринимаемых ими <…> мероприятий, направленных как по линии выполнения общих решений правительства, так и по линии государственных и местных налогов и сборов, а равно по линии коммунального и культурного, социального и хозяйственного строительства города, а также мероприятий, направленных к развитию общественной самодеятельности, по охране общественного порядка и бытовому обслуживанию населения»718. Было предписано, что махаллинский комитет должен состоять из трех человек (председатель, заместитель и секретарь), которые избираются населением на общих собраниях; комитет не обладал правами юридического лица, но мог собирать «страховые взносы» на содержание помещения и секретаря, организовывать кустарные артели, прачечные, столовые. В целом эти права и обязанности были прописаны довольно широко и неопределенно — от «содействия в ремонте дорог» и «участия в сборе налогов» до «поднятия культурного уровня» населения и «борьбы с калымом». В 1941 году Совет народных комиссаров Узбекской ССР и в 1953 году Совет министров Узбекской ССР приняли новые редакции положения о махаллинских комитетах в городах, причем в последнем случае говорилось, что исполкомы местных советов недостаточно контролируют деятельность этих комитетов и поэтому последние еще «не стали организациями общественной самодеятельности населения».
Выполнявший роль постсоветского критика советской политики в Средней Азии публицист Л. Левитин, уоминая положение 1932 года, писал в своей книге об Узбекистане, что «советская власть, выступавшая против многих традиционных узбекских социальных структур, в борьбе с махалля вынуждена была отступить. Махалля оказалось этой власти не по зубам»719. В данном случае понятие махалли вольно или даже скорее невольно использовалось им как местный аналог понятий общины (community)720 или морального сообщества721, которые находятся в открытом или подспудном конфликте с колониальным государством. Однако я вижу другую картину: советская власть не боролась с махаллей, а, наоборот, оказывала ей всяческое внимание, давала легитимную основу, встраивала в общую структуру государственных институтов и наделяла государственными (называя их общественными) функциями, создавала махалли там, где их не было. Как пишут Виктория Коротеева и Екатерина Макарова, в результате такой политики возник «гибрид советских и традиционных локальных форм и практик», махалля была инкорпорирована в советскую систему и легализована в ней, хотя власть не пыталась вмешиваться во внутреннюю жизнь махалли, ограничиваясь идеологическим контролем722.
В 1961 году было принято очередное положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках, селах и аулах Узбекской ССР». Как и в прежних положениях, махаллинские комитеты объявлялись организациями общественной самодеятельности, цель которых заключалась в «оказании широкой помощи местным Советам и их исполкомам в успешном проведении мероприятий по хозяйственному и культурному строительству, всемерном развитии инициативы и самодеятельности населения»723; комитеты во главе с председателем и в количестве от 9 до 21 человека должны были избираться на общих собраниях сроком на год и могли иметь свою печать (издавна важный символ власти, который колониальная, а потом и советская бюрократия возвела на почетное место в своей системе), были вправе выдавать справки, но при этом, как специально оговаривалось в положении, не были полномочны наказывать, заниматься хозяйственно-финансовой деятельностью (содержать столовые, чайханы и парикмахерские — что специально уточнялось) и собирать налоги; в их задачи входило «содействовать», «организовывать», «заботиться», «наблюдать», «оказывать помощь». Положение было весьма осторожным и с массой идеологических предостережений и призывов — никакой конкретики в отношении того, чем должны и чем имеют право заниматься махаллинские комитеты, в нем не было.
Тем не менее в положении 1961 года было два важных новшества. Во-первых, оно утверждалось не правительством, а Верховным Советом Узбекской ССР, то есть не исполнительным, а законодательным органом, что формально придавало ему намного более высокий правовой статус. Во-вторых, и это я хотел бы подчеркнуть особо, действие нового положения распространялось не только на города, но и на сельскую местность.
В 1983 году Верховный Совет Узбекской ССР принял новое положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках и кишлаках Узбекской ССР», в котором махаллинские комитеты в очередной раз объявлялись «органами» общественной самодеятельности населения, обязанными «широко привлекать граждан к решению вопросов государственного и социально-культурного строительства, отнесенных к ведению местных Советов народных депутатов»724. Среди нововведений значились увеличение срока работы комитета до двух с половиной лет, уточнение процедуры выборов и расширение списка дел, которыми комитеты должны были заниматься, за исключением опять же финансово-хозяйственной деятельности, сделок купли-продажи, аренды, сдачи в наем квартир и сбора денег с населения. В начале 1980-х годов именно с принятием этого очередного варианта положения о махалле советская бюрократическая машина заработала в Узбекистане более интенсивно — в частности, во всех сельских советах в обязательном порядке были заново определены границы ответственности махаллинских комитетов, проведены выборы и назначены председатели, созданы комиссии, в том числе женская, появились отчеты об их работе.
После объявления в 1991 году государственной независимости Республики Узбекистан интерес власти к махалле, которая могла бы совмещать некоторые административные и идеологические функции, еще более усилился725. В принятой в 1992 году конституции махалля была впервые упомянута в разделе о самоуправлении726. В том же году был создан республиканский благотворительный фонд «Махалля», который должен был координировать работу махаллинских органов, собирать отчеты и разрабатывать нормативную базу для их деятельности. В 1993 году был принят закон о местном самоуправлении, который подробно регламентировал формирование таких институтов, как «сход граждан», «кенгаш (совет) схода», выборы/назначение председателя (аксакала), его советников и комиссий, наделял эти институты статусом юридического лица, правом иметь счета и вести хозяйственную, коммерческую и нотариальную деятельность, обязанностью распределять бюджетные деньги среди малоимущих и многодетных семей. Хотя в законе речь шла о том, что «органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти», в действительности вся их активность, задачи, отчетность были подчинены интересам государства и контролировались им. Об этом процессе «махалляизации» много написано727.
Процесс «махалляизации» был включен в идеологию национальной независимости, которая основывается на идее возвращения к историческим и национальным корням. Как пишет узбекский президент Ислам Каримов728,
Стройную систему органов местной власти невозможно представить без органов местного самоуправления граждан, основу которых составляют сходы граждан — махалля. Эти органы созданы на основе учета исторических традиций и менталитета народа, где значение махалли как важного общественного органа самоуправления всегда было очень велико. Махалля играет важную роль в воспитании добрососедства, уважения и гуманизма в отношениях между людьми. Она стоит на защите социальных интересов граждан, оказании конкретной помощи нуждающимся слоям населения. В то же время функции махалли в современных условиях должны быть наполнены новым содержанием. Речь идет о том, что махалля должна стать действенной поддержкой в осуществлении экономических и демократических преобразований.
В результате такого конструирования махалли на протяжении советского и особенно постсоветского периода сформировался, по сути, новый государственный институт со своей бюрократической иерархией чиновников, унифицированными административными функциями, строгой привязкой к определенной территории — и все это в мифологическо-идеологической упаковке национальной традиции.
Махалля в Таджикистане
То, что я писал в предыдущем разделе о политике по отношению к махалле в Узбекской ССР и независимом Узбекистане, непосредственно Ошобы, которая находится на территории Таджикистана, не касается. Однако сказать, что узбекские реформы вообще никак не затрагивали жизнь ошобинцев, нельзя, так как местные жители всегда были хорошо осведомлены о происходящем в соседней республике/государстве. Официальная пропаганда узбекских традиций, которая велась (и ведется) по его телевидению, доходила до ошобинцев напрямую — телевизионные антенны в Аштском районе принимали почти исключительно узбекские каналы. Кроме того, разнообразные личные контакты с родственниками и знакомыми из Узбекистана давали возможность получать дополнительную информацию обо всех изменениях в политической и административной практике в этой стране. Тем не менее Ошоба принадлежит к таджикскому государству, и именно это обстоятельство в первую очередь предопределяет ту роль, которую махалля играет в представлениях ошобинцев.
В Таджикской ССР, в отличие от Узбекистана, на протяжении всего советского времени интерес к махалле был артикулирован слабо. Какого-то единого объяснения этому факту нет. Возможно, сыграло свою роль малое число старинных городов, особенно на юге республики, и преобладание селений и поселков с аморфной внутренней структурой; проживая в построенной почти с нуля столице — Душанбе, таджикская власть могла сильно не задумываться о символическом и социальном значении старых кварталов и не волноваться по поводу того, как установить над ними милицейско-идеологический контроль. Возможно также, что в Душанбе увидели — махаллинская тема монополизирована в Узбекистане, и решили подчеркнуто закрыть на нее глаза, чтобы не вступать в споры с соседом. А возможно, у небольшой и небогатой республики просто не было подготовленных чиновников и избытка пропагандистской мощи, чтобы заниматься такими, в общем-то не самыми первостепенными, вопросами.
Лишь в начале 1980-х годов, вслед за очередным законом о местном самоуправлении, появилось правительственное постановление, в котором говорилось о создании органов общественного самоуправления — махаллинских советов в городах и кишлачных советов в сельской местности. При этом задачи таких органов и процедура их формирования не были прописаны достаточно отчетливо (как это было в узбекских положениях о махаллинских комитетах) — данные вопросы должны были решаться с помощью областных и районных инструкций, а нередко просто по согласованию и устной договоренности между чиновниками разного уровня. Тогда в сельсовете Ошоба было образовано семь кишлачных советов: Гудас, Мархамат, Олма, Оппон, Шевар и два совета в самой Ошобе; условную границу между последними проложили по центральной дороге, которая проходит через селение и делит его на две части. Я поставил бы слова «образовано» и «проложили» в кавычки, потому что в действительности это решение было сугубо формальным. Гудас и Оппон уже существовали как отдельные сообщества и жили по своим правилам — название «кишлачные советы» лишь зафиксировало это состояние. Новое селение Мархамат еще только начинало формироваться в самостоятельное сообщество, и его жители осваивали участки, проживая бльшую часть времени в Ошобе и сохраняя прежние махаллинские обязательства. Остальные же кишлачные советы возникли лишь на бумаге.
В 1991 году был принят закон «О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Таджикской ССР», согласно которому «органам территориального общественного самоуправления», включая «советы и комитеты микрорайонов, махаллинские, домовые и кишлачные комитеты, общественные формирования и объединения населения, собрания граждан» и «иные формы непосредственной демократии», разрешалось получить статус юридического лица и заниматься хозяйственной деятельностью под контролем местных советов729.
Принятие закона привело к попытке реформы самоуправления в Ошобе, несмотря на распад СССР и начинающуюся в Таджикистане гражданскую войну. В 1992 году было принято решение в очередной раз поделить сельсовет на мелкие территориальные единицы и вместо кишлачных советов назвать их махаллинскими комитетами. Таких комитетов было сформировано одиннадцать: Гудас, Олма, Шевар, два в Мархамате, два в Оппоне и четыре в Ошобе. Нарисованные сельсоветом махалли мало соотносились с действительностью. Реально ошобинцы, живущие в самой Ошобе, Олме и Шеваре, продолжали собираться на катта-туи по прежним правилам и ничего о новых махаллинских комитетах не знали. Жители Оппона и Мархамата, уже отделившись в собственные сообщества и проводя собственные ритуалы, оказались более восприимчивы к новшествам — здесь появились председатели махаллинских комитетов, которые взяли на себя, в частности, обязанности туйбаши. В Оппоне же и Мархамате руководству сельсовета удалось провести и еще одну реформу — отменить раздачу лепешек на туях, которая практиковалась в ошобинских махаллях. Эта перемена оказалась безболезненной, потому что сам факт выхода из старой махаллинской сети, которая держалась на понятии долга, уже означал отказ от лепешек как от его символа.
В 1994 году была принята конституция Республики Таджикистан, где не было ни слова о махалле, и в том же году появился закон «Об органах самоуправления в поселке и селе», где махалля упоминалась как составная часть основного органа самоуправления — джамоата (по сути, бывшего городского или сельского совета)730. Новый закон опять вызвал активность местной власти. Руководство сельсовета, точнее теперь уже «кишлак джамоати», совместно с руководством колхоза еще раз подтвердило свое решение о преобразовании старых махаллей в новые и о запрете на раздачу лепешек во время катта-туя. Три махалли — Мархамат, Нижний Оппон и Верхний Оппон — остались на своем месте. В 1995 году в самостоятельное сообщество выделился Шевар (вместе с выселком Гарвон), там был назначен председатель, а постоянные местные жители решили собираться на свои отдельные катта-туи и отказаться от обычая раздавать лепешки. При этом, конечно, те временные жители Шевара, которые переселялись на зиму в Ошобу, в новую махаллю не вошли, а остались в старых. На оставшейся территории было образовано шесть махаллей: одна в Олме и пять в Ошобе — Сой-кумчикари, Ошоба-пастки-кыбласи, От-чапор, Тош-тула, Джумбок, каждая из которых занимала часть кишлака (названия же отражали старые локальные наименования разных местечек Ошобы).
Во вновь созданных махаллях были определены свои председатели. В их числе были один врач, четыре колхозных бригадира, один заведующий колхозным участком, четыре учителя — то есть сплошь представители местной власти, исключение составил только один шофер, который заслужил эту почетную обязанность, потому что являлся сыном известного в прошлом в Ошобе муллы. Впрочем, по словам руководителя сельсовета, эти махаллинские комитеты никакой деятельности развернуть не успели. Как признался мне один из назначенных тогда махаллинских председателей, он сам узнал о своей новой должности только спустя несколько месяцев. В принципе он был бы не против ее занимать, но по его представлениям, махаллинскому комитету следовало наблюдать за порядком, контролировать распределение воды, состояние дорог и решать другие хозяйственные вопросы, а не заниматься исключительно туями. Председатель махалли видел себя чиновником и мечтал получить властные рычаги воздействия на людей, а также доступ к финансовым ресурсам — катта-туи в этот список приоритетов не попадали.
Одновременно с решением о реформировании махаллей сельсовет вновь принял указание прекратить практику раздачи хлеба после окончания туя, мотивируя это требование резко возросшей ценой на муку.
Мнения самих ошобинцев, с которыми я обсуждал данную тему, разделились. Учитель А. оценил нововведения как «уничтожение истории» Ошобы. Некоторые жители, похоже, впервые услышали от меня, что кишлак поделили на несколько новых махаллей. Один из них отреагировал словами: «Это хорошо, так как не надо будет далеко ходить на катта-туи и покупать дорогую муку», но при этом выразил сомнение, что такие изменения действительно произойдут, — «на них не согласятся старики». Чаще же все-таки была другая реакция: старые махалли не надо ликвидировать и не стоит запрещать раздачу лепешек, поскольку если человек собрался делать туй, то, значит, у него есть деньги, а кроме того, это экономия для других жителей Ошобы, которые за счет туев могут полтора-два месяца не печь свой хлеб и питаться только махаллинскими лепешками. В условиях экономического кризиса, который разразился в начале 1990-х годов, это был очень важный контраргумент, зеркально отражавший довод о необходимости сокращения расходов на муку. Часто встречалось мне и такое объяснение нежелания отказываться от раздачи хлеба: люди говорили, что если не исполнять этот обычай, то «дадут какое-нибудь обидное прозвище, скажут, что мы тебе давали лепешки, а ты нам не возвращаешь», то есть мои собеседники ссылались на тот самый долг, который они на себя приняли, участвуя в катта-туях, и который обязны были вернуть — в противном случае под вопрос ставились репутация и социальный статус человека.
На момент моего исследования в 1995 году вопрос о создании территориальных махаллей и реформе катта-туя в селениях Ошоба и Олма не был решен, а жители этих селений все еще придерживались прежнего деления на восемь экстерриториальных махаллей, к ним же причисляли себя и те ошобинцы, которые жили в Адрасмане, Табошаре и других горнорудных поселках. Правда, в тот год туи в Ошобе впервые за многие годы вообще не проводились. Причины назывались разные. Основная — серьезный экономический кризис, который резко подорвал семейные бюджеты и поставил под сомнение прежние социальные иерархии. Местным жителям не только стало трудно найти и приобрести все необходимое для проведения туя, но и оказалось сложно на должном уровне поддерживать оставшимися у них материальными ресурсами свои социальные статусы, которые сохраняли прежнюю ценность и не были девальвированы вместе с денежными знаками. У людей возникли также опасения, что государство будет активно вмешиваться в порядок проведения туев и это приведет к конфликтам. Все в совокупности создавало ситуацию неопределенности. Все ждали первого прецедента, который показал бы настоящую решимость реформаторов довести свои планы до воплощения, их способность принудить жителей к нарушению устоявшихся обычаев и применить силу против возможного сопротивления таким попыткам. Люди выжидали, что будет дальше, и не спешили выстраивать новую политику социальных связей, не желая подвергать себя рискам обвинений в невыполнении долга731.
Закончу очерк об ошобинской махалле четырьмя небольшими общими выводами.
Во-первых, говоря о махалле как о совокупности социальных институтов и сетей, необходимо различать те из них, которые создаются государством и при его активном участии становятся важным символом, механизмом управления, маркером социального (и географического) пространства, и те, которые существуют в виде местных неформальных обычаев и привычек. Последние сохраняются и под официальной вывеской, и вне ее даже в Узбекистане, несмотря на активную и длительную унификаторскую политику внедрения стандартной формы махалли в этой республике/стране732. Еще более различие между формальными и неформальными отношениями заметно в Таджикистане (и в Кыргызстане, о котором писали свою посвященную махалле статью Сулайманов и Лью), где старания государства контролировать локальные практики и подчинить их однообразной административной системе были не столь последовательными.
Во-вторых, административные инструменты управления и символы, которые официально называются махаллей, и местные сети и институты, которые тоже называются махаллей, хотя и не совпадают между собой, выполняя разные функции, не находятся, однако, в параллельных реальностях — они постоянно пересекаются, взаимодействуют, отсылают друг к другу. Жители Ошобы, чтобы попасть из административной махалли в махаллю неформальную, не переходят каких-то видимых или невидимых границ — та и другая встроены в одну и ту же конструкцию социальной повседневности, являясь разными каналами коммуникации между одними и теми же людьми.
В-третьих, говоря о том, что государство пытается присвоить и унифицировать местные социальные сети и институты, мы не должны взамен искать какую-то аутентичную махаллю, существующую вне государственных (в том числе колониальных, советских и национальных) форм и идеологий733. В действительности локальные практики и идентичности поражают своей вариативностью и гибкостью, зависят от множества факторов и конкретных условий, в которых они формировались и существуют734. Рассмотренный мной случай Ошобы хотя и является по-своему уникальным, но хорошо иллюстрирует возможные местные варианты тех сетей и институтов, которые обычно с махаллей отождествляются. Даже такие признаки, как территориальность, соседство и интенсивность повседневного общения, могут в конкретном сообществе принимать весьма своеобразные конфигурации. Это говорит о том, что любая обобщенная модель будто бы настоящей махалли оставляет за своими рамками множество непохожих примеров, которые наполняют жизнь среднеазиатского мира.
В-четвертых, сохранение неформальных социальных отношений не указывает на какую-то изначальную их данность и неизменность — они постоянно находились и продолжают находиться под давлением разнообразных факторов и обстоятельств, реагируют на них столь же многообразными эффектами и изменениями. Среди этих факторов могут быть экология местности и доминирующие способы хозяйствования, количество и состав населения и так далее. Государство с его политикой и идеологией, безусловно, также воздействует на местные практики и идентичности, приспосабливает их к себе и само приспосабливается к ним, ломает и пересоздает их в новых формах. В результате всех этих влияний махалля, какой она была в начале XX века и какой она стала в конце столетия, — это разные явления и с точки зрения численности и состава членов, и с точки зрения ритуальных традиций, и с точки зрения значения в жизни ошобинцев, и даже с точки зрения названий, ритуалов и символов. Разумеется, такого рода трансформации не означают прерывания преемственности, понимаемой как обязательный к возвращению долг, о котором каждый человек помнит и которым дорожит — как элементом своего личного статуса, символического и социального капитала.
Очерк восьмой
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ИСЛАМА735
В справочнике «Мусульмане Советской империи», изданном в 1986 году, советологи Александр Беннигсен и С. Эндерс Уимбуш называли мусульман колонизированной группой советского общества. Авторы предлагали рассматривать отдельно официальный ислам, который включал духовные управления, зарегистрированные и подчиненные им учебные заведения, мечети и «священников», и неофициальный (или параллельный) ислам, который, по их мнению, основывался на суфийских братствах736. Первый был маловлиятельным и полностью зависел от властей, второй — намного более сильным и представляющим опасность для советского режима: «Массированные советские усилия по уничтожению исламского сознания и традиционных исламских практик», писали Беннигсен и Уимбуш, приводили «на самом деле к экспансии „параллельного“ ислама и активности суфийских братств»737.
В 2000 году, уже спустя десятилетие после распада СССР, вышла книга другого советолога, Якова Рои — «Ислам в Советском Союзе: от Второй мировой войны до Горбачева»738. Данное исследование выгодно отличалось от работ Беннигсена и Уимбуша. Во-первых, базой источников: в отличие от своих предшественников, которым приходилось пользоваться лишь отрывочными сведениями из открытой литературы советского времени, автор обратился к архивам правительственного Совета по делам религиозных культов, содержащим в том числе и закрытую прежде информацию. Во-вторых, Рои отказался от резко обличительного антиимперского пафоса, которым явно грешили Беннигсен с коллегой, и постарался увидеть помимо стратегии мусульманского сопротивления советской власти и другие варианты поведения, в частности стратегию «мирного сосуществования с марксизмом-ленинизмом и его представителями, без принятия, однако, его постулатов», которая, как он заметил, стала выбором значительного большинства мусульман739. Это само по себе было неожиданно, так как крушение советского режима можно было скорее объяснить непримиримым конфликтом идеологии и людей.
Однако даже заметно отклонившись от советологических стереотипов740, Рои остается в рамках некоторых клише, сформированных эпохой холодной войны. Он продолжает делить советский ислам на официальный и неофициальный — правда, предпочитая более корректные термины «зарегистрированный» и «незарегистрированный» и замечая, что существует не только противостояние, но и своеобразное сотрудничество между представителями этих исламов741. Рои также видит, что в параллельном исламе есть не только «суфии», но и более широкий спектр мусульманских деятелей. Кроме того, израильский ученый не отказывается от идеи рассматривать ислам и советский режим в качестве антиподов, пусть и не только воюющих между собой742.
В 2006 году американский исламовед Девин ДиУис в своей рецензии на книгу Якова Рои выступил с обширной критикой советологического исламоведения. ДиУис обратил внимание на то, что, используя неадекватные данные и проблематичные источники, советологи повторяли тот язык описания ислама, который создавался советскими экспертами для управления мусульманскими окраинами. Одним из клише советской/советологической экспертизы было, в частности, противопоставление официального ислама неофициальному (народному, бытовому), первый из которых будто бы являлся «настоящим», а последний содержал большое количество неисламских черт и особенностей. В этой оппозиции рецензент увидел «по сути, абстрактный идеал ислама, определяемый в достаточно узких терминах, которые исключают многое из повседневной религиозной жизни в большинстве традиционных мусульманских обществ»743. ДиУис показал, как категории официального и неофициального вступают в противоречие с действительной картиной множественных трансформаций религиозных институтов и иерархий, ритуалов и связей, интерпретаций и идентичностей, происходивших в советском исламе. Вместо простых дихотомических схем наблюдались гораздо более сложные и запутанные отношения между разными лицами и группами, которые так или иначе апеллировали к исламским ценностям744.
Идеи, высказанные ДиУисом, вдохновили меня на попытку сделать антропологическое описание ислама в отдельно взятом кишлаке.
В настоящем очерке речь пойдет о религиозном конфликте, который вспыхнул в Ошобе в конце 1980-х — самом начале 1990-х годов. Меня интересует не исламоведческая, а сугубо социологическая или антропологическая перспектива в изучении этих событий, поэтому я опираюсь на идеи и словарь, которые предложил для описания религиозного поля французский социолог Пьер Бурдье. В частности, я исхожу из его мысли, что «анализ внутренней структуры религиозных учений должен обязательно учитывать социологически сконструированные функции, которые они несут, во-первых, для групп, которые их производят, и, во-вторых, для групп, которые их потребляют»745. Я покажу, что описание религиозной борьбы с помощью простых дихотомических схем значительно упрощает реальную картину того противостояния и тех коалиций, которые складывались между жителями кишлака. Я покажу, что религиозное противостояние в Ошобе было связано с локальной политикой, с конкуренцией за различные символические и материальные ресурсы, с перераспределением диспозиций и капиталов в период кризиса и перестройки государства. Также я покажу, что все участники этой борьбы использовали самые разные инструменты, включая родословные, титулы, ритуалы, святые места, дома для молитв, для легитимации своих претензий и делегитимации претензий своих соперников. При этом собственно религиозные аргументы в этой дискуссии дополнялись морализаторством, обвинениями противников в корысти и лицемерии, личными обидами и неприязнью. Наконец, я покажу, что каждый из героев моего очерка отстаивал свое понимание правильного или неправильного ислама, свою версию ортодоксии и подлинности, стремился показаться настоящим мусульманином.
Ходжа, ишан, тура
Религиозное поле в Ошобе было поделено между тремя группами мусульманских деятелей — «потомками святых» (к ним можно добавить группу шайхов), махсумами и хаджиями. Начну свой анализ с группы «потомков святых», занимавших специфическую нишу746. Они не являлись исконными ошобинцами по происхождению и делились на три семейные подгруппы — ходжей (хўж — не путать с хаджиями!)747, ишанов (эшн)748 и тура (тўр)749.
Первыми, как рассказывали местные жители, пришли в Ошобу ходжи. В памяти населения осталось имя Рахматуллахана, который жил примерно в середине XIX века, пришел, кажется, из Пскента (городок в Ташкентской области) и женился на местной девушке. Кто-то из информаторов сказал, что кокандский хан поставил его имамом в ошобинскую мечеть. У Рахматуллахана был сын Ишанхан750, у которого, в свою очередь, было четверо сыновей: двое старших — Джангир-ходжа и Турсун-ходжа — были убиты во время Гражданской войны, в 1918–1919 годах751; двое младших (видимо, от другой жены) — Бурхан-ходжа и Сайидгозы-ходжа (по данным похозяйственной книги за 1935 год, они родились соответственно в 1900 и 1910 годах752) — остались в Ошобе и в 1930-е годы числились бедняками.
У Джангир-ходжи и Турсун-ходжи сыновей не было, дочери же их вышли замуж за «потомков святых» в других селениях. Вспоминали жену Турсун-ходжи — Баргинисо (старшим братом которой был Тоштемир Нурматов753), их дочь, Офтобхон, вышла замуж за Мусохан-ишана из Ашта. У Бурхан-ходжи тоже были только дочери — все они стали бу-отин, то есть умели читать молитвы и руководили религиозными мероприятиями, которые проводились женщинами754. В 1995 году Сайидгозы-ходжа был старшим из потомков Ишанхана, он жил в доме своего отца в центре кишлака с сыном и невесткой и ходил в новую мечеть на молитвы.
В отличие от ходжей, которые, видимо, не сохранили точных свидетельств своего знатного происхождения и могли давать лишь общие ссылки на предков чор-ер755, семейство ошобинских ишанов возводило свою родословную непосредственно к пророку Мухаммаду (точнее, к его дочери Фатиме и ее мужу Али)756, то есть они считали себя более знатными, чем ходжи. Для подтверждения этого факта ишаны могли предъявить широкую сеть влиятельных родственников, известных во всем Аштском районе и в Ангрене.






