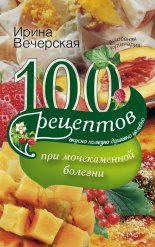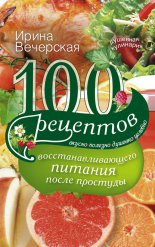Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать Арбитман Роман

Но продолжим. Пора представить других персонажей, положительных и нет. Среди первых — ксилофонистка Настя Переменчивая, влюбленная в Ивана, и импресарио Жагин, который под влиянием Ивана почти отказался от стяжательства. В компании двух апостолов человек-инструмент, уже наполовину деревянный, но несломленный, едет на гастроли в провинцию, чтобы под гипнотизирующий ксилофонный звон проповедовать местной элите учение о бесконечности Вселенных и, как следствие, о личном бессмертии. По правде говоря, Ванина мудрость взята Липскеровым напрокат — отчасти у физика Хью Эверетта III, который еще в 1957 году заложил основы теории Мультиверсума, отчасти у юного Левки Гайзера из повести Владимира Тендрякова «Весенние перевертыши», где сходный набор идей занимал пару абзацев.
На беду Ивана, два отрицательных героя романа, психиатр-маньяк Яков Михайлович и его сын, получеловек-полудятел Викентий, верят в оригинальность заемных откровений героя. Психиатр, считая себя воплощением Материи, хочет дать бой Ивану как средоточию Веры и Духа. Однако перед этим даже злодеям необходимо подкрепиться: «Родственные связи — главное! Съешь котлет. Кстати, вкусные». К счастью, и апостолы не страдают отсутствием аппетита: незадолго до того, как голова импресарио превратится в новую планету (есть в финале и такой оптимистический сюжет), Жагин заглотнет пятнадцать сырников и отправит в ротище «всю яичницу с четырьмя солнцами». Ам-ам — добро побеждает зло.
Еда для профессионального ресторатора — универсальный барометр. Каждый изгиб сюжета нам подадут в специях кулинарных аллюзий. Если отчим Вани «воздержится от барана, удовлетворившись курицей», то судьба мальчика изменится. Если Настя задорно «хрустнула огурцом» и помидоры «вспыхнули багровым рассветом в эмалированной миске», то впереди маячит романтическая сцена, а сексуальный акт будет похож на акт гастрономический (герою под силу «всосать Настину невинность, как мякоть хурмы»). Даже членовредительство прописано в меню отдельной строкой. Когда Иван, уснув у батареи, получит ожог, писатель с дотошностью заметит: «Правая щека почти зажарилась в котлету». Хорошо, что автор не уточнит, в какую именно, пожарскую или по-киевски.
Впрочем, не будем строги к Липскерову. У его потенциального читателя есть право выбора между книгой и «шведским столом»: цены примерно одинаковые. И в конце концов, богиня Кулина, покровительница общепита, только с богом коммерции Гермесом состоит в хороших отношениях, а с музами изящной словесности — Эрато, Каллиопой и Евтерпой — уж как получится.
Тут помню, тут не помню
Владимир Маканин. Две сестры и Кандинский: Роман. М.: Эксмо
В былые времена никто не обзывал Владимира Маканина живым классиком, зато в его произведениях было много ярких сюжетов и живых характеров, памятных до сих пор. Тут и самодельный гуру старик Якушкин («Предтеча»), и деловитая спекулянтка Светик («Старые книги»), и самоубийственно упертый Толик Куренков («Антилидер») — неудачники, везунчики, люди свиты, романтики, продолжающие жить на первом дыхании, и прагматики, которые притормозили, чтобы обустроить себе уютную отдушину.
Вся эта пестрая публика счастливо уворачивалась от наиболее злостных канонов соцреализма и могла бы легко перекочевать в постсоветскую литературу. Но сам писатель почему-то рассудил иначе. Для него конец 80-х стал Рубиконом: в реку с быстрым течением соскользнул прежний Маканин, а уже из реки выбрался Маканин новый — степенный, как дядька Черномор и чеховский Ионыч, вместе взятые. Внятность фабул и прозрачность слога затерялись на том берегу; место литературы для чтения заняла Литература Со Значением, ценимая критикой. В 90-х годах премию «Букера» получила маканинская повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» — мутный алхимический марьяж сказки с Кафкой. Каждого, кто сегодня вспомнит в повести хоть что-то, кроме заглавной мебели, тоже надо премировать.
Тем не менее переход Маканина из разряда просто писателей в ранг писателей маститых состоялся, а еще одна крупная награда — «Большая книга» 2008 года за роман «Асан» — закрепила статус литературной глыбы. Триумф, правда, был чуть подпорчен скандальной перепалкой между участником чеченской кампании Аркадием Бабченко и невоевавшим романистом. Первый уличал второго в катастрофическом незнании реалий, второй с олимпийских высот снисходительно объяснял первому, что-де ветеран может быть не так хорошо осведомлен о военных событиях, как автор, изучивший мемуары генерала Трошева. Критика приняла сторону Маканина, и все же тот решил отложить очередную мысленную командировку на Кавказ. А потому в романе «Две сестры и Кандинский» остался в пределах Садового кольца.
Итак, обе героини новой книги, сестры Ольга и Инна, живут в Москве времен перестройки. Инна — экскурсовод, а Ольга обустраивает у себя в подвальчике домашний алтарь, посвященный художнику Кандинскому. Возлюбленный Ольги Артем — депутат Московской городской думы. Он спасает художников-неформалов от милицейского преследования и пылко выступает на митингах с призывом отменить цензуру, но вдруг выясняется: трибун Артем — действующий стукач КГБ. Вся его карьера накрывается медным тазом, вакантное место в Ольгином подвальчике занимает рок-музыкант Максим; потом объявляется его папаша, пропахший тайгой сибирский стукач, а под конец сестры, уже совершенно чеховские, плачут светлыми слезами. Они бы рады свалить «в Москву! в Москву!», но они, увы, и так уже в Москве, отступать некуда.
В издательской аннотации книга названа «ярким свидетельством нашего времени», а рецензенты нахваливают «абсолютную убедительность» описываемого, сулят читателю «погружение в 1990-е, время иллюзий и надежд» и, памятуя о придирках Бабченко, объявляют: «Теперь-то никто не упрекнет автора в том, что он не ориентируется в материале»…
Как бы не так! При внимательном рассмотрении заметно, что сюжет книги Маканина настолько же близок к исторической реальности, насколько и сюжет поэмы Ляписа-Трубецкого о Гавриле-почтальоне. С «материалом» творится чехарда: на самом деле Мосгордума появилась только в конце 1993-го, художников в столице не гоняли с конца 80-х, КГБ упразднили в 1991-м, а цензуру, с которой бился думский Артем, отменили еще в 1990-м. Персонажи упоминают «подскочивший рейтинг», «крутого спонсора», «офисных клерков», «корпоративные встречи» и киллера, которого нанимают «за тыщу зеленых», — но это из других, послеми-тинговых, времен, когда принадлежность человека к спецслужбам не топила политическую карьеру, а совсем даже наоборот…
Барское пренебрежение к точности детали подрывает доверие к героям, которые у позднего Маканина и так-то изъясняются с надрывом провинциальных трагиков, чьи главные знаки препинания — восклицательные. Впрочем, у художника Василия Васильевича Кандинского был однофамилец — психиатр Кандинский, Виктор Хрисанфович. В книге «О псевдогаллюцинациях» он анализировал случаи «обманов памяти» и «состояний патологического фантазирования». Присутствие в заглавии имени того, второго, Кандинского могло бы, пожалуй, снять многие претензии к автору романа.
Сбрось муму с поезда
Александр Никонов. Анна Каренина, самка. М.: АСТ
«Анна Каренина была крупная, здоровая самка. Все здоровые самки похожи друг на друга. А все нездоровые больны по-разному. Ее молочные железы имели вид упругих плотных выступов…» И т. д.
Стилистика сочинения Александра Никонова ясна с первого же абзаца. Если в глазах героини Льва Толстого «вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы», то у Никонова «мимические мышцы ее мордочки непроизвольно сократились, показав стороннему самцу, что эмоциональное состояние самки выше среднего». Чуть позже нам в таком же глумливопознавательном» стиле расскажут о Каренине («брачный партнер Анны в последнее время совокуплялся с нею не чаще одного раза в месяц»), о Вронском («пышущий тестостероном Вронский мог осуществить до нескольких завершенных коитусов в сутки») и других персонажах и явлениях. Лет с трех все дети обычно догадываются, что «принцессы тоже какают», но лишь для немногих это открытие останется главной правдой о взрослой жизни. Никонов — такой вот трехлетка, только вооруженный томом энциклопедии. С ее помощью он объяснит, что сочувствие — одна из «острых психофизиологических реакций в ответ на внешние раздражители», а Пушкин «умел таким образом складывать слова, что получался ритмический рассказ, который воздействовал на эмоциональную сферу сильнее, чем ритмически не согласованный текст…».
Будущий автор этого «самого остроумного, самого яркого произведения последнего десятилетия» (цитируем аннотацию) объявился на литературном горизонте еще в 1994 году, выпустив «Х…евую книгу», — в оригинале название дано без отточий. Ничем, кроме обсценной лексики на каждой странице, эти скудные мемуары тридцатилетнего шалопая, правда, не блеснули. Позже автор публикует книги «Бей первым! Главная загадка Второй мировой», «Здравствуй, оружие! Презумпция здравого смысла», «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» и др. После второго издания «Апгрейда обезьяны» (где предложено легализовать наркотики) Никонов радостно отбивается от Антинаркотической комиссии, заглотившей наживку. В декабре 2009 года он пишет статью «Добей, чтоб не мучился», где дети с патологиями мозга названы «бракованными дискетами», а родителям рекомендовано применять к младенцам эвтаназию… Надо ли удивляться, что в новой книге всплывет фраза героя Достоевского о слезинке ребенка, «переведенная» с гестаповским бесстрастием: «Замучен один детеныш, из органов зрения которого выделится небольшой объем жидкости»? Удивительно другое — что Никонов не дотянулся до классики раньше.
Мысль о том, что классические тексты можно приспособить к сиюминутным нуждам не нова. На Западе есть термин «мэшап» (Mashup) — жанр, использующий знаменитые произведения прошлого в новой «аранжировке». Вспомним «Гордость и предубеждение и зомби» Сета Грэма-Смита, у которого роман Джейн Остин стал основой зомби-хоррора. Вспомним эксперименты издателя Игоря Захарова, выпускавшего переделки «Идиота», «Отцов и детей» и той же «Анны Карениной». У Захарова, впрочем, то была попытка проверить живучесть классики новыми реалиями. У Никонова — иное: не «мэшап», не «апгрейд», а сознательная порча, «издевательство и провокация» (цитируем фразу с обложки).
Сам «инопланетно-научпоповский» подход к взаимоотношениям людей взят из американского фильма «Брачные игры земных обитателей» и нарочито изгажен: то ли ради удовольствия от самого процесса, то ли из предосторожности (так краденое авто перекрашивают в канареечный цвет, чтобы не опознали). В книге Никонова нет Левина, зато есть Ленин, Раскольников и булгаковский Борменталь. Рахметов оказывается агентом охранки, а Тургенев — хозяином публичного дома. В финале Анна убивает Каренина, Раскольников — Анну, Рахметов — Раскольникова…
Сразу вспоминается фантастическое эссе Станислава Лема «Сделай книгу сам» (1971), где речь шла о таком издательском конструкторе: «Берешь в руки «Войну и мир» или «Преступление и наказание» — и делай с ними, что в голову взбредет: Наташа может пуститься во все тяжкие и до и после замужества, Анна Каренина — увлечься лакеем, а не Вронским, Свидригайлов — беспрепятственно жениться на сестре Раскольникова». В лемовском эссе объяснено, почему вивисекторские опыты не принесли издателю крупных денег (и почему, кстати, Никонову не удастся раздуть большого скандала на костях Толстого): «Безразличие к ценностям культуры зашло в нашем мире гораздо дальше, чем кажется авторам конструктора. Верно, в него никто не стал играть, но не потому, что публика отказалась осквернять идеалы, а просто потому, что большинство читателей не видит разницы между Толстым и убогим графоманом. Тот и другой оставляют его одинаково равнодушным».
В нынешней России никоновские кощунства тоже пропадут втуне, и это хорошо, но причина, по которой это случится, безрадостна.
Уронили в речку мячик
Виктор Пелевин. S.N.U.F.F. М.: Эксмо
Итак, после столетий потрясений и катаклизмов мир поделен на две неравные части: на земле, в грязи и невежестве, копошится многочисленное и малограмотное население Уркаинского Уркаганата, а над ними парит шар Бизантиума — нечто вроде свифтовской Лапуты, но технологически более продвинутой. Обитатели «нижнего мира» (урки, они же орки) звероваты, пьют, выражаются сплошь матом, смотрят по ящику древние фильмы, ненавидят небожителей и мечтают влиться в их ряды. «Верхние» купаются в достижениях робототехники и интеллектроники, практикуют всевозможные виды сексуальных перверсий и относятся к тем, кто внизу, как к стаду.
Иногда небесное меньшинство, заскучав от праздности и сытости, ведет показательные войны с нижним большинством; гибнут орки, а обитатели Бизантиума, живые и невредимые, следят за битвами на трехмерных телеэкранах. Все войнушечки, разумеется, организованы и оплачены кинокомпаниями, а операторы летучих камер, оснащенных мощным высокоточным оружием, в нужное время и в нужном месте сами режиссируют casus belli. Роман написан от лица одного из таких летчиков-налетчиков, Дамилолы Карпова: тот управляет своей смертоносной камерой дистанционно, из дома, не вставая с дивана, и отвлекается лишь для того, чтобы вкусно пожрать и позабавиться с очень сексуальной куклой-андроидом. А потом снова в бой…
Уже с середины «S.N.U.F.F.» начинаешь нетерпеливо пролистывать. И не потому, что длинно, а потому, что лихорадочно ищешь хотя бы что-то новое. Но не находишь. Оставив в стороне «фантастико-лирическую» линию романа (идея об андроиде, переигравшем самодовольного представителя вида homo sapiens, — седьмая вода на азимовском киселе) и очистив от шелухи главный сюжетообразующий посыл, видишь, что он-то целиком взят у Голливуда, притом не в полемических целях, а в сугубо прикладных.
Идею о том, что трансляторам дурных новостей куда выгоднее не гоняться за мировыми катастрофами, но самим их организовывать, еще в 1997 году вынашивал антигерой «бондовского» фильма «Завтра не умрет никогда» (Tomorrow Never Dies) режиссера Роджера Споттисвуда. Про игрушечную победоносную войну — гибрид новостей с художественным кино — в том же году с блеском рассказал Барри Левинсон, постановщик картины «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog): у киношной сцены с девочкой есть в книге Пелевина близкий аналог — эпизод с юной Хлоей, которую оставили на пути кортежа. Раньше писатель мог позаимствовать у Голливуда кое-что по мелочи, однако был самостоятелен в главном. Теперь же вместо щегольского пелевинского haute couture читатель получил pret-a-porter, скроенное по чужим лекалам и кое-как, на живую нитку пригнанное к нашим идеологическим граблям.
Концептуальная вторичность — не единственная проблема романа. Пелевин, когда-то почти невозмутимый, в новой книге сделался похож на самоподзаводя-щегося Проханова с его взлелеянным, конвейерным и оттого уже почти карикатурным антизападничеством.
Если нижний мир вызывает у писателя горькую усмешку пополам с сочувствием к малым сим, то уж лощеная «либеральная демократура» небожителей для автора — беспримесное зло, подлая клоака, совокупность уродств. Здесь господствуют цинизм и чистоган, здесь правят бал убийцы, скупщики детей и сексуальные перверты из организации ГУЛАГ — от геев с лесбиянками до совсем экзотических, не поддающихся классификации существ. А здешние имена! Давид-Голиаф Арафат Цукербергер. Николя-Оливье Лоуренс фон Триер. Андрей-Андре Жид Тарковский. Мадонна де Аушвиц. (Чувство юмора, увы, окончательно изменяет автору, превращаясь в злобно-ерническую пляску на костях.) Здесь, наконец, одним и тем же словом «маниту» называется компьютерный монитор, деньги и верховное божество. Словом, над Землей висит Карфаген, который обязан быть разрушен, — что, собственно говоря, и происходит в финале…
Долгое время нам казалось, что «Виктор Пелевин» и «банальность» — слова не просто из разных словарей, но из разных галактик. В 90-х годах писатель, еще не ставший в России культовой фигурой, фонтанировал оригинальными сумасшедшими идеями. Позже он покинул изъеденные пастбища издательства «Вагриус», материализовался на заливных лугах «Эксмо», отключил щедрый фонтан и перевел свою креативность в режим жесткой экономии: выдавал по плошке в год, по чайной ложке, по капле. Но все же это были его ложки и его капли. И даже когда порой бредовость пелевинских текстов слегка зашкаливала, а из дырки в черепе (место несостоявшегося третьего глаза) деловито выползали черные тараканы подсознания, это были его, пелевинские, эксклюзивные тараканы, какие могли завестись только в такой штучной голове, как у Виктора Олеговича.
И вот всё кончилось. Теперь его тараканы — самые обычные. Без сюрпризов.
Ты черная моль, ты летучая мышь
Виктор Пелевин. Бэтман Аполло: Роман. М.: Эксмо
Став вампиром, грузчик Рома Шторкин приобретает имя Рама и прослушивает спецкурс (гламур & дискурс), из которого узнает, что именно вампиры правят миром. Процесс воспитания вурдалака-неофита становится сюжетом пелевинской книги «Empire V» (2006). Главным героем нового романа оказывается тот же Рама — уже матерый сверхчеловек, особо приближенный к вампирской королеве. Впрочем, Рама не знает всей правды о мире. Чтобы постичь ее, герою придется совершить ряд подвигов: нанести визит Дракуле, опуститься в царство мертвых, десантироваться на авианосец Бэтмана, сходить на митинг протеста и, как следствие, попасть в автозак.
В новой книге присутствуют эзотерические культы Востока и современные рекламные слоганы, компьютерные прибамбасы и наркотический трип, американские комиксы и советские фетиши, цитаты из классики и кавээновские каламбуры («мирские свинки», «собаки лайкают, а караван идет» и т. п.). Прибавьте к этому словарный запас хипстера, натощак обчитавшегося Мейченом и Кастанедой, а потом догоняющий смесью Чомски и Жижека, — и получите набор, который настолько точно укладывается в формулу «типичный Пелевин», что выглядит навязчивым перебором: ну как если бы, например, Брюс Уиллис являлся на все светские тусовки в одной и той же грязной майке «крепкого орешка» Джона Маклейна.
Чрезмерное всегда подозрительно. Слишком хрустящую купюру хочется проверить на детекторе. Надо ли удивляться, что в среде самых отвязанных пользователей Рунета циркулируют слухи о том, что нынешний Пелевин — царь ненастоящий? Будто бы автор сборника оригинальных рассказов «Синий фонарь», подлинный Виктор Олегович 1962 года рождения, улизнув, как Колобок, от скуповатых деда с бабкой из издательства «Вагриус», сгинул на полдороге, а в маркетинговые сети лисы из «Эксмо» прикатился подменыш: не то инкуб, не то диббук, не то гомункулус, взращенный в кремлевской лаборатории политбионанотехнологами Владислава Суркова.
Несмотря на явную фантастичность последней версии (и в лучшие-то для Владислава Юрьевича времена ему удавалось создать разве что худосочного малотиражного прозаика Н. Дубовицкого — слегка модернизированную версию кумира офисного планктона С. Минаева), кое-какие основания для конспирологических догадок все же есть.
За последнее десятилетие Пелевин-прозаик, при всем его видимом нонконформизме, не раз чутко улавливал ветер с олимпа и четко резонировал в такт каждому шагу статуи Госкомандора. Вот начальство вбрасывает на информационное поле пропагандистский тренд «лихих девяностых» как времени развала и упадка — и Пелевин в романе «ДПП (нн)» с удовольствием пинает подставленный ему мячик для битья, низводя недавнюю ельцинскую эпоху до стадии клинического бандитско-чиновничьего абсурда. Едва только власть усиливает демонизацию заокеанского Госдепа, выкапывая из нафталина архетипы холодной войны с Западом, — и тотчас же, как по заказу, является на свет пелевинский «S.N.U.F.F.», где высокотехнологичная и тотально бездуховная (а какая же еще?) Америка обретает вид СВЕРХдержавы в буквальном смысле: превращается в остров, парящий над всем прочим обитаемым миром и готовый развязать войнушку в любой его точке, чтобы побаловать картинкой онлайн прилипших к телеэкранам адреналиновых нариков.
«Бэтман Аполло» — из того же ряда: здесь присутствует коллекция пропагандистских клише, призванных представить гражданский протест максимально дурацким образом. Выясняется, что московские митинги организованы вампирским лобби, и оно же, когда вышел срок, те митинги разогнало. Автор понимает, что попытка тупо сыграть на стороне власти подпортит ему репутацию, да и власти «позитив» от Пелевина скорее повредит. Для всех выгодней торговля тухлым моральным релятивизмом: дескать, плохи и те, и эти, «сила ночи, сила дня. Одинакова фигня» (эта цитата из романа «Чапаев и Пустота» годится для эпиграфа к новой книге). «Карголибе-ральное и чекистское подразделения этого механизма суть элементы одной и той же воровской схемы, ее силовой и культурные аспекты, инь и ян, которые так же немыслимы друг без друга, как Высшая школа экономики и кооператив «Озеро», — твердит автор. Нет Поклонной горы, нет Болотной площади, а есть одно «поклонное болото», где разница между условным Путиным и условным Навальным отсутствует: «Стоит посмотреть на другую сторону баррикады, и становится непонятно, почему она другая». Круг замыкается, вместо прогресса — уроборос.
Согласитесь, удобная точка зрения. Шевелишься — дурак. Не рыпаешься — умный. Помнится, в сказке о лягушке, попавшей в горшок с молоком, ей тоже советовали зря не сучить лапками: «Отправляйся-ка ты, кума, на дно». Но лягушка — земноводное простое, дискурсу не обученное, Пелевина не читавшее. Трепыхалась — и не потонула. Авось не потонем и мы с вами.
Битва за теремок
Юрий Поляков. Конец фильма, или Гипсовый трубач: Роман. М.: Астрель
Самый легкий способ вывести из себя прозаика, драматурга и публициста Юрия Полякова — обозвать его «писательским проектом». То есть можно обидеть его и по-иному: например, коварно причислить к стану либералов или не включить в официальную делегацию, посланную в Париж. Но уж если вы хотите уязвить героя в самое сердце, распустите слушок, что на Юрия Михайловича работает бригада «литературных негров», которая базируется в Переделкине. И потому, дескать, за всеми многолетними распрями (отягощенными судами и даже членовредительством) вокруг дачной собственности скрывается тайная борьба за контроль над переделкинской шабашкой…
Разумеется, это шутка. Поляков пишет сам и искренне недоумевает, отчего «серьезная проза» не приглашает его к себе в песочницу, а критика игнорирует. И в ответ сердито объявляет, что литпремии — фикция, а большинство толстых журналов — «междусобойчик». Не только растиражированный роман «Козленок в молоке», но едва ли не весь поздний Поляков — это бесконечное внутрицеховое выяснение отношений, где и рядовому читателю, и посвященному писателю не под силу понять смысла всех намеков.
Нечто подобное есть и в трилогии «Гипсовый трубач», которую завершает роман «Конец фильма». Отравленные желчью мелкие дротики посланы в сторону «братьев Рубацких», «Радмилы Улиткиной», «Михаила Пшишкина», «Ольги Свальниковой», «Алекса Хлаповского» и других коллег. Мимоходом достается Гребенщикову — за «суггестивные блеянья на корпоративных вечеринках», — и Окуджаве, который назван «поющим дураком». Попутно мелькают ритуальные жертвы поляковского темперамента — «предатель Горбачев», «скотина Ельцин», «свинья Гайдар», диссиденты «с платным чувством справедливости» и зловещие «бейтаровцы», которые штурмуют парламент в октябре 1993-го…
И все же не судьба погорелого Верховного Совета и не печальная участь Советского Союза более всего волнует автора «Гипсового трубача», но близкий к телу писателя вечнозеленый конфликт из-за собственности на земельный участок. Хотя сухая кадастровая цифирь не обещает катарсиса, тема «ссоры хозяйствующих субъектов» достигает нешуточного накала, завершаясь поножовщиной с перестрелкой. В третьем томе окончена эпопея захвата дома ветеранов культуры «Ипокренино»: с одной стороны — рейдеры во главе с таинственным Ибрагимбыковым (тайна раскроется в финале), с другой стороны — вороватый директор, а между ними — старики-ветераны и встающие на их защиту энергичный режиссер Жарынин и мятущийся писатель Кокотов, которые приехали сюда поработать над сценарием фильма.
Авторский замысел, похоже, предполагал, что именно история покорения «Ипокренина» и станет тем стержнем, который выдержит десятки побочных историй. На самом же деле сюжет о земельной баталии утонул среди множества отвлечений, вставных новелл и флэшбэков. Кроме главных и неглавных персонажей здесь также присутствуют персонажи из прошлого этих персонажей, и персонажи, рожденные воображением других персонажей, и персонажи-фантомы, выпускающие на свет собственных фантомов.
Вся эта пестрая толпа обеспечивает роману объем (три тома — полторы тысячи страниц), но читатель теряет логику повествования, успевая заблудиться в толпе бездействующих лиц. То, что автор гордо именует «синтезом реализма и постмодернизма», представляет собой ворох разрозненных баек, даже не нанизанных на фабульный шампур, а кое-как к нему подвязанных — в духе Шахерезады («Вот я вам сейчас случай расскажу», «О, это удивительная история!», «О, это отдельная история!» и пр.). Текст пестрит фельетонными фамилиями («народная артистка Саблезубова, композитор Глухонян, народный художник Чернов-Квадратов» и др.), несмешными метафорами («долька бледного помидора, явно страдающего овощным малокровием», «селедка, посыпанная одряхлевшими кольцами фиолетового лука» и пр.) и неловкими сравнениями («играют словом, как дурак соплей», «народ уже приучен к несправедливости, как испорченный пионер к содомии», «Розенблюменко позеленел, как хлорофилл» и т. п.). «Социальная чувствительность, точная образность, тонкий психологизм, богатая ироническая палитра, умелое и уместное использование такого приема, как гротеск, композиционная свобода и изысканность — вот что характеризует сразу узнаваемый творческий почерк Юрия Полякова», — пишет о трилогии безымянный рецензент «Литературной газеты», которую, по совпадению, возглавляет ныне сам Юрий Поляков.
Продираясь сквозь «изысканный» текст, отмечаешь его редкостную неряшливость. Критик Сэм Лобасов через страницу превращается в Дэна, алкоголик Пургач становится Пургачевым, чай «Мудрая обезьяна» оказывается вдруг «Зеленой обезьяной», а один и тот же эпизод прилета в Лондон повторен дважды (второй раз, видимо, на бис). И тому подобное.
Сразу после выхода книги автор объяснил журналистам, отчего давно обещанный третий том появился только сейчас: «Я ведь не графоман с букеровским дипломом, я профессионал и не привык выпускать текст, требующий доработки». Либо это писатель так своеобразно понимает профессионализм, либо это издатель решился на преступление: подкараулил автора в ночи, вырвал недоделанную рукопись и побежал в сторону типографии. А Поляков его не догнал.
Концерт для диктофона с оркестром
Антон Понизовский. Обращение в слух: Роман. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А»
«Сова приложила ухо к груди Буратино. «Пациент скорее мертв, чем жив», — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом: «Пациент скорее жив, чем мертв»…»
Если в этой цитате из сказки А. Толстого заменить слово «Буратино» на слово «Россия», то вы получите примерное представление о сюжете дебютного романа экс-журналиста НТВ Антона Понизовского. Действие происходит в Швейцарии, в уютном «Альпотеле Юнгфрау», неподалеку от убежища байроновского графа-чернокнижника Манфреда: отсюда, с высоты трех тысяч метров над уровнем моря, открывается прекрасный вид на Россию, а гостиничный табльдот помогает героям заниматься историософией и обсуждать все возможные варианты диагноза, не отвлекаясь на презренный быт.
В роли доброго доктора Жабы выступает эмигрант Федор, «молодой человек с мягкой русой бородкой», специалист по творчеству Достоевского. Роль безжалостной Совы играет сорокалетний Дмитрий, турист-бизнесмен, тоже не чуждый достоевсковедения. Cам процесс постижения «загадки русской души» заключается в прослушивании диктофонных записей интервью с простыми гражданами бывшего СССР и последующем обсуждении. Феде его изыскания оплачивает Фрибурский университет, а Дмитрий, застигнутый в отеле непогодой (из-за извержения исландского вулкана авиарейсы отменены), готов отправиться в «путешествие к центру души» бесплатно, скуки ради.
Сами рассказы «реципиентов», переложенные на бумагу и явленные читателю, составляют половину книги, причем протуберанцы наивной ностальгии («Люди были другие. Добрейшие были люди!», «При коммунистах жить было лучше»), наивного национализма («кто на иномарках за рулем ездиет? Нету русских!») и тоски по Сталину достаточно редки. Значительная часть историй — драматичные перипетии мужчин и женщин, к которым жизнь отнеслась особенно неласково: войны и аресты, скитания и страдания, сломанные судьбы и безвременные смерти близких… Горькая чаша, казалось, испита до дна, но всякий раз наполняется снова.
Позиции комментаторов полярны. Прослушав очередную запись, Дмитрий обвиняет народ в жестокости, Федя его оправдывает («разгул — да, но ведь и отходчивость, и прощение»). Дмитрий рассуждает о низком уровне жизни, Федя отбивает пас пламенной речью о высокой духовности (душа народа «стремится к святыне, стремится к правде!»). Дмитрий упрекает Россию в нецивилизованности, Федя парирует: западная цивилизация, мол, «несет загрязнение для души». Дмитрий твердит о массовом пьянстве как источнике множества бед, Федя же видит в этом национальном недуге высший сакральный смысл: быть может, в России по-черному пьют оттого, что именно этот народ сильнее других ощущает «острую нехватку Бога»? Дмитрий толкует о тотальном инфантилизме («психологический возраст русских — ну, в большинстве своем, — лет двенадцать–тринадцать»), а Федя, ухватившись за метафору, воодушевленно сравнивает Россию с тем страдающим ребенком, о котором говорили братья Карамазовы. Автор вообще очень старается, чтобы на образ велеречивого Феди пал отсвет князя Мышкина, а на циничного Дмитрия — тени Свидригайлова и Ставрогина. Авось тогда грамотный читатель сам проведет лестную параллель между Понизовским и Достоевским.
Хотя никто из рецензентов пока и не рискнул назвать Антона Владимировича современной инкарнацией Федора Михайловича, в комплиментах нет недостатка. Ведущая юмористической телепрограммы уже пообещала, что будет советовать друзьям прочесть это произведение. Рецензент глянцевой «Афиши» назвал книгу «настоящим Русским Романом — классическим и новаторским одновременно», а обозреватель православного журнала «Фома» возрадовался: «В нашу литературу пришел очень серьезный, глубокий писатель». Еще до того, как «Обращение в слух» угодило в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», сам романист не без гордости поведал в нескольких интервью, что все приведенные в романе истории — подлинные!
Оказывается, запись велась на Москворецком рынке и в областной больнице будто бы в рамках проекта «неофициальной» истории России. Однако рассказчики, изливая души перед диктофоном интервьюера, вряд ли подозревали, что превратятся в эпизодических персонажей романа, где их боль, муки и утраты станут иллюстрациями к схоластическим спорам двух карикатур, как-бы-западника и якобы-патриота. Да простит меня автор за жесткую аналогию, но его подход к людям как к «материалу» вызывает ассоциации не с Достоевским, а скорее с Гюнтером фон Хагенсом: биологом-шоуменом, который возит по Европе выставку «пластинатов» — то есть художественную инсталляцию из обработанных по специальной методике человеческих трупов.
Натуристый и корябистый
Захар Прилепин. Обитель: Роман. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной
Год назад в интервью Захар Прилепин отчеканил: «Сталин — это символ порядка, суровости, властителя без всякой примеси гедонизма. Он после себя оставил только военную шинель и пару сапог. В нем была самоотверженность и что-то религиозное». Год спустя тот же Прилепин выпускает объемный роман в сомнительном для писателя-сталиниста жанре «лагерной прозы».
Неужто мир перевернулся или Захар прозрел? Да не дождетесь: события романа происходят не в Карлаге или Устьвымлаге, а на Соловках, и не во второй половине 30-х, когда конвейер смерти перемалывал миллионы судеб, а десятилетием раньше, в «сравнительно вегетарианских», говоря словами Ахматовой, 20-х. Тем не менее для создателя «Обители» Соловецкие острова — готовый архипелаг ГУЛАГ в миниатюре, со всеми его свинцовыми мерзостями. Зачем эти манипуляции с календарем, понять легко: так автору проще реабилитировать своего любимца.
Читателю внушается нехитрая мысль о том, что-де «большой террор» в СССР был начат до Иосифа Виссарионовича, а продолжался не соратниками усатого вождя, но его политическими противниками. И хотя к моменту начала романа Сталин уже семь лет как генсек ВКП(б), а Троцкий исключен из партии и скоро будет выслан, имя Троцкого то и дело мелькает на страницах книги, а Сталин не упомянут ни разу. Ну нет его среди «архитекторов» репрессий! Есть начальник Соловков, садист-интеллектуал Эйхманс (тут он назван Эйхманисом). Есть главчекист Ягода. А выше только звездное небо — без намека на нравственный императив философа Канта. Вы помните, что именно в Соловки предлагал упечь Канта известный персонаж Булгакова?
Отдадим должное Прилепину: скотство лагерных конвоиров и муки подконвойных он описывает в подробностях, со всеми тошнотворными нюансами. «Русская история дает примеры удивительных степеней подлости и низости», — рассуждает писатель в послесловии, признаваясь, что и к советской власти, и к ее хулителям сам относится почти одинаково скверно. Такая «взвешенная» позиция заметна в романе, где охранники и зэки в основном стоят друг друга. Почти все, мол, одинаковы: поменяй их местами — и ничего не изменится. Бывший офицер Бурцев зверствует так же, как и лагерный расстрельщик Санников; бывший колчаковец Вершилин, сдиравший кожу с коммуниста Горшкова в контрразведке, не лучше чекиста Горшкова, который теперь забивает зэков сапогами. Да и главный герой книги Артем Горяинов — его глазами мы следим за событиями — попал в Соловки не безвинно, а за убийство отца…
Интересно, чем роман «Обитель» так приглянулся редактору именной серии издательства «АСТ», строгой и рафинированной Елене Шубиной? Оригинальной историософской концепцией? Так ведь и до Захара кое-кто баловался небезобидными фокусами с моральным релятивизмом, уравнивающим жертв большевистского террора с палачами. Или, может, наш автор — не только сталинист, но и стилист безупречный? Ну-ка, посмотрим. «Всем своим каменным туловом», «бурлыкало в голове», «горился», «перегляд», «журчеек», «натуристый», «корябистый» и пр. Неужто внутри молодого горожанина Артема скрывается деревенский старик Ромуальдыч? «Всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь» (даже первоклассников учат не путать выражения «играть роль» и «иметь значение»). «Ряд событий слипся воедино» — это как? «Рот большой, с заметным языком» — про человека говорится или про пса? «Он едва пах», «он был старье старьем и пах ужасно» (помнится, это «пах» вместо «пахнул» доводило до бешенства чувствительного к слову Довлатова). «Терпко что-то качнулось в душе», «стать причиной насупленного внимания», «было для Артема серьезным удивлением» (да уж!). Читатель готов перетерпеть «многословный дождь», но в книге есть еще «дремучий тулуп» («труднопроходимый» — и только по отношению к слову «лес»), и «сладострастные булки» (то есть «отличающиеся повышенным стремлением к чувственным наслаждениям») и еще многое другое в том же духе и стиле.
Возможно, романист настолько вжился в описываемую эпоху, что его книга стала кладезем исторических деталей? Хм, едва ли. В одном из эпизодов, например, главный герой рассуждает о том, что сухой закон был введен в стране после НЭПа, отчего и водка стала редкостью; на самом же деле все обстояло точнехонько наоборот: НЭП в СССР дотянул аж до начала 30-х, а сухой закон, суровое детище военного коммунизма, был отменен еще в 1923 году — и вскоре у нас стали выпускать водку-«рыковку». Возможно, автор перепутал Россию с Америкой, где запрет на спиртное просуществовал до 1933 года?
Особенно удивительны тут ернические рассуждения большевика Эйхманиса о «большевистском новоязе». Дело не в цинизме героя, а в анахронизме: «новояз» — калька с английского слова Newspeak, которое появилось через двадцать лет после описываемых событий, в романе «1984». Быть может, сам Захарушка ничего не слышал об Оруэлле, но уж опытный редактор Елена Данииловна могла бы ему тактично подсказать. Конечно, не исключено, что начальник лагеря в Соловках был гостем из будущего, а из выходных данных книги по недосмотру корректора выпало слово «фантастический». Что ж, принадлежность романа к жанру фантастики объяснило бы многое — включая таинственное путешествие сладострастных хлебобулочных изделий сквозь дикую чащу прадедушкина тулупа.
Блистающий блин
Александр Проханов. Алюминиевое лицо: Роман. СПб.: Амфора
Иногда возвратиться из литературного небытия помогает гений, но гораздо чаще — случай. Последнее и произошло с прозаиком Александром Прохановым, чья муза когда-то пышно расцвела на военно-патриотической ниве Противоборства Двух Систем и увяла в конце 80-х вместе с угрозой несостоявшейся Третьей мировой.
В течение всех 90-х заржавленный механический соловей бывшего Генштаба был, казалось, бесповоротно задвинут на дальнюю полку шкафа в компании с прочими авторами-маргиналами, которые в доступной им форме (стенания, зубовный скрежет, скупая боевая мужская слеза в ассортименте) соборно ностальгировали по ракетно-ядерному граду Китежу, канувшему в Лету. Однако в начале нулевых Проханова все же достали с полки, отчистили от паутины и слегка пропылесосили: одному из молодых издательских демиургов пришло в голову, что пресноватый либеральный мейнстрим следует смеха ради разбавить малой толикой державной тухлятинки. Так прохановский «Господин Гексоген» угодил в шорт-лист высоколобой премии «Национальный бестселлер» — и вдруг победил. Некоторые члены жюри проголосовали ради прикола, некоторые — из вредности, а остальные решили, будто выбирают меньшее из двух зол. (Второй финалисткой была девица Денежкина, автор книги с вызывающе наглым названием «Дай мне!». Ну как можно такой дать денег?)
После взятия «Нацбеста» у нашего героя все завертелось само собой. Литтехнологи катапультировали писателя на вакантное место анфантерибля и дали карт-бланш, разглядев за истлевшим прошлым коммерческое будущее. Как выяснилось, истерическую ностальгию прохановской выделки сегодня можно впарить сразу двум полярным категориям читателей: простецам, принимающим рыкающий треш за Литературу, и воспитанным на Феллини и Бергмане утонченным гурманам — той их разновидности, которая с наслаждением сродни мазохистскому вкушают дикую халтуру какого-нибудь Уве Болла.
Новый роман «Алюминиевое лицо» — не самый тошнотворный, но, пожалуй, наиболее типичный для Проханова эпохи нулевых.
«Кремль был розовым заревом, окруженным тьмой. Это зарево летело во Вселенной, в нем таилось послание, излетевшее из божественных уст» <…> «Чекист улыбнулся, и на его темном, аскетическом, с запавшими щеками лице сверкнула ослепительная белозубая улыбка, обворожительная и открытая» <…> «Огромная женщина с грудями, похожими на тесто, вылезшее из квашни, схватила губернатора, стиснула меж необъятных грудей» <…> «Думал он, чувствуя таинственное родство с этими русскими странниками, явившимися к Древу познания Добра и Зла, чтобы укрепиться в своей вере, напитаться от древа неписаной мудрости» <…>. «Мозг под сводами черепа хлюпал, колыхался, и одно полушарие смешивалось с другим».
Идя навстречу ожиданиям обеих групп своих читателей, автор крошит привычный винегрет из полупародийной эротико-религиозной экзальтации («смотрел на белевшие в темноте церкви, и ему казалось, что это обнаженные купальщицы»), расчетливого физиологизма (эпизод на скотобойне) и роковой конспирологии (за кадром таинственно маячат первые лица государства), а затем добавляет проверенный ингредиент — «жажду и тоску по великой стране, по восхитительной империи».
Все эти цитаты, взятые из разных мест книги, дают представление и о тематике, и о стилистике, и о композиции романа. Сперва над Москвой «прольется малиновая струйка зари», затем «официант грациозно наполнит рюмки искрящейся водкой», вслед за этим смутно замаячит пророческий старец Тимофей («страстотерпец, умученный жидами»), потом взмахнет тестикулами статный генерал ФСБ, после будет явлена «народная сказочность» (исчезнувшая «в циничных и меркантильных москвичах, но сохранившаяся в краю монастырей, паломников и народных мудрецов»), а под занавес нарисуется некий инфернальный Арон, который из потайной комнаты дистанционно управляет и старцем, и мудрецами с паломниками, и генералом, и даже, кажется, водкой в рюмках и зарей над Москвой… Словом, погибла Россия.
И что же? Да ничего. В следующем романе писатель ее реанимирует и начнет заново. Будет опять грозить зловредным аронам, проклинать «закулису», нести врага по кочкам; будет вяло, без тени драйва, отрабатывать гонорар. Может, в Проханове эпохи путчей еще оставалось что-то натуральное, но Проханов теперешний, коммерческий — имитация: плюшевый Джигурда, беззубый пенсионер Табаки, вынужденный по инерции изображать Шерхана. Притворяться не потому, что иначе загрызут, а потому, что иначе не покормят.
Укротитель болотного чудища
Александр Проханов. Время золотое: Роман. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф
Не все слушатели «Эха Москвы» знают, что Александр Проханов — не только ведущий радиопрограммы, но и автор прозы. И хотя его книги пока не включены в школьный курс литературы, старшеклассники натыкаются на них с роковой неизбежностью: например, при сборе материала для сочинений на тему «Образ Владислава Суркова в русской литературе».
Еще в 2006 году Владислав Юрьевич возник у Проханова в романе «Теплоход «Иосиф Бродский» — под именем Василия Есаула. Этот прагматик, интеллектуал и патриот в одном лице вступает в схватку с паноптикумом существ из босховских кошмаров. Он разоблачает заговор антирусских сил, отвечает на него духоподъемным контрзаговором и спасает тело России-колобка от хищных посягательств мировой лисы-закулисы.
В новой прохановской книге Суркова зовут Андреем Бекетовым, и спасение России — тоже главное дело его жизни. Не так давно он был правой рукой президента Федора Чегоданова и помогал сюзерену (невысокому человеку «с восторженной синевой в озаренных глазах») подморозить страну, чтобы вырастить «кристалл молодого Русского государства». Затея удалась, но потом Федор Федорович поддался на уговоры Запада и не пошел на третий срок. Отправив Бекетова в отставку, он стал простым премьер-министром, а президентское кресло в Кремле, «мистическом ковчеге русской истории», доверил болтуну Стоцкому. А теперь, когда Чегоданов решается вновь идти в президенты, имперский кристалл уже подтекает со всех сторон.
Среди противников Федора Федоровича есть враги внешние и внутренние. Внешние — это привычно зловредные американцы (которые «устанавливают на Аляске системы новых вооружений, способных воздействовать на биосферу России») и «мировое еврейство» (которое «следит за процессами в России и участвует в них напрямую»). Но куда страшнее внутренний супостат. Протестная волна выталкивает на Болотную площадь «толпу, похожую на зверя». Во главе толпы — Иван Градобоев. Это зверь с «бычьим лбом и яростными немигающими глазами», «чудовище, порождение спальных районов, черных подворотен…».
Да, броня ОМОНа еще крепка, дубинки еще быстры, Центризбирком еще на стороне Кремля, но каждый митинг на Болотной отнимает проценты рейтинга Чегоданова. Спасти его может лишь чудо, поэтому в Москву вызван Бекетов. Его просят о содействии — ради будущего страны. Если бычий лоб одолеет озаренные глаза, имперской мечте крышка: «Россию рассекут на несколько частей», «отдадут под эгиду иностранных корпораций», «лишат ядерного оружия, уничтожат все ракеты, и навсегда исчезнет свободный русский народ».
Поскольку для Бекетова Родина на первом месте, он согласен помочь. Как у всякого сказочного героя, у него есть три бонуса. Первый — «пленительный голос», способный заворожить всякого оппозиционера. Второй — магическая власть над Еленой, подругой Градобоева. Третий — крошка диктофон в кармане. Так что Елена предаст избранника, магия Бекетова развяжет языки вождей оппозиции, а диктофон запишет их высказывания друг о друге. В день, когда разномастная толпа будет готова штурмовать Кремль, записи выплывут, вожди перессорятся, а зубчатая твердыня уцелеет.
У романа, изданного трехтысячным тиражом, вряд ли отыщется много благодарных читателей: даже адептов кремлевской мистики не обрадует мысль о том, что магия измельчала до прослушки, а к высокой цели ведут провокации в духе Азефа. Сюжет книги взят из позавчерашних газет и неряшливо аранжирован привычными для автора тошнотворными физиологизмами (чего стоит сцена потрошения свиньи в эфире ТВ) или восхвалениями Сталина. Даже традиционный прохановский эротизм превращен тут в дежурное блюдо. «Он целовал ее ноги, чуткий живот, вьющийся теплый лобок» (Чегоданов и его женщина), «он целовал ее шею, плечи, грудь, прижимался горячим лицом к животу» (Градобоев и его женщина), «он целовал ее шею, ее открытую грудь, и она чувствовала, как от его поцелуев наливаются и твердеют соски» (а это уже Бекетов и его женщина). Как видим, отличия минимальны: похоже, на сей раз возобладал коммерческий принцип экономии усилий. Если эротика — довесок к политическому блюду, надо ли изобретать что-то эксклюзивное? Отметились — и ладно…
Вскоре после выхода книги в свет Александр Проханов пригласил в эфир «Эха Москвы» Алексея Навального и под конец программы сознался, что гость послужил прототипом одного из «оранжистов» (то есть Градобоева). После чего попросил его прочесть роман и добавил: «Очень надеюсь, что, может быть, он вас предостережет от тех опасностей или, может быть, ошибок, которые вас впереди подстерегают». Ну теперь-то, конечно, Алексей Анатольевич будет настороже: не станет слушать советов Суркова, а если тот сам заявится в штаб оппозиции, то будет обыскан на предмет скрытого микрофона. Спасибо душке Проханову — предупредил.
Иосиф и его братва
Эдвард Радзинский. Апокалипсис от Кобы. Иосиф Сталин. Начало. М.: АСТ
Эдвард Радзинский может быть, если надо, предельно скромным. В новой книге он мелькнет перед читателем лишь в самом начале — словно робеющий дальний родственник на пышной кавказской свадьбе — и тут же торопливо задвинется в тень, уступая место во главе стола настоящему тамаде. Им, по версии романиста, окажется некто Нодар Фудзи. Этот секретный старик будто бы еще сорок лет назад отдал приехавшему в Париж Радзинскому мемуары о товарище Сталине: начиная с босоногого детства сына сапожника-пьяницы юного хулигана Сосо и вплоть до смерти генералиссимуса и генсека в марте 1953 года. Точнее, сперва в записках Фудзи возникнет самый последний день «отца народов», а дальнейшее повествование станет гигантским флэшбэком…
Мысль о том, что Сталин, при всей его подозрительности, мог бы совершить промах и в ходе тотальной «зачистки» ближайшего окружения упустить хоть одного потенциального мемуариста, впервые пришла в голову вовсе не Радзинскому.
Еще в 1988 году был опубликован роман Владимира Успенского «Тайный советник вождя». Согласно сюжету, у Сталина уже в годы Гражданской войны якобы завелся друг-конфидент Николай Лукашов из числа царских офицеров. Вопреки названию, Лукашов не столько давал вождю советы (да полно, нуждается ли в них гений?), сколько оправдывал его в глазах потомков. Все победы золотыми жар-птицами слетались на белый сталинский китель, а все черные кляксы гнусных преступлений пачкали и без того замаранные одежды сталинских приспешников — в основном из числа скрытых или явных сионистов. Свою прозу Успенский упорно называл документальной и сердился, когда его записывали в мистификаторы.
Реального создателя «Апокалипсиса от Кобы» при желании еще проще поймать на мистификации, чем автора «Тайного советника вождя»: язык повествователя порой выглядит чересчур современным, а в тексте записок то и дело встречаются забавные анахронизмы («страны-изгои», «горячие финские парни» и пр.), выдающие не парижанина 60-х, а скорее, москвича начала нулевых. Однако, в отличие от насупленного Успенского, Радзинский ведет себя умнее. Он даже не очень старательно скрывает, что эмигрант Нодар Фудзи — образ вымышленный, а его мемуары — литературный прием, позволяющий взглянуть изнутри на историю неуклонного восхождения Иосифа Сталина к вершинам власти. Играя «в документ», автор не заигрывается; он знает, где надо остаться серьезным, а где можно и подмигнуть понимающему читателю. Так что когда Коба вдруг выдает тираду: «Им нужны великие споры, а нам нужно великое пролетарское государство», то это не Сталин перефразирует Столыпина, а сам Радзинский балуется постмодернизмом.
Не желая быть банальным, автор книги пытается избегать штампов, и зачастую ему это удается. Скажем, он без ущерба для фабулы почти выводит за рамки знаменитый сталинский акцент, который, по выражению одного из критиков, неизбежно превращал всякого книжного Иосифа Виссарионовича в пишущую машинку конторы «Рога и копыта», с буквой «э» вместо каждой буквы «е». Более того! Радзинский не боится даже взять анекдот («Товарищ Сталин, тут поймали человека, похожего на вас. Как с ним поступить — расстрелять или просто сбрить усы?») и сделать из него важный кирпичик фундамента всего сюжета. Постоянно упоминаемое внешнее сходство Фудзи с его героем подчеркнет и внутреннюю близость персонажей. Рассказчик — не просто свидетель: он зеркало, кармический двойник Сталина и соучастник его злодеяний.
Досадно другое. Чем дольше Радзинский прячется за маской Фудзи, тем сильнее этот хроникер лихих «экспроприаций» выкручивает рулевое колесо сюжета в свою сторону. Разбойничья эстетика сталкивает повествование в бульварщину. Налетчик и убийца, ставший рассказчиком, формирует не только стиль, но и систему мотиваций. Рациональное отступает, на смену приходит мистическая экзальтация; доминируют не логика с расчетом, а «странная сила, исходившая от моего друга». «Магнетизм» заглавного героя оказывается острой приправой к марксизму, толстяк Парвус — «таинственным толкачом революции», зануда Свердлов — «Черным Дьяволом», глаза Ильича вспыхивают «фантастическим, злобным светом» и т. п. Эпизод ночного ограбления могилы инфернального Распутина выглядит какой-то «Пещерой Лейхтвейса» пополам с «Натом Пинкертоном». Драматическая история огромной страны приобретает привкус — как сказал бы булгаковский Тальберг — оперетки. Случайно ли, что цветастое выражение «барс революции» применительно к Сталину употребляется тут не единожды и не дважды, а более полудюжины раз?
Впрочем, здесь-то как раз всё очевидно: по версии Радзинского, в марте 1953-го Сталин был насильственно умерщвлен, и иначе быть не могло. Всякий, кто читал романтическую поэму Лермонтова «Мцыри», знает, что барсы естественной смертью не умирают.
Нам вождя недоставало
Эдвард Радзинский. Иосиф Сталин. Последняя загадка: Роман. М.: Астрель
В «Мертвых душах» Чичиков уговаривает Коробочку уступить ему покойных крепостных за гроши. Дескать, он оплатит реальными деньгами прах, бесполезную вещь. «А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся», — жмется помещица, боясь продешевить. Чичиков сердится: «Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?..» Между тем Коробочка в принципе права, не соглашаясь на демпинг: среди усопших встречаются и полезные. Они стоят дорого и, главное, торговать ими можно не один раз.
К примеру, Иосиф Сталин — именно такой высоколиквидный мертвец многократного использования. Нынешняя власть достает из своих необъятных загашников мешочек с бренными костями генералиссимуса и громко трясет им всякий раз, когда ей необходимо приободрить державников и попугать либералов. И пока стенка идет на стенку, в грохоте словесных баталий совершенно теряется тихий шелест ассигнаций, перекладываемых из одного большого кармана в другой.
Выход в свет третьего, заключительного тома эпопеи «Апокалипсис от Кобы» довольно удачно (для автора и книготорговцев) совпал по времени с круглой датой исторической битвы на Волге и очередным вбросом на игровое поле заветного сталинского мешочка. В те самые дни, когда фан-клуб генсека опять пытался вернуть — хоть тушкой, хоть чучелом! — любимого вождя на карту России, а противники вновь ужасались перспективе переименования Волгограда в Палачегорск, на прилавках и возникла книга Эдварда Радзинского: история про то, какие масштабные гадости напоследок готовил для страны и всего мира рябой усатый старик.
Рассказчиком в романе по-прежнему выступает некто Нодар Фудзи — приятель Кобы с дореволюционной еще поры. Такой ход позволил романисту не слишком заботиться о красотах слога. «Нет, я не могу ее хорошо описать, я ведь не писатель», — оговаривается Фудзи, а Радзинский, который якобы выступает публикатором чужой рукописи, тут вроде ни при чем. Порой автор слегка оживляет повествование вставными эротическими номерами («Юбка упала к ногам. Она стояла в тех же ажурных чулках… Повернулась и, чуть наклонившись, поиграла задом»), но в целом следует суховатой исторической канве.
Для поступательного развития сюжета трех томов писателю необходим зоркий хроникер, который бы запечатлел Сталина в каждый из периодов его бурной жизни. А поскольку к началу 40-х едва ли не все из «удалых грузинских парней», кто мог бы еще помнить молодого Сосо, были уже в земле, Радзинскому пришлось изначально выдумать Фудзи, а его биографию сконструировать из фрагментов биографий реальных соратников вождя. Автор, впрочем, добавил своему персонажу малую толику рефлексии и присовокупил столь необходимое умение выживать там, где прочие уцелеть не смогли.
Отсидев в лагере, лишившись зубов и веры в завтрашний день, повествователь вновь — по мановению вождя — оказывается в его «ближнем круге». Хроникер видит, как после мая 45-го в глазах Кобы, ставшего победителем, вспыхивает страшноватый огонек всепланетного мессианства. Из намеков и оговорок вождя проступают контуры главной его задумки — ядерной схватки с империалистами и нового передела мира по сталинским лекалам. Не то чтобы Нодара Фудзи волнует судьба человечества. Однако герой прекрасно помнит, что реализацию каждой новой мегаидеи Коба обычно предваряет массовой «зачисткой» ближайшего окружения. Таким образом отношения двух бывших друзей детства упрощаются до элементарного: кто кого успеет раньше закопать?
Читатель первого тома трилогии помнит, что в прологе повествователь обещал рассказать правду о событиях 28 февраля 1953 года — последнем дне, когда Фудзи видел Сталина живым. Однако в «последней загадке» нет, собственно, ничего загадочного: если заранее известно, что хроникер пережил героя своей хроники и если в ходе сюжета не раз было упомянуто о существовании секретной лаборатории, где по заказу руководства ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ изготавливались смертельные снадобья для врагов Сталина, очевидно, что один из ядов — по закону бумеранга — в финале неизбежно достанется и самому генсеку…
Радзинский — «человек из телевизора», поэтому его произведение заметят. Но боюсь, маркетологи не просчитали целевую аудиторию. Противникам Сталина и без романа Радзинского известно о лагерях, расстрелах, секретных «шарашках», «деле врачей», «борьбе с космополитизмом». Фанатов вождя, которых за все минувшие годы не убедили исторические документы, тем более не переубедит художественный вымысел писателя. Ну а тот, кто читает ради развлечения и отвлечения, и вовсе почувствует себя обманутым: про заговор с участием Лаврентия Берии сказано подробно, а про сексуальные игрища Лаврентия Палыча — мельком. За что, спрашивается, деньги уплочены?
Начала и концы
Эдвард Радзинский. Князь. Записки стукача. М.: АСТ
Действие романа начинается в 1919 году, в голодном заснеженном Петрограде. В руки князя Алексея В-го — тайного агента полиции и одновременно спонсора народовольцев — попадают откровенные дневники Александра II. Сбежав из России, князь публикует царские записки, перемежая их с собственными воспоминаниями. А поскольку Алексей В-й вращался в свете, был связан с подпольем и часто бывал за границей, его героями оказываются разнообразные исторические личности — от членов императорской фамилии до Маркса, Достоевского и Софьи Перовской…
Нельзя сказать, что композиция новой книги Эдварда Радзинского очень оригинальна. Еще два столетия назад в романе Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра» записки кота как бы случайно соседствовали с фрагментами биографии музыканта Иоганнеса Крейслера. Для писателя-романтика такое построение книги имело глубокий смысл. Пошлость кота-филистера оттеняла трагизм судьбы гениального композитора.
У Радзинского этот прием не работает: контраст между двумя повествованиями начисто отсутствует. «Мне скучно с мужчинами. Но достаточно войти молодой женщине — я преображаюсь». «У меня было очень много женщин. Я привык властвовать в постели». «Забавы становились все изощреннее». «Однажды мы купались вдвоем в моей огромной ванне, и мне захотелось покурить травку». «Теряешь рассудок в летишь в бездну между женскими ногами». «Я поклялся — никаких европейских дам. Мои прихоти удовлетворяла любовница-таиландка. Эту шестнадцатилетнюю красотку я купил у ее отца». И т. п. Ну и где тут Александр II, а где Алексей В-й? Если бы все фрагменты были набраны одним и тем же шрифтом, читатель, раскрыв книгу на середине, вряд ли бы с ходу отличил царя-реформатора от князя-стукача.
Судя по книге Радзинского, история России принадлежит не царям и не народу, но исключительно будуару. Князь дает народовольцам деньги на динамит для покушения на самодержца, потому что среди будущих цареубийц — Софья Перовская, а В-й был ее первым мужчиной и еще испытывает к ней страсть. В свою очередь, Александр II сам приближает свою гибель, нервируя сына своим романом с княжной Долгоруковой, ради которой он готов изменить правила престолонаследия. Собственно, и дневник император ведет не ради того, чтобы занести туда мысли о переустройстве страны, а чтобы посмаковать отношения с любовницей: «записывая, переживать вновь… те грешные и сладкие минуты».
В книге есть царский монолог, где высокие обязанности перед страной как бы уравновешены правом на «тайные страсти»: «Это не извращенность и не моя греховность, но страшный наследственный огонь». Что ж, против генов не попрешь. Вот портрет Екатерины I: «груди рвутся из корсажа». Вот Петр III, который «поселил в своих апартаментах любовницу». Вот жена его, будущая Екатерина II, — «через постель присоединила к заговору всю гвардию» и взошла на трон. Вот ее внук Александр I, ценитель красоты, готовый «увлечься вульгарной девкой». И так далее — по списку. Правда, с последней русской императрицей Григорий Распутин, вопреки слухам, не спал. Но не потому, что супруга Николая II этого не желала, а оттого, что «старец» был весьма разборчив: Александра Федоровна была худа, а Распутин предпочитал пышных.
По мере чтения романа выясняется, что «тайным страстям» вообще подвержены все: высокородные и безродные, гении и злодеи, цари и борцы с самодержавием. У всех свербит в одном месте. Престарелый поэт Жуковский пылает страстью к шестнадцатилетке. Архитектор европейской политики князь Меттерних — «первостатейный Дон Жуан». Экономка Карла Маркса в отсутствие его жены «успешно исполняла за нее супружеские обязанности». Бонвиван Фридрих Энгельс «изучал анатомию по телу некой госпожи N». Народоволец Желябов торопит с покушением на Александра II, чтобы произвести впечатление на Перовскую, которую ревнует к князю-спонсору. Юная стенографистка Анна Сниткина стала Достоевскому «и матерью, и ребенком, и бесстыдной грешной любовницей», а тем временем сам Федор Михайлович, оказывается, уже заглядывается на прекрасную нигилистку-террористку, статную брюнетку и двойного агента. Автор книги, может, и рад бы порой отклониться от постельной темы в сторону высокой политики, но с колеи уже не свернуть. Даже крестьянская реформа — и та предстает перед читателем сквозь призму будуара: «Это был как бы медовый месяц пылкой любви между царем и всей прогрессивной Россией».
Любопытно, что в одном из эпизодов романа князя В-го укоряют за отсутствие вкуса: мол, его дворец «похож на шикарный парижский бордель». Упрек легко переадресовать и самому романисту. Да, массовый пятидесятитысячный тираж обязывает автора быть доступней, но все-таки взгляд на историю страны как на один нескончаемый «половой вопрос» — это уж чересчур.
Бабы Копра
Русские женщины: 47 рассказов о женщинах / Сост. Павел Крусанов, Александр Етоев. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус
Вы не поверите, но этот сборник рассказов составил не Захар Прилепин! Более того, его здесь даже нет в качестве автора. Случилось это потому, что Прилепина по традиции привечает Москва, а за покорение «Русских женщин» взялись составители с берегов Невы, определившие свой круг авторов. Павел Крусанов, Андрей Константинов, Вадим Левенталь, Мария Панкевич, Герман Садулаев и другие, сплотившись, отстояли приоритет Петербурга. Поребрик выиграл у бордюра со счетом 18:13. При этом читателю напомнили, что в культурной столице, как в Греции, есть всё — даже свой Василий Аксенов. Он, правда, не Павлович, а Иванович, зато живой нутряной деревенщик: «Падают с листьев наземь шлепко гусеницы угоревшие», «оболоклись бабы в мужские пиджаки» и пр.
Мужская одежда на женских плечах — не просто бытовая деталь, это символ, восходящий к песне «Ромашки спрятались, поникли лютики» о гордости женщин и подлости мужчин. Среди последних, кстати, нет красавцев — по крайней мере, в большинстве рассказов сборника. Якобы сильная половина человечества выглядит неприглядной биомассой: «Сережа всерьез запил еще с трикотажа», «муж запил вместе со всеми», «бывший военный, пил сильно», «тем временем он напивается», «папа Степы безбожно пил», «у нас там все мужики алкаши», «он бухал по-черному, бил нас всех троих». И далее в том же духе.
Легко догадаться, что однажды чаша терпения женщины переполнится. И тогда… «Тамара Михайловна крепко держит в руке молоток — у нее не выбьешь из руки молоток», «каблуком по голени, резкий разворот», «зубами его раз за руку, чуть не откусила», «она сломала ему нос — одним ударом», «она убила соседа», «мчусь на квадроцикле, стреляю на ходу», «в милицейскую школу пошла только для того, чтобы получить оружие, а потом мочить этих гадов…».
В числе авторов-москвичей, попавших в сборник, оказались бывший уралец Вячеслав Курицын и бывший волжанин Алексей Слаповский. Оба поступили умнее прочих: занялись деконструкцией замысла составителей, написав рассказы о том, как хотели написать рассказы в сборник на «женскую тему». Размышляя о будущей книге, герой Слаповского не без яда предрекал: «И наверняка половина рассказов будет о том, как русская женщина преодолевает тяжкую русскую долю… А вторая половина — о бабьей самоотверженной любви к неблагодарным мужьям и детям!» Алексей Иванович как в воду глядел: рассказы и впрямь сливаются в мегатекст с единым депрессивным сюжетом: обобщенная женщина, побывав на войне, крестьянствовала, учительствовала, рожала детей, челночила в 90-х, подрабатывала где придется (даже в притонах Амстердама), сама поднимала детей и внуков — и тут жизнь кончалась. Хеппи-энд? Он может быть лишь в пародиях, вроде поэмы Всеволода Емелина «Снежана» — единственного стихотворного текста, который занесло в книгу прозы.
Помимо Емелина грех не упомянуть в рецензии еще одного известного поэта. Хотя произведения этого петербуржца в книге не опубликованы, они незримо присутствуют. Речь идет о Николае Некрасове. Именно к его одноименной поэме отсылает читателя название сборника. «Далек мой путь, тяжел мой путь, / Страшна судьба моя, / Но сталью я одела грудь… / Гордись — я дочь твоя!» — с этими словами княгиня Трубецкая из «Русских женщин» отправляется вслед за мужем в Сибирь. «Стираю, мою, хожу за тобой, как жена декабриста», — мысленно корит мужа-бездельника героиня рассказа Мирослава Бакулина. Почувствовали дистанцию? В головах авторов сборника занозой засели и цитаты из другой некрасовской поэмы. «Есть женщины в русских селеньях», — испуганно думает герой Валерия Попова о болтливой соседке. «Настоящая русская женщина — коня на скаку останавливает, как бетонная стенка», — с иронией характеризует героиню Алексей Евдокимов. А упомянутый Емелин не упустит повода для сарказма: «На ходу остановит кроссовер / И в горящий войдет суши-бар…»
Зря тревожат прах Некрасова составители. Как бы они ни старались быть серьезными, перекличка эпох выглядит карикатурой. Высокая драма самопожертвования часто заиграна до уровня коммунальной склоки, а вместо силы духа — неаппетитная гора плоти: «В макушке Лейла достигала потолка», «похожа на гору», «монументальное туловище», «арбузные груди», «груди, больше похожие на подушки», «как две стратегические боеголовки, выпирали из широкого торса груди», «слоноподобный шаг», «крупная, фигуру имеет слоноподобную, с тяжелыми широкими руками и ногами», «у нее все крупное — лицо, шея, плечи, грудь, бедра», «она была громадная, черная и страшная, как клизма. От макушки тянулась вверх волосатая антенна»…
Виноват, последняя цитата — это уже не героиня очередного рассказа, а редька, купленная ей на базаре. Хотя для многих авторов сборника разница, боюсь, невелика.
Достаньте меня из-за плинтуса
Павел Санаев. Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом-2: Роман. М.: АСТ
Достигнув девятнадцати лет, московский юноша понимает: он — Раздолбай. Это больше чем прозвище, это почти диагноз. Учиться лень, работать не хочется, читать скучно. У него нет увлечений, друзей и девушки. Однажды родители дарят ему путевку в прибалтийский санаторий. Раздолбай нехотя принимает подарок. Он не знает, что скоро у него появятся новые знакомые, а с ними придут перемены…
Павел Санаев — личность известная и разносторонняя. Зрители постарше помнят сделанные им переводы фильмов эпохи «пиратского видео». Зрители помоложе знают его как режиссера зубодробительных кибертриллеров «На игре» и «На игре-2». Ну а те, кто следит за встречами Владимира Путина с культурбомондом, наверняка обратили внимание на человека, призывавшего усилить борьбу с Интернетом — опасным источником распространения «тяжёлых наркотиков, которые делают людей идиотами». Этим взволнованным деятелем культуры был всё тот же Павел Санаев.
Впрочем, многим российским гражданам Павел Владимирович знаком прежде всего как создатель — и одновременно персонаж — книги «Похороните меня за плинтусом». Роман, написанный им в 26 лет, был выпущен отдельным изданием в 2003 году и, по словам автора, «стал суперпопулярным». В персонажах угадывались реальные люди — мать Елена Санаева, отчим Ролан Быков, дед Всеволод Санаев, а главная героиня, бабушка, выглядела тут подлинным чудовищем, чья ненавидящая любовь (или любовная ненависть) к внуку превращала жизнь семилетнего Саши Савельева в кромешный ад. Повествователь исторг из себя комок боли и переплавил детские муки в пронзительный текст. Да, роман был выстроен на одном приеме, понятном уже через пару глав, и дальше нас ждали неминуемые повторы. Но все огрехи мы легко прощали автору — за искренность интонации и непридуманность описанных событий…
И вот десять лет спустя у Павла Санаева выходит второй роман, в названии которого обозначена отсылка к предыдущему. Однако всякого, кто поверит в цифру «2», ждет разочарование: перед нами лишь демонстрация маркетинговой уловки. Читателю нравятся сиквелы? Ладно, пусть считается сиквел. На самом деле — ничего подобного. И проблема даже не в том, что герой «Хроник» и Саша Савельев — вообще разные люди, причем чисто биографически (в новом романе, например, свою бабушку Раздолбай «почти не знал»). Вторая книга оказывается противоположностью первой, словно их писали тоже разные люди и по разным причинам: прежний роман — потому что не было иного способа избавиться от боли, роман нынешний — потому что писателю, если он не хочет остаться на бобах, положено иногда выдавать новые тексты.
Увы, Павел Санаев — из тех литераторов, кто умеет вспоминать и переживать, но катастрофически не умеет придумывать. Так что когда ему приходится строить сюжет, автор начинает оглядываться по сторонам: от чего бы оттолкнуться, к чему бы прислониться. Сюжет «Хроник Раздолбая» смахивает на приключения деревянного человечка: не Пиноккио, а его советского кузена Буратино — в экранизации этой сказки когда-то снимались мать и отчим. По режиссерской привычке, автор книги раздает персонажам готовые роли. Мама теперь будет Тортиллой, а отчим — папой Карло. Благодаря поездке героя в санаторий в книге появятся и другие фигуранты. Алиса с Базилио — новые приятели Валера и Мартин. Красотка Мальвина — прекрасная пианистка Диана. Дуремар — мелкий спекулянт Сергей. Резонер сверчок — верующий скрипач Миша (он пытается наставить нашего героя на путь истинный).
Продажа детской железной дороги рифмуется с продажей азбуки, но никто не посягает на жалкие четыре сольдо. У всех вокруг есть задача поважнее: открыть Раздолбаю какую-нибудь Истину — на две, на три, на пять страниц — и переманить на свою сторону. Поскольку главный герой фантастически невежествен, он жадно впитывает любую банальность — однако в чем провинился читатель? И зачем ему спотыкаться на фразах про «лучистые искорки» в глазах, про «волнительный холодок под ложечкой», про то, как «вспыхивали слайды счастливых минут» и как «бесстыжие лучи посыпались из ее глаз»? Это тоже коммерческий, но уж совсем убогий жанр…
Как мы помним, книга «Похороните меня за плинтусом» завершалась только тогда, когда юный Саша выплескивал все свои страдания: осада двери, последние слова бабушки, ее похороны, конец. Новый роман расчетливо оборван на полуслове: вторая часть второй книги будет позже. Алиса с Базилио разбрелись кто куда, Дуремар разронял пиявок, но золотой ключик пока в тине и Карабас еще за кадром. Жди, читатель, терпи, следи за рекламой.
Право же, нам очень повезло, что хронику Саши Савельева написал и издал малоопытный в коммерции автор. Если бы за дело взялся Санаев нынешний, он бы заставил маленького Сашу помучиться еще для второго тома, а бабушку и вовсе сделал бессмертной, как Дункан Маклауд. А что? Полезная старушка, может пригодиться.
Гвозди бы делать для этих людей
Владимир Сорокин. Теллурия: Роман. М.: АСТ, CORPUS
Теллур (Tellurium) — 52-й элемент периодической системы, относится к семейству металлоидов. Теллур хрупок, быстро окисляется, в чистом виде встречается редко, при попадании внутрь человеческого организма вызывает отравление. Но это — в реальности. В новом романе Владимира Сорокина законы природы подправлены. Самородный теллур здесь добывают без труда и куют особые гвозди. Едва такой гвоздь вбит в нужную точку на черепе, человек погружается в мир иллюзий и там получает свое. Верующий обретает Бога, вдова — ушедшего мужа, Каин — раскаянье, и т. д. Если бы героям Фрэнка Баума на полпути к Озу встретился мастер с набором чудо-гвоздей, то сказка завершилась бы намного раньше: Лев вообразил бы себя смелым, Страшила мудрым, а юной Дороти почудилось бы, что она снова вернулась в Канзас.
По сути, и сам роман Сорокина — набор тех же теллуровых гвоздей, предназначенных для множества читательских затылков.
«Вы либерал? Православный патриот? Державник? Нацист? Коммунист? Монархист? Гомосексуалист? Натурал? Зоофил? Каннибал? Спешите приобрести новейший бестселлер «Теллурия»! В одной из полусотни глав, составляющих книгу, вы обязательно найдете то, что будет созвучно именно вашей душе. Четырехсотстраничный роман, как хороший пятизвездочный отель, работает по системе «всё включено». Писатель берет на учет любые мечты и фантазии, реализуя их по первому требованию без дополнительной оплаты».
Примерно так могла бы выглядеть рекламная аннотация к роману, если бы рафинированные его издатели намеревались продать не двадцать тысяч экземпляров, а все двести и потому не чурались агрессивного маркетинга. Между тем Сорокин, кумир тонкой (и оттого, увы, коммерчески ограниченной) прослойки интеллигенции, наконец-то создал продукт более широкого потребления. В один роман, как в безразмерный походный рюкзак, автор сложил разнообразные чаяния своих потенциальных читателей, чтобы каждому досталось хоть по сегментику ожидаемого ими будущего. Полсотни глав, где такое будущее описано, — это полсотни отдельных маленьких утопий, на любой вкус, цвет и настрой.
Оптимист, уповающий на технический прогресс, увидит плоды генной инженерии и порадуется универсальным компьютерам, которые легко смять в шарик или растянуть до размера простыни. Пессимист, готовый узреть панораму регресса, может полюбоваться голой заснеженной степью, натуральным хозяйством в натуральную величину и ржавыми тарахтелками на картофельной тяге. Тот, кто верует в Аллаха Немилосердного, грезит закатом Европы и ей же грозит джихадом, прочтет в романе о победоносной высадке талибов в Германии и о том, как Старый Свет едва не превратился в новый халифат. Того, кто ждет реванша европейского христианства, автор тоже не обидит: предложит картину крестового похода завтрашних тамплиеров, седлающих гигантских роботов и улетающих на восход.
Не осталось без внимания писателя и грядущее его собственной страны. Автор делит Россию завтрашнего дня на мелкие кусочки и к каждому цепляет отдельную историйку. Те из читателей, кто заскучал по борьбе, осененной серпасто-молоткастым стягом, отыщут в книге главу об уральском партизанском отряде, стилизованную под передовицу «Красной звезды» 40-х. Те, кому милы образы батюшки-царя, графов-князей, предводителей дворянства и адъютантов всех мыслимых превосходительств, тоже не внакладе: им автор предложит идиллическую картину грядущей монархической Рязани. Те, кто мечтает о национальной самобытности и «сильной руке», с радостью узреют Москву, где устои тверды, а иноземные слова, вроде «Интернета» или «петтинга», запрещены законом. Для тех, кто не расположен к теперешнему российскому лидеру, есть в книге анекдот про трех лысых истуканов, расчленивших Россию. Ну а те, кого раздражают уличные акции оппозиции, будут рады намеренно издевательской главе, в которой «размягченное и основательное pro-тесто вытекло на Болотную площадь, слиплось в гомогенную массу и заняло почти все пространство площади».
Понятно, что при таком подходе роман лишается даже подобия главных героев и единства стиля, превращаясь в разухабисто-унылый фельетон — лоскутное одеяло, сшитое из сиюминутных прогнозов политологов, желтеющих газетных передовиц, постмодернистских каламбуров и скабрезных анекдотцев. Быть может, затея бы так-сяк удалась, если бы автор сумел изобрести сюжетный клей, могущий подружить гномиков с партизанами, крестоносцев с псоглавцами, парторгов с киборгами, а колхозников с царевной-нимфоманкой и целым взводом говорящих фаллосов. Но чуда не случилось. Подобно тому, как из десятков шустрых карасиков нельзя собрать одного кита, пестрая россыпь квазиутопий не сложилось у Сорокина в цельное полотно. Гвоздь, даже теллуровый, все-таки не годится на роль сюжетного стержня: и размером он не вышел, и прочность не та.
Аллес капут
Александр Терехов. Немцы: Роман. М.: Астрель
Итак, в 1941 году Гитлеру все-таки удалось взять Москву. Но победа оказалась пирровой: подчинив огромное пространство, населенное миллионами людей со своим жизненным укладом, захватчики в итоге растворились среди побежденного народа, постепенно утратив свою ментальность. Прошло меньше шести десятилетий — и где вы теперь, потомки истинных арийцев, чьи танки утюжили арбатскую брусчатку под музыку вагнеровского «Полета валькирий»? Ау, нибелунги, ау, сверхчеловеки? Куда подевался ваш хваленый ordnung?
В новой книге Александра Терехова немцы давно не хозяева Москвы, захваченной их предками, а ютятся на правах приживалов. Главный персонаж, Эбергард, руководит пресс-центром одного из столичных округов, притом не самого важного. Соплеменники Эбергарда — Хериберт, Фриц и Хассо — приписаны к районным управам и тихо копошатся на должностишках пока еще хлебных, но уже третьестепенных. Рудиментарная аккуратность и принадлежность к нации завоевателей не гарантируют им безоблачной жизни; любой новый назначенец может перетряхнуть кадры и поставить «на финансовые потоки» своих. Это и происходит в финале романа: Эбергарду и прочим арийцам дают пинка, а освободившиеся места оккупируют мутные люди с руками-ковшами, чье главное предназначение — хапать…
Роман «Немцы» уже успел получить литературную премию «Национальный бестселлер» и номинирован на премию «Большая книга». Книга и впрямь объемная, а станет ли она бестселлером — покажет будущее. У романа есть достоинства, хотя едва ли художественные: два редактора, приставленные к Терехову издательством «Астрель», не сумели уберечь читателя от «мелкоживотных когтей», «укоряющих мелкозубых мыслей», «закричавших глаз», «по-старообрядчески двупалых свиных ног», от «разговора с дизайнером, с наклеенными ресницами» и прочей «беготни друг за другом с потными головами по новому снегу» (бегать головами по снегу — чистый цирк!).
«Старческая жадность к любой детали, одышливое нервное многословие, стремление охватить в одной фразе все видимые глазом мелочи» — эти черты прозы Терехова, замеченные рецензентом «Литгазеты» еще два десятилетия назад, видны и сегодня. Ничего не изменилось — разве что фразы стали еще длиннее: некоторые растянуты аж до размеров страницы. В тексте «Немцев» по-прежнему так же тесно и душно, как в переполненном вагоне метро: «разнокалиберные коробки с микроволновками, автомобильными телевизорами, суперпылесосами, компьютерами и ящиками вина», «подальше от разговоров, чоканий, спортивных трансляций, грохота, сопровождающего поглощение пищи», «с какими-то блестящими мелкими штучками, прилепленными на веки, кольцами, запахом, краешком красных трусов и браслетами», «согласились стать мусорщиками, проводниками поездов, расклейщиками объявлений, вахтерами, водителями, продавцами, массажистами, нянями грудных детей, дворниками, кассирами платных туалетов, переносчиками тяжестей» — не роман, а реестр.
В книге Терехова Москва, пережившая оккупацию, мало чем отличается от столицы времен Лужкова. Ну разве что административные округа в этой реальности нарезаны чуть иначе, географические названия слегка изменились, бургомистра и его бизнес-жену зовут не Юрием и Леной, а Григорием и Лидой. Вот и вся разница. Прочее же знакомо до боли: тут и архитектурная экспансия «имперского стиля» в духе Шпеера, и наглая ложь официозных СМИ, и стирание грани между рэкетиром и правоохранителем. Но прежде всего — тотальная коррупция, пронизывающая все этажи человеческого муравейника.
Антикоррупционный пафос — сильная сторона романа. Даже на фоне антилужковской публицистики канала НТВ роман Терехова выигрывает за счет искренней, почти на физиологическом уровне, ненависти повествователя к чиновничьему классу. Для автора это не люди, а монстры и зомби: «жирный, одышливый, возвышавшийся над всеми преждевременно облетевшей головой», «что-то в нем дополнительно болезненно приоткрылось, как окаменевшая и заросшая слизистой зеленью раковина, внутри которой блеснуло какое-то дрожащее окровавленное желе», «словно рубанком со стальным широким лезвием хитрому хохлу в косметических сезонных целях сняли старую кожу вместе с глазами», «лицо пятнистое, с какими-то впадинами и разрыхлениями», «растопырил малиновые, словно отдавленные, пальцы», «щеки подрагивали, словно во рту Хериберт держал бьющееся сердце»… Может, по роману Терехова и не удастся снять обличительное кино о чиновниках столицы, зато книгу легко превратить в сценарий голливудской страшилки — в духе «Чужих» или «Ночи живых мертвецов».
Исполнительный директор «Национального бестселлера» Вадим Левенталь, желая похвалить роман лауреата, красиво назвал его «прозой, от которой сердце в груди поворачивается». Надо полагать, это то самое сердце, которое раньше побывало у бедняги Хериберта во рту.
Хухры-мухры
Фигль-Мигль. Волки и медведи: Роман. СПб.: Лимбус пресс, ООО «Издательство К. Тублина»
После того как в финал премии «Национальный бестселлер» вышли «Волки и медведи» таинственного Фигля-Мигля и «Красный свет» Максима Кантора, шансы последнего сократились: по премиальному протоколу, лауреат обязан подняться на сцену и сказать речь, но за недолгий срок пребывания в нашем медиапространстве лондонский гастролер Максим Карлович успел намозолить глаза. Все знали, кто он, о чем будет вещать и даже в каких выражениях. А вот Фигль-Мигль — дело другое. Секрет псевдонима сохранялся вплоть до финала, поэтому жюри не могло не сделать выбора в пользу «черной магии с ее разоблачением». Ну хотя бы для того, чтобы добавить некоторой живости костенеющему «Нацбесту».
Впрочем, раскрытие автора «Волков и медведей» не вызвало бурной сенсации. Многие надеялись узреть под маской известную персону — бизнесмена, крупного чиновника или, на худой конец, депутата петербургского Законодательного собрания, — однако филолог Екатерина Чеботарева не принадлежит ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. Так что едва умолкли премиальные фанфары, спецы по книжному маркетингу и критики стали судачить: мол, несмотря на лауреатство, коммерческий успех маловероятен, да и попасть на Парнас автору с псевдонимом, восходящим к слову «фига», — все равно что верблюду прошмыгнуть сквозь игольное ушко фейсконтроля.
Возможно, критики и маркетологи правы. Но в данной ситуации Екатерина Чеботарева хотя бы поступила честно. Читатель получает от книги ровно то, на что его заранее настраивает имя на обложке. Подобно вещам гоголевского Собакевича, которые были похожи на хозяина и подавали сигналы: «И я Собакевич!», «Я тоже Собакевич!», тотальный фигль-мигль выглядывает изо всех складочек романа и подмигивает с каждой из 496 страниц.
По жанру «Волки и медведи» будто бы изначально претендуют на звание антиутопии и постапокалиптики, но по сути перед нами явный фигль-мигль — нечто пестрое, построенное без фундамента, кое-как сшитое на живую нитку и раскрашенное тяп-ляп-малярами. Апокалипсис, если здесь и был, вынесен за скобки. Следствия и причины, дрыгая ножками, озадаченно повисли в воздухе. Писательница не снисходит до объяснений, каким образом Петербург развалился на части (левый берег Невы — отдельно, правый — отдельно, на мостах — блокпосты), и отчего в это же время активизировался потусторонний мир с его мстительными призраками. Ну, короче, так совпало, и все. Почему? Нипочему, это же вам роман, а не научный трактат. Чего пристали к девушке?
Сюжет романа — вроде бы авантюрно-политический и отчасти якобы детективный, но на деле — фигль-мигль. Значит, так, следите за руками: ученый по прозвищу Фиговидец отправляется в местные Джунгли в компании с уникумом по прозвищу Разноглазый, который зарабатывает на хлеб, изгоняя привидений из снов клиентов, среди которых оказывается периферийный босс по прозвищу Канцлер, который хочет объединить город и окрестности, которые не хотят объединяться… Те, кто не читал предыдущего романа автора, не поймет вообще ничего, однако и тем, кто вымучил это злополучное «Щастье», все равно не разобраться в хитросплетениях. Все воюют друг с другом — менты и контрабандисты, дружинники и анархисты, снайперы и сталкеры — а ожившее неубиваемое привидение по кличке Сахарок воюет против всех. Но главное идолище поганое — не он, а бродячий призрак капитализма. «Пока прибыль покрывает убытки, космополитическая свободная торговля будет функционировать: рядом с пытками, рядом с убийствами, рядом с концом света…»
Стиль романа — вроде бы изысканный, но при рассмотрении он тоже фигли-миглистый, суфле да бланманже. «Узкоплечий силуэт» и «торопливый рыжий закат», «ядовитые искры истерики» и «воздух напряжения и тоски», «неожиданно клыкастые скалы» и «разбивавшие сердца скулы», «крепко плещущееся на ветру знамя гедонизма» и «булавки гневных и презрительных взглядов». Здесь «апофеоз той требующей неустанных попечений противоестественности», которая оттеняет «светлый ход отлаженной повседневности». Лапидарная мрачность (кровь, кишки и пр.) уживается с многословно-натужным юмором, и главным его объектом оказываются коллеги: писатели и филологи, достойные насмешек и «скрытого под слоем шутовства высокомерия».
Похоже, на выбор авторского псевдонима повлияло детское чтение Кати Чеботаревой — сказка Николая Носова «Незнайка на Луне», среди персонажей которой есть лунные полицейские Фигль и Мигль: «Несмотря на большое внешнее сходство, в характерах Фигля и Мигля было большое различие. Если Фигль был коротышка сердитый, не терпевший, как он сам утверждал, никаких разговоров, то Мигль, наоборот, был большой любитель поговорить и даже пошутить». Видимо, писательница так и не определилась, кто из двух сказочных копов ей больше по сердцу, — ну и взяла обоих.
Кавалер приглашает дам
14. Женская проза «нулевых»: Рассказы / Составитель Захар Прилепин. М.: Астрель
О германском императоре Вильгельме II, любившем быть в центре внимания, современники шутили: мол, наш кайзер хочет быть на всех свадьбах — женихом, на всех именинах — новорожденным, а на всех похоронах — покойником. Самодержцу, однако, далеко до нашего прозаика, публициста, журналиста, биографа, редактора (и что-то еще я наверняка забыл) Захара Прилепина. Он повсюду. В глянцевых изданиях умеренно брутален, в шершавых — сдержанно-гламурен. В демократических СМИ поругивает правительство, в шовинистических — клеймит граждан либеральной национальности и рвет на груди тельняшку за Иосифа Виссарионовича. Ну а если на Землю заявятся медузообразные инопланетяне и начнут издавать кулинарную газету, то через пару недель Прилепин там будет вести колонку, рассказывая о преимуществах какого-нибудь питательного клейстера перед котлетами с макаронами…
Однако мы сейчас не о пришельцах, а, наоборот, о женщинах. В новом сборнике прозы, составленном Захаром П., читателя может смутить само название и первая же строчка в аннотации: «Имена этих женщин на слуху, о них пишут и спорят, их произведения входят в шортлисты главных литературных премий». Что в этом предложении сразу режет глаз? Снисходительное слово «женщины». Как будто авторы книги не вошли в литературу благодаря своим способностям, а были в нее приняты по негласной «женской квоте» — как во времена СССР формировали парткомы и профкомы. Между тем Парнас — не троллейбус, где зарезервированы места для пассажиров с детьми и инвалидов. Едва только авторов начинают группировать по внелитературным свойствам, словесность отступает на второй план. По мнению критика Натальи Ивановой, литература не бывает «мужской» или «женской», а бывает талантливой или бездарной, и попытки развести писателей, как в душевых или туалетных кабинках, под литеры «М» и «Ж» бессмысленны.
Но у Прилепина, конечно, логика другая: раз уж он некоторое время назад составил сборник современной прозы и все десять его участников, по стечению обстоятельств, оказались на букву «М», надо сделать реверанс и второй половине человечества. Мне, мол, не жалко, бабоньки. Пусть ваших будет даже на четыре штуки больше, пользуйтесь.
Некоторые, кстати, и пользуются, и оправдывают ожидания. О чем следует писать женщине? Конечно, о сексе. Пожалуйста. «Он лизал ее грудь, она держала в руке его член, сухой и горячий». «Он провел пальцами по ее промежности, а затем всунул в нее член». «Надежда орала, пока он насаживал ее на себя» («Однажды в Америке» Анны Козловой). Другая подходящая тема — тяжкая доля толстой бабы-кошелки, которая «из уродливого переростка превратилась в самую обычную конторскую тетку в вечной твидовой юбке и захватанных пальцами круглых очках» («Бедная Антуанетточка» Марины Степновой). Или, как вариант, страдания женщины, которая не может иметь детей («Вариант нормы» Анны Андроновой). В конце концов, можно писать о нудных мужиках, которые и Бога-то правильного найти не умеют, — и это в тему («Новомученик Родион» Василины Орловой).
Впрочем, порой содержимое сборника сопротивляется разделению на «М» и «Ж»: тематика удачных рассказов (их очень мало) — не «женская», а, условно говоря, общечеловеческая. Ирина Богатырева предлагает читателям почти безыскусную историю о том, как на крошечном волжском островке в первый день августовского путча застряли папа с маленькой больной дочкой: лекарств нет, врачей нет, новостей нет, а есть только ощущение абсолютной безнадеги («Вернуться в Итаку»). Алиса Ганиева пишет о том, как на Кавказе тонка грань между мирной жизнью и мутным ужасом перманентной войны: обычные люди сидят в комнате, неторопливо выпивают, беседуют о пустяках, смеются, и вдруг все эти бытовые пустяки набухают кошмаром — и хрупкий мир разбивается вдребезги («Вечер превращается в ночь»). У Майи Кучерской в рассказе «Фотография» судьба персонажей старого фотоснимка оказывается мартирологом. Огромное семейство рассыпалось в прах: дед-священник умер в 1918-м, когда разрушали его храм; дядя, принявший постриг, сгинул на Соловках в 1937-м, другой дядя стал сначала большевиком, но не смог стрелять в своих и сам был расстрелян; третий дядя погиб в отечественную во время бомбежки…
В этих и им подобных рассказах нет и следа того, что чувствительный Гете назвал Ewig-Weibliche (вечно женственное), а сердитый Бердяев перевел — хотя и по другому поводу — как «вечно бабье». Так при чем здесь половая принадлежность авторов? Зачем делать акцент на слове «женский»? Ну-ка назовите заведующую редакцией «Астрели» Елену Шубину не «опытным редактором», а «опытной женщиной-редактором» — и вы почувствуете, как отчаянно сопротивляется русский язык. Понятно, зачем «мужчинистый» Прилепин затеял гендерное гетто — с него-то станется. Но вы, дамы дорогие, какого черта согласились тут напечататься и попались в западню? Вы женщины-писатели или просто писатели?
Часть третья
Истинно говорю вам, уроды!
Однажды Николай Гумилев полушутливо-полусерьезно сказал своей жене Анне Ахматовой: «Как только я начну пасти народы, отрави меня!» Если бы жены всех тех, кто представлен в третьем разделе нашего «Антипутеводителя», в действительности решили последовать гумилевскому императиву, то за жизнь большинства их благородных мужей я не дал бы ломаного гроша — утверждаю без преувеличений.
Вот представьте: живет себе, допустим, литератор имярек — вроде бы и неглупый, и эстетически развитый. Он тихо пишет про пестики-тычинки, любовь-кровь-морковь, но затем в какой-то момент его настигает признание — а вместе с ним некое почти фатальное умопомрачение: р-р-раз — и вот он уже выхватывает из-под своего седалища стул, чтобы тут же взобраться на него с ногами и начать проповедовать. Пестики-тычинки мгновенно забыты. Книга становится кафедрой, а то и амвоном; цивильный костюм превращается в тогу или во френч; лицо проповедника обретает медальные черты — хоть сейчас его в пантеон на вакантный постамент или в палату для особо буйных.
Кстати, современные психиатры считают, что тяга к учительству настигает в среднем каждого второго из пишущих граждан — и примерно две трети из тех, кто потенциально подвержен недугу, не находит в себе сил ему противостоять. Любой из литературных жанров в принципе может поколебать душевное равновесие автора, однако художественная публицистика и отчасти мемуаристика наиболее опасны: даже у людей, не чуждых самоиронии и стойких к дифирамбам, может однажды сорвать крышу и вынести мозг от одной мысли о том, что его (его!) личные умозаключения являются истиной в последней инстанции, что его собственный маленький (да пусть даже немалый) опыт просто обязан отлиться в генеральную матрицу для всего остального человечества. Что из этого следует? Что всякий, кто не слушает автора, не верит или просто смеется, мигом становится врагом — притом не только самого публициста, но и, по его неумолимой логике, врагом всей нашей Родины.
В третьем разделе нашего «Антипутеводителя» — только двадцать книг. Капля в море. На самом деле их гораздо больше. Приблизьтесь к полкам публицистики и современной мемуаристики в хорошем книжном магазине, но будьте начеку: сотни гуру с литературным зудом на кончиках пальцев сразу обступят вас, предлагая свои услуги. Они примутся хватать вас за рукав или за фалды и дудеть в оба уха. Они мошкарой набьются в рот, по-питоньи обовьются вокруг ног и по-обезьяньи начнут бить себя в грудь мохнатыми кулаками. Они будут проповедовать, стращать, подзуживать, науськивать, грубо льстить и покрикивать. Если вдруг вы расслабитесь, они способны заразить вас своим безумием…
Речь не о том, чтобы кого-то не издавать или как-то стреноживать на пути к читателю. Боже упаси! На чужой роток не накинешь платок; всему тому, что не нарушает закона, никто не вправе чинить препятствия. Я толкую о другом. Раз уж от производителей сигарет требуют делать на пачках предостерегающие надписи, то издателям авторской публицистики надо вменить в обязанность примерно то же самое. Пусть это будут, например, цитаты в рамках. Вполне сгодятся строки из Галича: «Гоните его! Не верьте ему! Он врет — он НЕ ЗНАЕТ, как надо!»
Абырвалг товарища Бульбы
Владимир Бортко. Нужна ли России правда? М.: Алгоритм
Эффектный подзаголовок книги Владимира Бортко — «Записки идиота» — отчасти мистифицирует читателя. На самом деле это никакие не записки, а сборник речей, произнесенных режиссером-депутатом в ходе думских заседаний и партийных форумов, вкупе с текстами одной газетной статьи, двенадцати интервью и скриптами трех радиопрограмм и двух телепередач, в которых народный артист России принимал участие.
Напомним, что свой первый полнометражный фильм Бортко снял в 1975-м, а прославился в 80-х: тогда и были опубликованы его большие интервью. Таким образом, книга, вышедшая в «Алгоритме», могла бы стать вчетверо толще, если бы издатели не сузили временные рамки. В книге представлено, по преимуществу, последнее пятилетие — годы, когда режиссер уже вступил в российскую компартию и избрался депутатом Госдумы. С одной стороны, образ героя книги обрел цельность. С другой стороны, читателя лишили возможности увидеть творческого человека в развитии, понаблюдать за его духовно-нравственной эволюцией. Вместо процесса мы сразу обрели результат — партбилет с профилем Ильича и думский мандат.
Нередко случается так, что человек, пройдя тернистым путем самопознания, в солидном возрасте вступает в лоно церкви и меняет привычный образ жизни. Он становится благочестив, постится, отвергает соблазны и т. п. По причинам, так и оставшимся за кадром, Бортко выбрал иную дорогу: на седьмом десятке лет он пришел не к Богу, а к Геннадию Андреевичу Зюганову. Впрочем, если верить автору, разница не так уж велика, поскольку, мол, христианство в его православном изводе — в отличие от жадновато-прижимистого протестантизма — «в какой-то степени корреспондируется с социализмом». А если учесть, что «предсказанный и ожидаемый крах капитализма» практически наступил, нет «другого пути для выживания человечества, чем социализм». Ну да, первая попытка в России не удалась, и что? Разве нельзя снять дубль номер 2? Проведем эксперимент еще разок — «и говорю вам, будем жить при коммунизме, но уже с айфонами и с BMW».
У самого Бортко, по его признанию, кстати, уже «есть автомобиль BMW-семерка, машина премиум-класса», хотя до светлого будущего в целом далеко. В стране много нерешенных проблем. Например, иностранцы «захватили почти все», и даже «в своей столице русские составляют этническое меньшинство». А придуманные либералами «общечеловеческие ценности» между тем «вступили в противоречие с традиционными русскими ценностными ориентирами». Ведь именно либералы в 1917-м «развалили страну», а сейчас играют со спичками: «Пусть тут хоть все сгорит, лишь бы торжествовала либеральная идея». Однако против либеральной заразы есть снадобье. Во-первых, это Мавзолей, «который является символом могущества нашей страны». Во-вторых, «традиционный коллективизм» народа, проистекающий из «готовности сплотиться вокруг вождя». Надо только послать к черту ВТО, ввести сухой закон, запретить аборты, вернуть смертную казнь — и будет счастье.
При чтении книги Бортко трудно отделаться от чувства мучительной неловкости. Творец нацепил ярмо пропагандиста («Я что-то думаю по любому вопросу, но я член партии — я должен выполнять обязанности»). Художник со своей интонацией вписался в ряды товарищей, «работающих в буржуазном парламенте», и сразу же заговорил нафталинным голосом инструктора райкома («в частной беседе с членом ЦК тов. Беловым я узнал, что конфликт внутри организации имеет глубинные корни»). Постановщик популярных экранизаций Михаила Булгакова — «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты» — фактически объявил об отказе от профессии («кино, режиссура для меня теперь хобби»). Когда же он все-таки выкроил время между пленарными заседаниями и снял экранизацию «Тараса Бульба», то в интервью назвал старого Тараса «частью угнетенного народа», а юного Андрия — агентом Запада. После чего пожелал, чтобы после просмотра его картины зрители «пошли бы дружными рядами записываться в КПРФ». Идиллия — да и только.
Недавно на телеэкраны вышел уже второй сезон новой экранизации Булгакова — сериала «Записки юного врача». Правда, сняли его в Англии, а постановщик — не Бортко. Тому сейчас некогда: много работы в Госдуме, да и «партия стоит на переломе своей истории». Но если даже режиссер снова найдет немного времени на кино, то у него есть проект поинтереснее булгаковских — фильм о Сталине, «самой оболганной личности во всем XX веке», «мощнейшем деятеле русской истории», который «объединил славян от Адриатики до Тихого океана» и «за 30 лет сделал нашу страну самой читающей». Думаете, почему при Сталине был «железный занавес»? Потому что вождь «понимал, что должно быть хорошо людям, которые здесь живут…».
«Профессор, ети твою мать!», как выразился совсем по другому поводу товарищ Шариков из «Собачьего сердца».
Всемирный заговор кактусоводов
Анатолий Вассерман. Сундук истории. Секреты денег и человеческих пороков. М.: Астрель
Благодаря Голливуду образ высоколобого интеллектуала (egghead) в массовом сознании сегодня смешивается с кинообразом безумного ученого (Mad scientist), и этому расхожему стереотипу как нельзя лучше соответствует популярный телезнаток, чемпион «Своей игры», полуодессит-полумосквич Анатолий Вассерман: блистающая лысина, сильные очки, буйная борода, затрапезная одежда и внезапные словесные завихрения.
Новая книга Вассермана выстроена из кирпичиков его еженедельных колонок, в разные годы написанных для «Бизнес-журнала», и, по замыслу издателей, должна убедить читателя в том, что «из любых житейских, технических, научных обстоятельств можно сделать выводы, важные для современного делового человека или управленца». Ветеран «Своей игры» щедро делится сведениями обо всем на свете — от устройства пулемета «Максим» до особенностей архитектуры московского метро, от свойств операционной системы Linux до методики суворовских переходов. На протяжении книги автор может и по нескольку раз возвращаться к полюбившимся темам — например, заточки ножей или заморозки плывуна… Впрочем, все эти интересные, но разрозненные и отрывочные знания из разных сфер вряд ли пойдут впрок бизнесмену или управленцу; ну разве что пригодятся любителю разгадывать кроссворды. Пожалуй, у книги иная, более важная задача: работать на имидж самого телезнатока. Таким образом, перед нами — многотиражное портфолио, огромная суперпупервизитка, занимающая пятьсот с лишним страниц.
Анатолий Александрович, собственно, никогда не скрывал, что лично подкармливает свой миф, культивируя внешние приметы избранности. «В высокие кабинеты хожу в том же разгрузочном жилете о 26 карманах», — признается эрудит. В интервью он готов часами рассказывать о своем жилете-складе, о детской тяге к оружию, о юношеском обете целомудрия и о взрослой готовности поддержать — хоть тушкой, хоть чучелом — фан-клуб Владимира Путина. Без ложной скромности Вассерман напомнит о том, что его «провозглашают едва ли не гением», похвастается умением зарабатывать деньги и взлелеет собственную непреклонность. Небольшой плацдарм из нескольких железных аксиом он будет отстаивать до конца. Нет экологии, есть «эколожество». Копирайт опасен, ибо «тормозит развитие человечества в целом». Платить налоги «вообще вредно для общества». А что полезно? 30 секунд — и у знатока ответ готов: «Ради всеобщей пользы придется вновь передать все средства производства в общественную собственность». То есть back in the USSR? Ну типа back. Ибо мы сможем восстановить экономику «только после возрождения Союза практически в исходной конфигурации».
На протяжении всей книги Вассерман готов не поступиться не только крупными, но и маленькими принципами. Грамматика — то же поле боя. Пусть миллионы оппортунистов по привычке пишут «Гамлет», «апартеид», «Исаак Ньютон», а Вассерман, как часовой, будет стоять на своем: «Хамлет», «апартхейд», «Айзэк Нъютон». Так правильнее — и точка. Вы говорите: «Джордж Сорос», а надо «Дьёрдь Шорош». Вы пишете «Токио» и «Киото», а надо «Токё» и «Кёто». Вы привыкли к «Соединенным Штатам Америки», а правильнее «Соединенные Государства Америки»! И кстати, эти самые СГА, родина президента Ригана (не Рейгана!) и компании «Мелкая Мякоть» (не Microsoft!), нарочно «провоцируют конфликты по всему миру, дабы свободные средства вкладывались исключительно в американские долговые обязательства». Что это, если не заговор?
Важнейшая часть имиджа Вассермана — образ несгибаемого борца с заговорами, причем не только американскими. В каждом филантропе он прозревает ворюгу, в каждом болтуне — провокатора, в каждом явном свинстве — тайное стремление урвать себе кусок ветчины. «Ни одна развитая структура не может действовать бескорыстно и безвозмездно, — уверен телеэрудит. — За любым поверьем при глубоких раскопках обнаруживаются чьи-то деньги». Для автора очевидно, что россказни о вреде генных технологий подло проплачены производителями ядохимикатов и удобрений, панику вокруг озоновых дыр организовала фирма E.I.DuPont de Nemours (чтобы заменить дешевые фреоны своими дорогими разработками!), страшилки о глобальном потеплении — на совести развитых стран (чтобы отсечь конкурентов в развивающихся странах), тему опасности мобильных телефонов муссируют агенты стационарных телефонных сетей, а дурацкую моду на кактусы возле компьютерных мониторов — «якобы ради защиты от вредоносного электромагнитного излучения» — ввели кактусоводы, чтобы легче впаривать глупому потребителю свой колючий товар…
Что ж, даже если Вассерману вдруг не удастся спасти мировую экономику, вернуть нас в СССР, прижать Дюпонов и реформировать русскую грамматику, то уж злодеям-кактусоводам от расплаты точно не уйти.
Истинно говорю вам, уроды!
М. Веллер. Отцы наши милостивцы. М.: Астрель
Думаете, археолог Генрих Шлиман, раскопавший Трою, — гений? А он ворюга: украл деньги у русской армии, воевавшей в Крыму, и сбежал! Из-за таких, как жулик-интендант Генрих, намекает М. Веллер, николаевская Россия и проиграла войну и едва не потеряла Крым, «взятый кровью предков у мусульманских рабоугонщиков». Хотя потом, в XX веке, мы все же умудрились полуостров надолго упустить, «бездарно отдав» его Украине.
Впрочем, не бросим камень в Генриха: «По сравнению со «средним честным» человеком «средний» вор сметлив, энергичен и храбр». Поскольку, если исходить из постулатов философии энергоэволюционизма, «воровство — это максимально эффективная форма самообеспечения социобиосистемы необходимыми и дополнительными энергетическими ресурсами». То есть Шлиман — как наш Деточкин: виноват, но… не виноват!
Создатель философии энергоэволюционизма и автор статей, вошедших в сборник «Отцы наши милостивцы», писатель Веллер в повседневной жизни — мачо, а не какой-нибудь хлюпик-интеллигент. Когда однажды писатель Прилепин эдак по-босяцки обратился к Михаилу Иосифовичу на «ты», Веллер долго отчитывал молодого коллегу, цепко ухватив его за локоть. А когда писатель Гурский имел неосторожность изложить версию о наличии у нашего героя голливудского брата-близнеца, Веллер подстерег предателя на книжной ярмарке и дерзко плюнул ему на свитер (свитер пришлось выбрасывать: гневный плевок моментально прожег огромную дыру).