Танго втроем Соболев Сергей
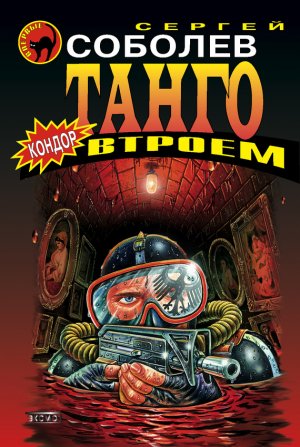
У. Шекспир. Сонет 19[1].
- Ты притупи, о время, когти льва…
- в прах обрати земные существа…
Я знаю, где нахожусь и что со мной случилось. Видела же ее, эту машину, а ногу с педали газа не сняла. Почему – так самой до конца и непонятно. Покончить с собой у меня и в мыслях не было. И все-таки – почему? Мне бы надо было притормозить, чтоб машина успела перестроиться в другой ряд. Это был единственный шанс на спасение. Но я этого не сделала. То ли водитель из меня плохой, то ли я так вошла в роль, что решила довести ее до конца и сыграть даже собственную смерть.
Итак, о самоубийстве я не помышляла, а вот сбежать от всех куда глаза глядят – и даже от самой себя – подумывала не раз: найти бы укромное место, спрятаться… И похоже, мне это удалось. Наконец-то нашла себе укрытие. Крепко сомкнутые веки позволяют чувствовать себя в безопасности. Я слышу все, что происходит вокруг, и вроде бы контролирую ситуацию. Узнаю по шагам, кто приближается к моей кровати: врач, медсестра, моя мама или же он собственной персоной. Только ее шагов что-то не слыхать… Про себя я решила: выйду из своего укрытия, только если она ко мне придет, – не раньше и не позже. Войдет, встанет у моей кровати. А я подниму веки, и наши взгляды встретятся. До этой минуты мне придется играть роль, пожалуй, самую трудную из всех моих прежних ролей. Однако на сей раз зрителями будут профессионалы – врачи, в полной власти которых находится мое тело, подключенное к разным аппаратам. К счастью, ученые еще не выдумали таких устройств, которые бы контролировали душу. Поэтому я пока в безопасности. Надо только быть начеку, стараться не двигать глазами и не выдать себя дрожанием век, когда кто-то окажется поблизости. Главное, что я снова начала играть. И у меня такое впечатление, что я полностью вжилась в роль и завладела вниманием зрителей. Думала, этого уже не произойдет и страх перед выходом на сцену меня никогда не покинет…
С самого раннего детства театр был моим предназначением. Сколько себя помню, я играла в театр, а первыми моими зрителями были куклы. Я сажала их рядком на диване и устраивала перед ними представление. Чаще всего переодевалась в мамины платья. Потом, в старших классах лицея, задумав поступать в театральный, ездила на все громкие премьеры в Варшаву. Ездили вдвоем с Дарьюшем. Городок у нас маленький, из развлечений только Дом культуры, а театр, который находился в соседнем городе, – одно название.
– Кругом одни посредственности, – говорил Дарек, критик, весьма суровый в своих оценках. Единственным актером, которого он по-настоящему ценил, был Тадеуш Лонцкий. – Вот его можно поставить рядом с Лоуренсом Оливье, а остальные – бездари.
Несмотря на то что мы с ним были ровесниками, Дарек для меня был авторитетом. Он казался таким умным. По крайней мере, намного умнее меня. Сперва нас сблизила любовь к театру, а потом мы стали «ходить вместе», как тогда говорили в школе, т. е. встречаться. Но выглядело это иначе, чем я себе представляла. Подружки рассказывали наперебой, как проходили их «свиданки», и речь шла не только о поцелуях, но и о куда более близких отношениях. Их откровения возбуждали мое воображение, но Дареку все это было будто невдомек. Такое впечатление, что свидания со мной он рассматривал буквально как… совместные прогулки. Когда мы гуляли вместе, мне приходилось чуть ли не вприпрыжку бежать за ним, так широко он шагал. Поклонник провожал меня домой, потом сидел, развалившись на моей тахте, и рассуждал о своем восприятии мира и людей. Собственно говоря, непонятно было, мы встречаемся или нет. Дарек не позволял себе никаких вольностей по отношению ко мне, ни единого ласкового жеста, нежного взгляда. Ни разу даже не обнял меня, что уж говорить о поцелуях. А я этого ждала.
– Скажи, я тебе нравлюсь? – не выдержав, как-то спросила я, оборвав на полуслове его философствования.
Он глянул на меня непонимающе:
– Что ты имеешь в виду?
– Ну… в общем… как женщина… – запинаясь, сказала я.
– Как женщина? – повторил он чуть ли не с отвращением. – Что бы я с тобой делал, будь ты женщиной?
Меня это сбило с толку. Я готова была расплакаться.
– Кто же я для тебя тогда?
– Ты – это ты, – отчеканил он и вернулся к прерванным рассуждениям.
Теперь сказать сложно, любила ли я его. Определенно, он был для меня близким человеком, более близким, чем другие парни, которых я знала. Только с ним я могла бы представить себе такую сцену, в которой мы оба обнажены. Ему бы я позволила дотронуться до себя. Однако он не особенно горел желанием. Даже во время наших поездок в Варшаву, когда мы много часов – частенько одни в целом купе – проводили в поезде. В конце концов меня осенило: скорее всего, Дарек, снедаемый непомерными амбициями, просто боится за свою репутацию, ведь в вопросах секса оба мы были совсем зелеными. Тогда я решила взять дело в свои руки. Мы готовились к выпускным экзаменам, и Дарек дневал и ночевал у меня. Однажды под утро, отложив учебник, я спросила тоном сорванца-задиры:
– Боишься?
– Я?!
– Ты!
Мы смотрели друг другу в глаза.
– А чего это я должен бояться?
– Заняться со мной любовью.
Он состроил такую мину, что я невольно прыснула со смеху. И вдруг почувствовала превосходство над ним, а точнее сказать, ощутила себя взрослой женщиной. Несмотря на то что опыта у меня не было никакого, интуиция подсказала, как я должна поступать. К тому же мы оба уже знали, что и как надо делать. Но где-то в глубине души я была слегка разочарована.
Шаги. Это его шаги. Он приходит по нескольку раз на дню. Садится и разговаривает со мной. Люблю ли я этого мужчину?
Я поступила в театральное училище в Варшаве. Дарек успешно сдал экзамены на философский факультет Варшавского университета. Мы сняли однокомнатную квартирку в новом микрорайоне, правда, далековато от центра. Все говорило о том, что моя жизнь складывается по плану: живу с парнем, который в будущем станет моим мужем, готовлю себя к профессии актрисы, что тоже было давно запланировано. Но однажды вся эта старательно выстроенная конструкция пошатнулась. Я была тогда на третьем курсе училища. После занятий меня задержал мой педагог по сценическому мастерству:
– Оля, я уже долгое время присматриваюсь к тебе. Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе роль в спектакле, который собираюсь ставить?
Кажется, я залилась краской.
– Даже не знаю, справлюсь ли я.
– Зато я знаю, – отрезал он безапелляционно. – Мне нужны твоя свежесть, пылкость чувств, энтузиазм, наконец…
Тогда я и подумать не могла, что эти слова станут решающими в моей судьбе, что одновременно он предлагает мне роль, с которой я не в силах буду справиться. Ведь именно поэтому я теперь здесь…
Но в тот день я об этом не имела понятия. Влетела в нашу однокомнатную квартирку в полубессознательном состоянии от возбуждения:
– Дарек! Я получила роль! Роль Ирины в «Трех сестрах»! В постановке самого Зигмунда Кмиты!
– Но ведь ты еще учишься! – бросил он недовольно.
Его реакция задела меня. Я-то считала, что Дарек порадуется вместе со мной. Разумеется, никто не рассчитывал, что он запрыгает от счастья, но зачем же делать такой недовольный вид, будто я сказала какую-то глупость? Ведь меня выделили из всех! Мне предстоит играть на сцене с профессиональными актерами, да еще одну из главных ролей! Естественно, в «Трех сестрах» я могла сыграть только Ирину, ну не Анфису же… Ирина! Господи, я не могла поверить, что мне дали эту роль. Что он мне дал эту роль, мой учитель.
На нашем курсе помимо меня было много девчонок, и все, как одна, мечтали о такой роли. Многие превосходили меня по красоте. Были и такие, которым я даже в подметки не годилась. Взять, например, Юстыну Калиновскую или Мажену Белецкую – у обеих были потрясающе красивые лица. А какие фигуры! Разумеется, это не самое главное, но и талантом их тоже Бог не обидел. Юстына, кстати, была любимицей большинства наших преподавателей, ее всегда назначали на главные роли в курсовых спектаклях. И вдруг выбор Кмиты пал на меня. Я должна скакать до потолка, и Дарек вместе со мной. А он сидел с такой миной, будто у него внезапно разболелся зуб.
– И что с того, что я только учусь? – спросила я чуть ли не враждебно, одновременно подумав, что мы уже не так хорошо понимаем друг друга, как прежде, и наши пути постепенно расходятся.
– А то, что никому в голову не придет предложить студенту первого курса Политеха самостоятельно спроектировать мост – такой мост может обвалиться.
Я ошеломленно взглянула на него:
– Но ведь я не студентка Политеха, я учусь в театральном! И не на первом курсе, а на третьем!
– Тем не менее еще учишься! Еще только учишься!
В его голосе было что-то такое, отчего на меня напал страх. А что, если он прав, что, если он видит то, чего пока не замечаю я? Какую-то скрытую опасность. Ну не думает же он, что я споткнусь на сцене или забуду текст…
А может, это обыкновенная ревность – я потихоньку иду в гору, получила роль, в то время как он пока – всего лишь студент.
– Ты так говоришь, потому что ревнуешь, – буркнула я.
Он разразился притворным смехом:
– Ха-ха-ха, к кому мне прикажешь тебя ревновать? К этому карле? – Наверно, Дарек заметил, что я не очень-то понимаю, к чему он клонит, потому что поспешил добавить: – Этот твой режиссер вроде бы такой красавчик, а башка у него явно великовата для его приземистой фигуры. Он похож на карлика!
Ах, значит, он так расценил мои слова? Я-то говорила о ревности к успеху! Тогда я не думала о Зигмунде как о мужчине. Он был для меня исключительно моим учителем и режиссером спектакля, в котором я должна была дебютировать.
Я вступала в другой мир. В доме Прозоровых накрывали стол к завтраку. Ольга в синем форменном платье учительницы расхаживала по комнате, время от времени поправляя стопку тетрадей. Маша, в черном платье, сидела со шляпкой на коленях и читала книгу, а Ирина, в белом платье, стояла задумавшись. Это я стояла задумавшись и была Ириной. Я как бы растворилась в ней. Тесный лиф платья с кокеткой в фестончиках облегал ее, а не мою грудь, в моей голове текли только ее мысли. Реальность постепенно отходила на второй план, я все больше срасталась с героиней, которую мне предстояло сыграть. Не оставляя ни одной щелочки, ни одного просвета – никто меня не предупредил, что так делать нельзя. Я думала, себя надо отдавать роли всю, до капельки, целиком, а не просто предоставлять напрокат.
Когда из уст актрисы, игравшей Ольгу, кстати моей хорошей подруги, прозвучали слова: «Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег», Ирина сказала:
– Зачем вспоминать?
Ирина стояла, прислонившись спиной к колонне, а ее глаза были затуманены ностальгией. Эта фраза: «Зачем вспоминать?», сказанная со вздохом, изменила всю мою жизнь. С нее началось расставание с той глупой, прежней девочкой, которой я была до сих пор. Я ее больше не понимала, не могла взять в толк, почему она так мечется, зачем все время спешит. То торопится, чтобы успеть на занятия по сценической речи, то чтобы успеть в магазин, где покупает хлеб, творог, сыр… В довершение всего этого она должна была втискиваться в забитый автобус. Ирина никогда бы в такой не села, правда, справедливости ради надо сказать, что и автобусов в те времена не было. Ирина бы не стала спать с Дареком. И я делала это все реже, пока совсем не перестала.
– Нет, – отвечала я на его вопрошающий взгляд, – ты же знаешь, у меня скоро премьера.
– У тебя еще не одна премьера впереди, – говорил он.
– Но эта – первая, самая важная. Какой они меня увидят, такой я и останусь в их памяти. Талантливой или бездарной!
– О том и речь! – заорал Дарек. – И все по милости этого коротышки!
– Не смей называть так пана Кмиту! – разозлилась я.
– Пан Кмита! Он – дрянной актеришка и такой же режиссер! Выезжает на мнении, высказанном неизвестно кем и когда, а может, благодаря своей вечно ухмыляющейся роже!
– За что ты его так ненавидишь?
Дарек пожал плечами:
– Да мне он до лампочки, лишь бы тебя оставил в покое.
– Он дал мне шанс.
– Он для себя приберег этот шанс! Неужели ты не понимаешь, зачем он это делает?! Ему понадобилось новое лицо. Тем самым он хочет обратить внимание на себя, на свою постановку.
Теперь пришла моя очередь пожимать плечами.
– Да ведь в его спектакле играют одни звезды. Пригласив на роль меня, человека неопытного, он сильно рискует. Даже в большей степени, чем я.
– Ну и дура же ты! Вот увидишь, твой дебют провалится! Сама напросилась!
Я не собиралась принимать близко к сердцу несправедливые нападки Дарека. Он вел себя как ревнивец из комедии ошибок, и меня это смешило. Ну, сами посудите, кто я и кто такой пан Зигмунд Кмита! Однако это совсем не значит, что я его идеализировала. Я не считала его выдающимся актером. По-моему, ему больше подходила роль педагога: Зигмунд досконально знал, как надо играть, но это вовсе не свидетельствует о том, что он умел это делать. Гамлет в его исполнении не вызвал во мне особого восторга, но рассказывал он об этой роли увлекательно. После ссоры со своим парнем во время репетиции я присмотрелась к Зигмунду Кмите повнимательнее. На нем были черная водолазка и вельветовые штаны, сильно стянутые на поясе ремнем. Было видно, что ради сохранения хорошей фигуры он немало времени уделял физическим тренировкам. Кстати, преподаватель охотно говорил об этом в своих интервью. Что, мол, смерти не боится, относится к ней как к чему-то неизбежному. Но боится старческой немощи, потери физической формы. Поэтому ходит в фитнес-клуб, играет в теннис. И это было заметно. Все же злые рассуждения Дарека о нем мешали мне, отвлекали от главного. А главным была она, Ирина. Ее правоту я принимала безоговорочно. Это она говорила о Маше, что та вышла замуж в восемнадцать лет, потому что Кулыгин казался ей самым умным человеком на свете. А потом перестал казаться. Разумеется, человек он был добрый, но далеко не самый умный. Как же эти слова перекликались с моей жизненной ситуацией! Он, мой парень, тоже перестал быть для меня самым умным. И сдается мне, моим парнем: в мире, где я теперь находилась, ему места не было. Безнаказанно перемещаться в нем мог только тот, кто этот мир творил, создавал.
– Оля, вы произносите текст слишком тихо, на задних рядах вас никто не услышит!
– По-моему, Ирина должна говорить тихо, – защищалась я, преодолевая смущение.
– Вот так и надо сыграть: громко сыграйте ее тихую речь! – услышала я в ответ.
Это, наверное, самое важное замечание, которое я от него получила. В таком ключе я и решила играть роль Ирины. Играть? Разве я играла? Я была ей…
Наступил день премьеры. Странно, но я не чувствовала волнения. Видела напряженные лица своих партнеров по постановке и удивлялась своей отстраненности. Как будто меня все это не касалось, будто не я должна была впервые в жизни выйти на настоящую сцену. Я вышла, вернее, на ней появилась моя Ирина. Первое действие, второе…
– В Москву! В Москву! – говорила Ирина.
А потом произнесла свой заключительный монолог:
– Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, а пока нужно жить…
Сижу в гримерке. Ни одной мысли в голове. Как я сыграла свою роль? Хорошо, средненько или совсем провалилась? Кому так аплодировали, вызывали на поклон? Раз, другой, третий… Десятый. Надо снять с себя театральный костюм – белое платье с кокеткой, обшитой белыми кружевами, но оно будто срослось со мной. И тут входит он, режиссер:
– Ну что ж, совсем неплохо, Оля.
Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. А ведь правда, голова у него крупновата, думаю я лениво, будто одним полушарием мозга. Кто-то еще зашел. Ага, знаю, кто это. Адам Яловецкий, знаменитый театральный критик, пишущий статьи для одной серьезной газеты. Мужчины, кажется, недолюбливают друг друга. Кмита, холодно кивнув, уходит.
– Дорогая Ольга, – заговорил Яловецкий, – будь я помоложе, упал бы перед тобой на колени, а так только склоняю голову. Ты – самая лучшая Ирина, которую я видел за свою долгую жизнь. У тебя, девочка, необыкновенный талант, только не дай загубить его на корню. Рановато немного начинаешь, но что делать. Зато на нашем театральном небосклоне зажглась новая яркая звездочка. И все-таки помни, девочка: от неба до ада – рукой подать. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Не расслабляйся, будь начеку, осторожно относись к любого рода предложениям. Думаю, одной встречи с этим режиссером пока достаточно. Будет требовать большего, гони его.
– Но это же мой учитель, – ответила я обескураженно.
– В том-то и беда.
«Чего ему от меня надо? Зачем он все это говорит? – подумала я враждебно. – Пусть уходит».
– О, нет, – слышу я его голос, – так просто ты от меня не отделаешься. Я как тот человек, которому после сорока дней блуждания по пустыне без глотка воды вдруг подали бокал вина.
– Да вас бы давно на свете не было! – рассмеялась я.
– Значит, вы сумели воскресить мертвого.
До конца я ему не доверяла. В голову закрались подозрения, что он немного подшучивает надо мной. Но уже наутро в газете появилась его рецензия. «Спектакль должен называться „Младшая сестра“», – прочитала я. «Так значит, успех», – подумала безучастно. На самом деле меня это не очень-то интересовало. Самым важным было снова выйти на сцену – только там я становилась собой.
Пришла мама. «Оленька, Оля», – слышу ее голос. Врачи велели ей разговаривать со мной. Вот она и разговаривает. Все-таки подло я поступаю с матерью. Надо было посвятить ее в свою тайну. Но не могу, не могу…
Каждая девушка помнит свою первую ночь с мужчиной. Даже если на следующий день они с ним разбежались в разные стороны. А для меня стало сокровенным другое посвящение, которое я испытала благодаря Зигмунду. Это он взял меня за руку и вывел на сцену. Вот только не знаю, считать ли это великим счастьем или великим несчастьем. Сейчас я чувствую себя несчастной, но только потому, что все так запуталось и Зигмунд был несвободен, когда мы узнали друг друга. Впрочем, если бы я с ней не познакомилась, быть может, смотрела бы на это иначе. А может, и нет. Считала бы, что устроила свою личную жизнь. А разве не так? Ведь меня полюбил человек, которого я любила. Но я была счастлива с ним только в театральной действительности – там все условно. На сцене могут стареть и молодеть по желанию, настоящий возраст при этом не имеет значения. И там мне не нужно думать о ней. У нее такие же шансы, как и у меня. От нее зависит столько же, сколько от меня. Она может выйти из тени. Ей не надо неподвижно стоять за кулисами, следить за каждым моим жестом и контролировать каждое произнесенное мною слово. Возможно, из-за этого я начала заикаться. Могла произносить без запинки только театральные монологи. Например, монолог Ирины. Спектакль шел в переполненном зале, несмотря на то что времена для театра были непростые.
– Они приходят посмотреть на младшую сестру, – говорил Зигмунд не без ехидства.
Он не мог простить Яловецкому, что тот в своей рецензии ни словом не обмолвился о режиссере. Будто спектакль поставился сам собой.
Я защитила диплом, и меня приняли в труппу того театра, в который я когда-то ездила из своего городка. Тогда, правда, я была лишь зрителем.
Все шло прекрасно, режиссеры давали мне большие роли, такие как Джульетта или Невеста в «Свадьбе» Выспяньского. Как правило, рецензии были хорошие, но уже не такие восторженные, как после моего сценического дебюта. Во всяком случае, Яловецкий не оставлял меня без внимания, дотошно анализировал каждую мою роль, иногда ругал, но чаще хвалил. Между нами возникло что-то вроде дружбы, хотя встречались мы с ним только в моей гримерке. Он заходил после спектакля, и мы обсуждали постановку. Зигмунд бесился, его раздражали эти визиты, может быть потому, что он чувствовал: Яловецкий его в грош не ставит. А как известно, актер нуждается в признании или хотя бы в одобрении.
– Не обращай ты на них внимания, Оля, – предостерегал меня критик. – Актеры – люди сложные, душонка у них мелкая, тебе надо всегда помнить об этом.
– А я кто? Ведь я тоже актриса.
– Ты?! Ты – богиня, – говорил он с усмешкой.
Я по-прежнему жила с Дареком в тесной однушке на окраине города. Теперь наши отношения скорее можно было бы назвать дружескими. Мы спали вместе очень редко. Но такое случалось, не скрою. Виделись с ним только по вечерам, можно сказать, ночью, после моего возвращения из театра. Когда утром Дарек уходил, я обычно еще спала. Мне было довольно одиноко. Друзей не было. Пока училась в театральном, меня там любили и до сценического дебюта часто приглашали на разные вечеринки. После неожиданного успеха вокруг меня образовалась пустота.
– Это нормально, – объяснял мне Зигмунд. – В театре дружбы не ищи, здесь царит дух соперничества.
С Зигмундом мы практически не виделись – он работал в другом театре, а я уже не ходила на занятия в театральную школу. Иногда он звонил, спрашивал, как у меня дела. Но в один прекрасный день позвонил по вполне конкретному делу.
– Задумали мы гастроли – поколесим по городам и весям с «Тремя сестрами», – сказал он. – Старым составом. Надеюсь, присоединишься, не подведешь?
Я даже обрадовалась. Постановка, в которой я была занята в театре, сошла с афиши, а жалованье мое было совсем символическим. Гастроли в провинции могли поправить мое материальное положение.
По коридору идут медсестры – только их деревянные сабо так постукивают при ходьбе. Остановились возле моей двери.
– Здесь лежит эта актриса, – долетает до меня шепот.
– Можешь громко говорить, она все равно ничего не услышит.
Мое возвращение в спектакль было похоже на возвращение домой. Настоящего дома у меня никогда не было. Мать, вечно замотанная, воспитывала меня одна. Утром убегала на свою основную работу, вечерами подрабатывала билетершей в кинотеатре.
– Кем вы себя чувствуете, – спросил меня как-то дотошный Яловецкий, – дочерью чиновницы или билетерши в «Парадизе»?
На секунду я задумалась.
– Ни то ни другое. Мы с мамой были как сестры…
Критик прищелкнул пальцами:
– Уходишь от ответа, маленькая моя, но я найду способ справиться с тобой.
«Я сама с собой с трудом справляюсь», – подумалось мне. Пока я не понимала, как сложится моя дальнейшая жизнь. Роли приходили и уходили, потихоньку что-то от меня отнимая. Каждый раз возникало ощущение потери, будто от моей души отрезали по кусочку. А ведь мне было немногим больше двадцати. Что же станет со мной через несколько лет? Покой и гармонию в мою жизнь вносила роль Ирины. Мы накрепко срослись с ней: она была мною, я – ею. Когда она стояла, опершись на колонну в доме Прозоровых, и произносила свою реплику: «Зачем вспоминать?», все вставало на свои места. Надо сказать, что в нашем коллективе царила доброжелательная атмосфера. Мы называли себя «труппой бродячих актеров» и старались не обращать внимания на трудности в поездках. Из города в город мы переезжали в видавшем виды микроавтобусе, ночевали в гостиницах, в которых бывало по-разному. С наступлением реформ Бальцеровича Польша начала меняться на глазах, приватизация шла полным ходом, однако большинство периферийных гостиниц все еще оставались в руках государства, и это чувствовалось. Серое, застиранное постельное белье, на окнах занавески жутких расцветок, а в ресторане – несъедобная еда. Особо по этому поводу мы не расстраивались, точнее, многого старались не замечать. Возвращаясь, уставшая, после спектакля, я не рисковала принимать гостиничную ванну – она казалась мне грязной. Я просто вставала под душ и, сама того не желая, устраивала целый потоп в ванной.
Был очередной городок на нашем пути. Как обычно, после третьего акта я вернулась в свою гримерку. Предстояло отыграть четвертый. Присев в кресло, заметила на поручне другого кресла черную водолазку Зигмунда. Режиссер частенько ходил в ней. Очевидно, ему стало жарко и он скинул ее здесь. Гримерка была одна на всех.
Глядя на эту водолазку, я подумала: сейчас мне предстоит произносить слова в диалоге с Тузенбахом: «Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян».
Я подошла и прикоснулась к черной мягкой материи. И внезапно пришло озарение. Да ведь я люблю! Давно уже люблю этого человека, быть может, даже с того самого дня, когда на первой репетиции он взял меня за подбородок и, заглянув в глаза, сказал:
– «Три сестры» – пьеса, где все происходит внутри героев. В их головах и душах. И запомни, это пьеса не грустная, а ностальгическая! – На меня тепло смотрели его глаза. – Мы ведь понимаем друг друга?
Я кивнула, а мои растрепавшиеся волосы коснулись его щеки. Он смешно сморщил нос…
Начался четвертый акт. Я вышла на сцену, но играть было неимоверно трудно. Временами текст как будто улетучивался из головы, а произнося слова: «Я не любила ни разу в жизни», про себя я твердила: «Неправда, неправда», и вдруг испугалась – как бы ненароком не произнести этого вслух…
Едва зайдя в гостиничный номер и включив верхний свет, я замерла перед зеркалом, всматриваясь в свое лицо. Придирчиво изучала. Можно ли назвать его красивым? Если брать каждую черту по отдельности, счет был не совсем в мою пользу. Да, у меня большие, темно-орехового цвета глаза в густой оправе ресниц, однако нос слегка подкачал, рот пухлый с чуть выпяченной нижней губой, а дальше – острый подбородок. Но все это неплохо складывалось в одно целое. Пожалуй, главным моим козырем были волосы – пушистые, пепельно-русые, того натурального цвета, которому завидовали мои однокурсницы. Обычно я ходила с распущенными волосами – в их разлетающемся ореоле мой длинный нос был не так заметен. Кошмаром моего школьного детства стало прозвище Буратино. Когда я была совсем маленькой, то почему-то боялась этой сказки, она казалась мне жестокой. Страх наводила и сама кукла с острым длиннющим носом. В первых классах начальной школы меня изводили этим прозвищем. Правда, давно это было. Сейчас я была взрослой женщиной, которая смотрела в зеркало и задавалась вопросом, можно ли ее полюбить. Прошел год, прежде чем я нашла на него ответ. А пока стояла и размышляла о чертах своего лица. Его можно было назвать красивым, а можно – неинтересным, но только не страшным. А мое тело? Кажется, оно было вылеплено как надо. Зигмунд как-то бросил вскользь:
– У тебя ноги прямо как у Софи Лорен. Правда, она ростом повыше, соответственно, и ноги у нее подлиннее!
Ага, заметил мои ноги. А может, сказал просто так, в шутку. Режиссер любил пошутить. Был мастак на шутки-прибаутки и не упускал случая позубоскалить, иногда даже, по-моему, перебарщивал. Но ему прощалось. Ему многое прощалось.
«О господи, что теперь будет?» – растерянно думала я.
Снова мама. И как сильно плачет!
Мы побывали еще в нескольких городах, прежде чем вернулись в Варшаву. Коллеги замечали, что я все время не в настроении, но я объясняла это усталостью.
– Замучили мы нашу девочку, – пожалел меня Зигмунд.
Преподаватель по-разному меня называл: на «ты», на «вы», девочка, маленькая… А как он думал обо мне? Я наконец осознала, кто он для меня, но по-прежнему не имела понятия, кто я для него. Бывшая студентка? Преподаватель и его ученица? Но так ли это? А может, звезда? Или скорее его творение, что-то вроде Галатеи. Наверняка он думает, что сотворил меня, сформировал как актрису. К счастью, ему не передали слова, которые сказал о нас Яловецкий: «Ученица, которая переросла своего учителя». Сдается мне, что критик из чистой зловредности приуменьшал талант Зигмунда как актера и педагога. Зигмунд умел передать другим те актерские навыки, до которых дошел своей головой, а это уже немало. Говорят, такая великая на сцене фигура, как Тадеуш Лонцкий, педагогом был слабым. Учиться у него можно было, только глядя, как он играл. Но обычно это был урок унижения. Я записала на видеокассету спектакль о Богуславском. Гениальнейшая роль! Каждый раз, когда пересматриваю запись, по моим щекам текут слезы.
Я вдруг почувствовала тоску по жизни, от которой добровольно отдалилась. Мои так называемые каникулы затянулись, да и каникулы ли это? Мне страшно, я боюсь своей неподвижности и молчания… но как мне теперь его прервать? Мой протест был спонтанным, я взбунтовалась против того, что со мной произошло… А что со мной, собственно, произошло?
Я ехала в наш только что отстроенный дом под Варшавой в живописной лесистой местности. Сейчас осень, а весной там, должно быть, еще красивее. Птички наверняка щебечут без умолку.
– Два этажа нашего счастья уже готовы, – сообщил мне Зигмунд по телефону. – Днем привезу мебель, поэтому из театра приезжай прямо сюда…
И я поехала. Да не доехала. Потому ли, что не смогла? Или все-таки не хотела доехать?
Что значит быть актрисой? Граница между работой, профессией и моей жизнью все больше стиралась. Я с головой уходила в свои роли, жила ими, не желая возвращаться к той перепуганной молодой женщине, которой тогда была. Боялась своих чувств к Зигмунду. Боялась неизвестности… Я не только не знала, как надо любить мужчину, но и не имела никакого понятия, как любить мужчину, который меня старше чуть ли не на тридцать лет. А может быть, это была вообще не любовь… может, таким образом я просто чувствовала его присутствие в своей жизни? Он все еще присутствовал в ней, хотя виделись мы не так часто. Реже, чем в то время, когда я училась в театральном, и во время репетиций «Трех сестер». Это был самый счастливый период в моей взрослой жизни. Я чувствовала, что роль Ирины мне удается, другие это тоже видели. А главное, это видел Зигмунд. Я ощущала на себе его сосредоточенный взгляд. Он был так близко, что можно было легко сосчитать темные крапинки на радужках его глаз. А что, если это всего лишь привычка? Но если так, то почему я была такой испуганной и потерянной, а присутствие Зигмунда рядом со мной не приносило мне умиротворения? Напротив, мой страх, когда он был рядом, только усиливался.
– Оля, что с тобой происходит? – спрашивал режиссер.
– Просто устала. Эти поздние возвращения автобусом домой измотали меня, вдобавок бесконечное ожидание на остановке, иногда по целому часу… – придумала на ходу, не найдя оправдания получше. Сказать, что я так уж сильно мучилась, нельзя – в это время автобус был полупустой, я даже сидела, а остановка была в двух шагах от моего дома.
Спустя несколько дней, когда после спектакля я брела к автобусной остановке, то вдруг заметила, что за мной едет какая-то машина. Меня это удивило и чуточку испугало, я ускорила шаг. Машина поравнялась со мной, и за рулем я вдруг увидела Зигмунда.
– Старых знакомых уже не узнаем, – заговорил он в шутливом тоне, как всегда.
– Что вы здесь делаете? – спросила я, опешив.
Хотя в театральном училище принято было обращаться к студентам и преподавателям по имени, я никогда на это не отваживалась, и не только по отношению к Зигмунду.
– Прыгай сюда, – он распахнул дверцу, – и не задавай лишних вопросов.
Я села рядом с водительским местом в таких растрепанных чувствах, что не в силах была выговорить ни слова. Он тоже молчал. Машина затормозила у бордюра.
– Ну, что? – прервал он наконец молчание. – Ты язык проглотила?
– А… почему мы стоим? – с трудом выдавила я из себя.
– Потому что не знаем адрес.
И тут наконец до меня дошло: он приехал специально, чтоб отвезти меня домой.
Зигмунд всерьез отнесся к моим словам. Со стороны могло показаться, что он просто нашел предлог встретиться со мной. Но я знаю, как было на самом деле. У него выдался свободный вечер, и Зигмунд решил подвезти меня домой. На улицах было пустынно, и наша поездка длилась всего ничего, каких-то несколько минут. Для меня, однако, она стала самой важной в моей жизни.
– Может, зайдете на минутку? – отважилась я спросить.
– Может, и зашел бы, если бы ты сказала мне «ты».
– Так, может, зайдешь ненадолго?
Он рассмеялся:
– В другой раз как-нибудь. Мне завтра рано вставать – еду в Лодзь. На озвучивание.
Я взлетела к себе наверх, как на крыльях. Получалось, что это было наше первое свидание, никак не связанное с работой. По крайней мере, для меня. Вполне возможно, что для него это ничего не значило: просто сделал доброе дело, подбросил до дома свою бывшую студентку. В том злосчастном интервью, когда он решился заговорить о нашем браке, Зигмунд признался: «Чувство возникло не сразу… или, другими словами, долго оставалось неосознанным, пока продолжались наши отношения преподаватель – студентка…» Педагог и студентка… Оно и понятно, такая роль ему выпала – учил меня профессии, тому, как я должна вести себя на сцене, а потом, как вести себя в любви. Но в этом я оказалась нерадивой ученицей – строптивой и непокорной, на каждом шагу создавала ему трудности в воспитании…
Поймет ли он когда-нибудь мое теперешнее состояние? Поймет ли, почему я пока не хочу возвращаться к жизни…
С того разговора возле моего дома прошло полгода. И вот однажды мне предложили роль в кино. Главную роль! И моим партнером должен был стать Зигмунд Кмита. Но когда я с ним советовалась, принять ли мне предложение сниматься в кино, то еще не знала, что он тоже участвует в этом фильме.
– Конечно, соглашайся, о чем тут думать.
– Для меня это совсем незнакомая территория, ведь я театральная актриса.
– Хорошо, что ты так думаешь. Кино – искусство второразрядное… но оно нам необходимо. Не мы ему, а оно нам. Приносит деньги и популярность. А реализовывать себя будешь в театре.
– Даже не знаю, – сомневалась я. – Такое чувство, что кино отберет у меня что-то важное…
– Не бойся, я этого не допущу.
И он сдержал свое слово. Был постоянно рядом со мной с самого первого дня съемок. Но именно это меня и расстраивало – я не хотела, чтоб он стал свидетелем моего провала. Я оказалась лицом к лицу с неизведанным – здесь не было зрителей, только глаз нацеленной на меня камеры, холодный, даже можно сказать, жестокий. Где-то за пультом находился режиссер, который молча наблюдал за моей игрой. В первый день я этого не выдержала, сбежала со съемочной площадки вся в слезах. Зигмунд тут же пришел мне на помощь:
– Оля, все хорошо.
– Хорошо? – Я была искренне удивлена.
– Более того, просто отлично.
Фильм имел успех у публики, критики приняли его прохладнее. Меня стали узнавать на улице. Даже просили автограф. Я со смехом рассказала об этом Зигмунду.
– Ну вот видишь! Слушайся своего старого профессора.
– Ты совсем не старый.
– Для тебя я определенно староват. Моя дочь как-то рассказывала мне об одном, по ее словам, старичке, который, как потом оказалось, был моложе меня всего на два года! А ведь ей столько же лет, сколько тебе.
Дочь. Так впервые в наших разговорах появилась тема его семьи. Я знала, что его жена в прошлом была актрисой, которая отказалась от своей карьеры ради воспитания детей. Их было двое – дочь, та, что моего возраста, и сын, младше ее на несколько лет. Зигмунд его страшно любил. Вслух никогда не говорил об этом, но это чувствовалось. А еще до меня постоянно доходили сплетни о его новых любовницах. В театральном училище даже кружила поговорка: «Берегись, не залети, когда Кмита на пути». Но тогда меня это так больно не ранило. Все изменилось в тот день, когда я вошла в гримерку и увидела его водолазку на подлокотнике кресла…
Каждый раз, когда врач входит в мой бокс – у палаты, где я лежу, одна стена стеклянная (после того как меня сюда перевезли из операционной, я успела немного оглядеться, прежде чем окончательно уйти в себя), – сердце у меня замирает: боюсь разоблачения – вдруг откроется, что я притворяюсь, будто нахожусь в беспамятстве?..
Так же я когда-то боялась, что Зигмунду откроются истинные причины моего плохого настроения и он от меня отвернется. Для меня не было секретом, что многие мои однокурсницы были в него влюблены, ведь он был известный актер и преподаватель, а кроме того, умел заморочить голову женщинам и нравился им как мужчина. Даже очень. Злые языки называли его главным героем-любовником в польском кино. Как-то раз одна журналистка, собрав студенток театрального училища, устроила опрос: что они думают о Зигмунде Кмите. Так вот, самая бойкая сформулировала общее мнение:
– Он обожает женщин. Мы чувствуем себя в его присутствии просто великолепно.
И я так себя чувствовала – правда, до поры до времени. Прежде меня не волновало, что он женат. О его жене я и не думала. Тем более что это не составляло труда – к тому времени, когда я поступила в театральное, ее фамилия ни в театре, ни в кино уже не была на слуху. Я даже вспомнить ее не могла. Хотела спросить о ней у Яловецкого, но побоялась, что он все поймет… В конце концов осторожно вывела его на разговор о жене Зигмунда как об актрисе.
– Эльжбета Гурняк самую лучшую свою роль сыграла в спектакле «Мученичество и смерть Жан-Поля Марата»… Стояла на сцене в чем мать родила, как мраморное изваяние. И надо признать, статуэткой была превосходной. Ее роль не предполагала открывания рта…
– А что, у нее плохая дикция?
– Да я уж и не помню, – уклонился от ответа Яловецкий.
Вот и все, что я знала о жене Зигмунда. Не стоило воспринимать замечаний Яловецкого дословно – он слыл человеком острым на язык, щедрым на обидные суждения о тех, кого недолюбливал. Как видно, Эльжбета Гурняк не входила в круг людей, которым он симпатизировал.
А потом была наша вторая гастрольная поездка со спектаклем «Три сестры». Именно тогда наша любовь стала фактом.
– Оля, ты уверена? – спросил меня Зигмунд, глядя прямо в глаза.
– Давно. Два года как.
– Нам будет трудно.
– Можем любить друг друга втайне от всех.
Он отрицательно покачал головой:
– Нет. Я уйду из дома. Ты должна стать моей женой.
«Но ведь у тебя уже есть одна жена», – подумала я.
Мне было совсем нетрудно забыть о разнице в возрасте между нами. Зигмунд порой казался младше моих сверстников, к примеру Дарека, который в повседневной жизни был человеком довольно унылого и скучного нрава. Зигмунда он ненавидел, быть может раньше меня догадавшись о моем чувстве к «этому карлику», как он его называл. Пришел день, когда я попросила Дарека уйти. Это произошло незадолго до того, как Зигмунд занял его место. В один дождливый день Зигмунд появился на пороге моей тесноватой квартирки с одним чемоданом.
– Думаешь, мы поместимся здесь вдвоем? – спросила я.
– Разве у нас есть другой выход?
Я ничего не знала о его личной жизни, кроме того что он женат и у него двое детей. Не знала, где он живет. Есть ли у него, скажем, собака. Что он вынужден был бросить ради меня, что оставить из-за того, что это не поместилось в чемодан. Потом, когда о нас сплетничали все кому не лень, до меня дошли слухи, что он оставил жене двухэтажный таунхаус на Садыбе, забрал только машину – старенький «фольксваген». Автомобиль стоял теперь возле многоквартирного дома, где я снимала однушку. Каждое утро я высовывалась в окно – проверить, на месте ли он. Автомобиль стоял себе – может, потому, что был не очень-то презентабельной колымагой, сверху донизу забрызганной грязью. У Зигмунда обычно не находилось времени помыть машину.
«Неужели это так просто – пришел с одним чемоданом, и теперь мы вместе?» – думала я. Но на деле все оказалось не так просто, в чем мне вскоре пришлось убедиться.
Наша первая любовная сцена разыгралась в автобусе, ночью, на трассе между Варшавой и Вроцлавом. В микроавтобусе «фольксваген», тоже довольно стареньком, у которого к тому же накрылся обогреватель салона. У меня зуб на зуб не попадал, хотя на мне была куртка. Зигмунд распахнул свою и сказал:
– Иди сюда, воробышек.
Моя голова лежала у него на груди, колючий свитер покалывал щеку, но какое это имело значение, когда в такой близости от меня билось его сердце? В салоне царил полумрак, другие тоже подремывали, притулившись друг к другу, – это был лучший способ согреться. Все относились к этому как к само собой разумеющемуся. В театре все происходит в сфере чувств, и физический контакт между партнерами воспринимается иначе. Ведь постоянно приходится играть «поцелуй» или «объятия» и находиться вблизи другого тела. Актеры относятся к этому не так, как обычные люди. В обыденной жизни, если ты прижимаешься к другому человеку, это может привести к определенным последствиям, приходится объясняться. В театре такие жесты не являются чем-то особенным и проходят безнаказанно. До поры до времени, как впоследствии оказалось.
В какой-то момент почти бессознательно я протянула руку и прикоснулась к его губам. Под пальцами ощутила запекшуюся кожицу – он часто, наверно, облизывал их на ветру. Его сердце как будто затрепетало, сквозь толстый свитер до меня доносилось его участившееся биение, с минуту я вслушивалась в звук этого ритма. А потом убрала руку. Больше ничего не произошло. Но я знала, он понял, что я хотела сказать этим прикосновением. Приехав во Вроцлав, первым делом мы бросились за горячим чаем в театральный буфет. Вместе со всеми я отхлебывала обжигающий напиток, едва удерживая чашку в негнущихся от холода пальцах. Зигмунд сразу же включился в работу, давал распоряжения техперсоналу. Потом было наше представление, спектакль прошел на ура, люди аплодировали стоя. И наконец, мы оказались в гостинице. В его номер я пришла сама. Все случилось после почти шести лет нашего знакомства, если считать с того дня, когда мы впервые увиделись, вернее, когда я оказалась с ним лицом к лицу – прежде видела его только на сцене. Он сидел за столом приемной комиссии. И кажется, обратил на меня внимание.
– А тебе тогда не пришло в голову, что для амплуа этой героини у меня длинноватый нос? – спросила я. – Я даже старалась стоять перед комиссией так, чтобы это было не так заметно…
– Я сразу приметил тебя, мне показалось, ты чем-то напоминаешь Анну Шигулю[2].
– Да ведь она страшная.
– Ничего подобного. У нее очень интересное лицо.
– Так всегда говорят, когда не могут похвалить женщину за красоту, – с обидой в голосе заметила я.
– Красоты как таковой не существует, – вдруг ответил он, – просто есть лица одухотворенные и есть никакие.
А у нее какое лицо? Первое или второе?.. Она должна уже скоро появиться. Когда год за годом я отбирала у нее Зигмунда, неминуемо сближаясь с ним, она не противилась. Просто не знала о моем существовании. Положение вещей изменилось. Теперь я присутствовала рядом с ним физически, как другое тело, была его любовницей, а это было труднее скрывать. Впрочем, Зигмунд и не хотел скрывать.
– Как же так – уйдешь из дому… Что скажет твоя жена? – растерянно спрашивала я.
– Для меня теперь самое главное, что скажешь ты, – ответил он, и мне не понравился его ответ.
Я все еще не могла свыкнуться с мыслью, что он тоже любит меня и хочет быть со мной. Кроме того, не до конца отдавала себе отчет в том, какую сенсацию это вызовет в нашем кругу, несмотря на то что постоянно кто-то кого-то бросал и находил нового партнера. Разница в возрасте тоже никого не должна была шокировать – таких браков, кстати вполне удачных, было уже несколько. Но на сей раз речь шла о Зигмунде. Ни для кого не было секретом, что он изменял своей жене, но, несмотря на это, их брак продлился больше тридцати лет – когда они поженились, будучи еще студентами театральной школы, им было по восемнадцать лет. Все происходило в тех же самых декорациях… ведь меня он тоже впервые увидел здесь. Возможно, если бы я первой не подала ему знаки и не пришла к нему в номер, ничего бы не было. Удивляло, с какой легкостью он поддался мне. Правда, я не понимала, зачем он собрался уходить от жены. Ради меня? Но я совсем не требовала этого. Мне вполне хватало того, что мы были близки. Что он любит меня. Секс опьянял нас. Мы торопились навстречу друг другу, тосковали, постоянно хотели быть рядом, на расстоянии вытянутой руки.
– Боже, как ты прекрасна, какая у тебя кожа… Оля, твой живот мог бы стать колыбелью для поэтов…
– Ага, вместе с лицом Шигули! – парировала я.
– Я обожаю твое лицо!
Не скрываю ли я чего-то? Например, того, в чем не хочу признаться даже самой себе? В больницу я попала из-за… случайной аварии на дороге… И тут же воспользовалась этим в своих интересах, чтобы потянуть время… В «Мнимом больном» Арган спрашивает: «А не опасно ли притворяться мертвым?» Но я ведь не притворяюсь мертвой, я просто лежу и не открываю глаза…
Кажется, не только я была потрясена решением Зигмунда официально оформить наши отношения. Правда, до этого ему надо было развестись. Надо сказать, развод состоялся довольно быстро по договоренности обеих сторон. Так же, без ссор и скандалов, разделили имущество. Весь ужас начался потом. Жена Зигмунда вдруг спохватилась и стала требовать отмены мирового соглашения, но судебный вердикт уже вступил в силу. Она не хотела с этим считаться. Писала заявления, объясняя, что поначалу согласилась на развод, потому что гордость не позволяла бороться за мужчину, который ее бросил. Но все произошло так быстро… Теперь она жалеет, что была столь великодушна. Ее брак с мужем длился тридцать пять лет, и нельзя вот так, одним росчерком пера, разрушать его.






