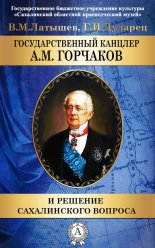Гулять по воде Иртенина Наталья
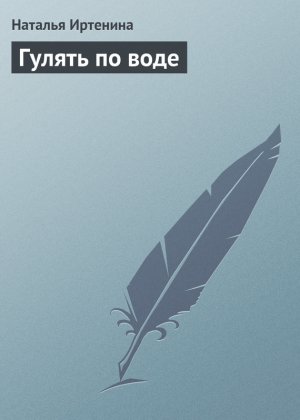
– От таких защитников, – говорит, – никакая руина не выстоит.
Коля ему пистолю показал и объясняет, а сам без кровинки:
– Испортилась, не стреляет что-то. А тут свистит над головой, вот и напугался немножко.
Башка пистолю оглядел, щелкнул железячкой.
– Предохранитель тут, – говорит, – снять надо было.
– Ох, – сказал на это Коля, – а теперь стреляет?
– Стреляет, – ответил Башка, – только ты ступай обратно в подвал, не мешайся теперь тут.
И пистолю назад не дал. Коля спорить хотел, но Башка его слушать не стал и к другим побежал. Аншлагу два слова сказал, потом к Студню привалился, а там бродяжка с ним сидит, косы плетет и грустит.
– Она тут зачем? – спрашивает Башка сердито.
– Прибежала, – сказал Студень, – а не прогонишь. Уж я ей говорил.
– Не уйду я, – говорит бродяжка, – вдруг вам сестра милосердия затребуется.
– Еще чего, – отвечает Башка, а препираться с бродяжкой не захотел, потому как это бестолку. Потом Студню тоже пару слов сказал и обратно заспешил. Но тут Студень ему говорит:
– Видишь, исполнились все желания. Больше нам ничего уже не осталось.
А у самого в глазах тоска гибельная, будто с жизнью прощается.
– Какие еще желания? – спрашивает Башка.
– Самые главные. Аншлаг зарезать кого-то хотел, а ты на войну попасть. Он зарезал, а ты попал.
– А ты хотел по воде, как по суше, ходить, – вспомнил Башка.
– Я ходил, – ответил Студень, – в тех башмаках шамбалайских.
– Это не считается, – быстро сказал Башка, – потому как липа. А по-настоящему ты не ходил еще, и нечего до срока себе могилу рыть.
Студень чуть прояснел, а Башка к воротам побежал, да на полпути к мшистой церкви повернул, пока стрельба опять не принялась. Перед монахом встал, как есть, и молчит, взирает. Знает, что убьют их и деваться некуда, а помирать не хочет и беспощадный спор с монахом не знает, как прекратить. Говорит ему молча и со всей просьбой в мыслях:
– Буду убивать их, покуда живой. Если можешь, останови это все.
Высказал себя так, голову долу повесил и к воротам возвратился. А там Коля его поджидает, тревожится и на разбойную команду все выглядывает.
– Перемирие у них, – говорит, – посланца выдвинули, вон идет.
Впрямь переговорщика снарядили, палку ему в руки дали, а на палке белый клок култыхается. Идет он, флагом машет, а у самого рыло боязное и разумом не обогащенное. До ворот не дошел, встал и зовет:
– Эй там! Как насчет договориться? У нас дело конкретное, без лишнего звону.
А Башка из пистоли ему флаг прострелил и больше отвечать не стал. Посланец на ногах не удержался и к своим скувырнулся, проорамши чего-то. Тут сразу пальба снова открылась, и лихие головы в наступление поползли через кусты. Башка из своей автоматной пукалки строчит, а Коле криком велит:
– Беги к Студню, забери бродяжку и в подвал отволоки, пусть хоть кусается. Да сам с ней сиди там, здесь ты не нужен вовсе.
Коля покивал и побежал, согнувшись в погибель. До бойницы Студня добрался да без слова бродяжку за руку ухватил и прочь потащил. А она кусаться не стала, смирно себя отдала, потому как от пальбы ей совсем грустно было. Коля ей говорит, как самому поп наказывал:
– Молись Христа ради. – Да от себя еще добавил: – Авось пронесет.
И сам к угодникам громкий вопль посылает в мыслях, чтоб огородили и погибели напрасной не дали. А бродяжка его в сторону от подвалов поворачивает и к мшистой церкви ведет.
– Там, – говорит, – побудем.
– Пусть там, – согласился Коля.
Стрельба вокруг все злее, и бомбы редкие рвутся. На миг вдруг стихнет, а потом заново разгорится, и стена дрожит, пылью сыпется. А кто первым отступит, неведомо. Лихие головы, слышно, раззадорились, да Башка с командой тоже кровь разгорячили, грызутся не на жизнь. Солнце туман разогнало, видно далеко, и Кудеяр на другом берегу озера вычертился в полную силу. А только оттуда помощь, верно, разорительней бандитского штурма будет, такое себе Коля примечание сделал.
XLIX
Пришли они в церковь, а тут кровли никакой, одно небо вверху. Все голо и бесприютно, да в уголке бродяжкины пожитки: торбочка с одеялом. Сама бродяжка без остановки идет в другую сторону и Колю за собой зовет. Тут в полу рукой пыль стерла и показывает:
– Эта плита подъемная.
Коля глаза напряг, а все равно ничего не разглядит.
– Где? – говорит.
Бродяжка пальцем квадрат прочертила, тогда Коля прозрел, но все равно сомневается:
– А как видно, что она подъемная? – спрашивает.
– Тут замок, – отвечает бродяжка и углубление с краю плиты расковыривает, а оно все землей забито. – И ключ есть.
Коля на это в макушке изумленно трет, так его от внезапности разобрало. Бродяжка сняла с окна некую штуковину и ему протягивает. А штуковина точно с ключом сходство имеет, с одного конца круглое для руки, с другого – стержень поперечный, а целиком все железное и заржавленное.
– Где нашла? – спрашивает Коля и замок расчищает от вековой грязи, а сам волнуется и в руках дрожит.
– Да на окне лежал, – сказала бродяжка.
– Как это лежал? – не верит Коля. – Сколько лет с того прошло. Здесь и тюрьма была и всякое.
– Да это же всегда так, – говорит бродяжка, – что на виду, того не видят.
А Коля все спешней замок освобождает и попутно интересуется:
– Кто же тебя надоумил в полу искать?
– А раз ключ есть, – отвечает бродяжка, – то и замок должен быть. Вот и надоумилась.
– Ох, не иначе тебе Василисой Премудрой быть, – говорит Коля.
Теперь он ключ в замок вставил, быстрым крестом в помощь ознаменовался и повернул. А туго пошло от вековой грязи, Коля силой налег. Как стержень за камень снизу зацепил, так он на себя тянуть стал и плиту с места стронул.
– Тяжело, – пыхтит.
А бродяжка во все глаза смотрит и в дыру заглядывает. Коля плиту в сторону сложил и тоже голову туда просунул.
– На лаз похоже, – говорит. – Лестница вот. А воздуху нет, прочно замуровано было.
– Монахи от разбойной власти что успели, схоронили, – откликнулась бродяжка.
– Надо оглядеть, – сказал Коля, высунувшись, а сам не в себе и в трепете. – Только боязно что-то.
И опять крестом осеняется да лбом об пол для надежности стукнул. А как на лестницу ступил, так весь страх в пятки ушел и оттуда по ступенькам под землю провалился. Коле свободно стало и просторно в душе, хоть стены узкие и корябают с боков. Бродяжка свечной огарок запалила и следом идет, озаряет.
Коля десять ступеней отсчитал, а тут поворот с площадкой, и на полу покойник лежит в благочинном виде. Бродяжка в спину Коле ткнулась, как он встал на месте от резкости чувств, а потом высунулась, посмотрела и говорит:
– Вот и монах, как обещался.
Коля на ступеньку от слабости сел да лоб вытер.
– Сподобился, – говорит, – на чудо глазами глядеть.
Монах старенький лежит, лицом острый и ссохшийся, руки на груди мирно сложил и в них держит что-то. Ряска на нем потлевшая, а все равно целая, сбоку только заскорузлая, и пятно под ним на полу темное, расплывшее. А воздух чистый, без всякого мертвого духа.
Коля к монаху подполз и темное на полу ковырнул, разглядел на пальце.
– Кровь, – говорит, – вроде.
– Так убивали их, – сказала бродяжка, – а он ушел.
– По воде?
– По воде. И тут сам себя схоронил.
У Коли вдруг слезы на глазах, щиплются и жгутся. Он их смахнул и говорит:
– Как звали его, неведомо, мученика за веру отеческую.
– Ведомо, – сказала тут бродяжка.
– Как ведомо? – спросил Коля в изумлении.
– Так он Егору во сне назвался. Иоанном, говорит, нарекли. В печали и тяготе позови, говорит, приду невидимым образом.
А Коля опять простор в душе почувствовал да на руки монаха смотрит, чего он там держит.
– Вроде шнурок, – говорит.
Потянул за шнурок, а из сухой ладони камешек вынырнул с дыркой посредине. Коля на него глядит и зрению не верит. Талисман родовой, что матушка ему на шею некогда повесила, перед носом у него на шнурке качается.
– Что это? – спрашивает бродяжка.
А Коля камешек в кулаке зажал и глаза зажмурил.
– Это, – говорит, – судьба моя.
И на шею его повесил. Хоть в руке камешек невесомый и сам с яйцо перепелкино, а как на грудь лег, так и придавил Колю к месту.
– Теперь, – говорит, – мне отсюда некуда идти.
Наверху в это время битва продолжалась. Башка, Студень и Аншлаг оборону прочно скрепили, лихие головы близко к ним забраться не могли, да их теперь меньше осталось. Опять передышку взяли, а Башка припасы проверил, совсем их мало уже. Аншлаг к нему перебежал и к стене привалился, мокры от росы и вовсю расхристанный.
– Что, атаман, – говорит, – костями ляжем? У меня патронов одна коробка.
– У меня того меньше, – отвечает Башка. – Студень живой?
– Живой был. А из города-то должны услышать?
– Должны. Только нам все равно конец. В подвалах прятаться бестолку.
– Из тюрьмы на пенсию, – гыкнул Аншлаг. – Попрощаемся, атаман?
– Попрощаемся, – говорит Башка.
Вот они руки сцепили, обнялись и разошлись.
– А может, еще встретимся, – обернулся Аншлаг.
И со Студнем он тоже попрощался, а тот сказал:
– Если живой останусь, на воде научусь ходить, чтоб по-настоящему и без липы. Непременно научусь.
Аншлаг смеется:
– Замороченный-скособоченный. Когда научишься, меня позови, вместе по нашему озеру гулять будем.
Отмахнул рукой и к своей бойнице вернулся. Скоро бой обновился, лихие головы, вконец разозлившись, напролом полезли. Внизу у них еще машина прибавилась, тяжелые снаряды доставила. И стали лупить по-всякому, стену бомбами обваливать. Аншлаг себе позицию в старой сторожевой башне устроил, вполовину обломанной, а передняя стенка так вовсе ему по пояс была.
Расстрелял он половину коробки и думает, как бы ему патроны растянуть на подольше. А тут снаряд аккуратно в башню влетел, все вокруг вспучилось да разлетелось, и Аншлаг сквозь землю провалился. В голове у него мутно сделалось, а потом разъяснение настало, но не так чтобы до конца. Стоит на четвереньках и землей плюется, головой мотает. Ружья нигде нет, света не видно, а грохочет сверху. Глянул Аншлаг, а там дыра, да вылезать в нее совсем не хочется, в голове все бултыхается. Он на ноги встал и пошел куда-то, куда дорога была. Стенки по бокам руками держит, а они вроде кирпичные. Что такое, думает, не было тут такого подвала, самолично все проверил и обстучал на предмет клада.
А подвал длинный тянется, Аншлаг задыхаться начал, и мозги еще на место не встали, барахтаются. Опять у него помутилось, а вдруг лбом стукнулся, и прояснело чуть. Он рукой преграду обшарил и решил, что деревянная, только запертая с какой ни то стороны. Тут Аншлаг испугался, что его не выпустят и останется здесь замурованным. Он стал колотиться в дверь и орать на все лады. Башмаком по ней, кулаками долбит и благим матом ревет, а голове от этого совсем плохо, помирает у Аншлага голова и на ясный свет просится.
L
Бродяжка за Колю, который судьбу нашел, обрадовалась и говорит:
– А лестница тут дальше идет, надо поглядеть.
И сама первая пошла со свечкой, мимо монаха протиснувшись. Коля за ней встал, тяжел у него камешек на шее, прямо-таки сгибает, но идти можно. Тут они услышали, как долбит кто-то и вроде голос из-под земли ревет. Бродяжка прянула и в Колю ткнулась, а он ее сдвинул за себя и вперед пошел по ступеням.
– Духам безобразящим тут не место, – говорит, – кто ж это?
А бродяжка вдруг смеется:
– Тот, кто ищет клад.
Лестница кончилась, и они очутились в глухом закутье. Тут гроханье сильнее, совсем рядом. Бродяжка свечку выше подняла и ахнула, а Коля чуть было по матушке не сказал от сотрясения чувств. Вокруг старинные доски с ликами предстали, большие и малые, вскладчину и в особицу, а между ними разное церковное для служб, ларцы-ковчеги, кресты и оклады, ткани расшитые. Все вперемешку, а будто и в порядке чинном сложено. Да в стене напротив дверка дубовая, и в нее колотятся.
Коля засов отодвинул, тут на него Аншлаг выпал, очумевши и на половине рева. А Коля ему рот ладонью прижал и говорит:
– Не шуми, недоросль.
Аншлаг озирается в страшном удивлении, дышит жадно и головой для ясности встрясывает, мозги на место ставит.
– Это чего, музейный склад? – таращится. – А меня снарядом жахнуло и под башню закатало.
Бродяжка его за руку взяла и наверх по лестнице повела, а не то он головой бы совсем съехал от сильного впечатления. А как мимо монаха проходили, Аншлаг перепугался и наверх с криком убежал. Узнал старичка, который первым стену клал. Бродяжка его возле церкви отыскала, а Коля внизу с монахом остался, трезвение производить по-благочинному.
Здесь Аншлаг от бродяжки снова отбился и к воротам идет, гласит радостно:
– Мы клад нашли, атаман, самый настоящий!
Башка на миг голову от сражения отвернул, сказал через зубы:
– Кто ищет, тот найдет.
А как отвлекся, так перед ним разбойное рыло возникло. Ощерилось злорадно и стало убивать Башку. А только не успело. Между ними третий явился, Башку за руку взял и назад отодвинул, а сам впереди встал. Вся расстрельная порция ему досталась, да ничем не повредила.
Разбойное рыло в ужасти отступило и в кусты укатилось. А монах руку Башки отпустил и без оглядки с холма вниз пошел. Лихие головы в него постреляли сначала, а потом бросили и вслед ему смотрели, устрашась. Монах к озеру спустился – и вроде шел медленно, а у берега скоро оказался.
Аншлаг к Башке подбежал, и бродяжка рядом встала, а за ними Студень приковылял, утомившись войну вести. Все на монаха, как один, глядят. Вот он на воду ступил и пошел прямо по дивному озеру, аки посуху, чуть поверхность колышет.
Башка в сотрясении пукалку свою автоматную кинул и за ним рванулся. Бегом до берега добежал и по воде помчался, будто полетел, а только через пять метров бултыхнулся и стал тонуть. Забыл, верно, как плавать.
Студень ему на выручку бросился, сам сраженный и будто кипятком ошпаренный. Тут уже мигалки запиликали, и от машин возле холма сразу тесно стало, а лихим головам обидно. Милиционерия повыпригивала и всех разбойным рылом в землю положила. Студень Башку на берег вытянул, и на них тоже кандалы нацепили. А только здесь снова у всех головы посрывало.
Монах посреди озера шел, и ему навстречу из воды город встал, лучезарный и на солнце золотом сияющий. Воздвиглись у всех на виду шатры цветные, маковки резные, купола огневые, красой неописанной на все стороны расхвалились и стоят, глазам радость несут. Перед монахом ворота городские раскрылись, и вошел туда, пропал из зрения.
Милиционерия, рты раскрывши, на диво глядит, лихие головы землю жуют, Студень с Башкой свое переживают. А тут еще к холму три богатыря подходят, с богатырского сна пробудившись.
Первым на поляне Никитушка глаза продрал после ночных трудов, да Ерему растолкал, а Афоню они уж вдвоем на ноги подымали сильными приложениями.
– Что за комары мне на ухо звенят? – прозевался наконец Афоня.
Ерема ему отвечает:
– Стреляют.
Афоня прислушался и говорит:
– Ну и пусть себе стреляют, не богатырское это дело, пальба бестолковая.
– Надо бы посмотреть, а вдруг сгодимся, – отвечает Ерема.
– Как будто у монастыря шумят, – тревожится Никитушка.
– А завтрак?! – сдосадовал Афоня. – Я на пустое брюхо с супостатами не воюю.
– Твоя сила не в брюхе, – напомнил ему Ерема.
За таким разговором из лесу вышли и к монастырскому холму в обход озера направление взяли.
– Откуда там стена вокруг взялась? – присматривается Никитушка и богатырей торопит.
А все равно к делу не поспели, только к шапочному разбору, да главное все же не пропустили. Как дивный город из воды встал, залюбовались им, а к монастырю пришли, тут краса неописанная попрощалась и скоро совсем в озере скрылась, как не было ее. А все же была. Милиционерия в таком явлении врать не станет, разбойные рыла подавно. Все ее видели, у кого глаза на месте, и никто не умолчал, у кого язык от изумления не проглотился.
Богатыри побоище оглядели, разложенные по земле рыла обозрели, мертвых и поврежденных пересчитали. А раненых по докторским мигалкам уже расфасовывали и отвозили.
– Что за дела тут лихие? – спрашивают богатыри.
– А вы кто такие будете? – им говорят. – Документы свои объявите.
А сами на Афоню хмурятся, больно здоров человечище, вдесятером его не уложить.
– Да мы люди мирные, – говорит Ерема, – мимо проходили, дивом на озере любовались.
– Мы тоже любовались, – отвечает ему главный милицейский начальник, да не такой главный, как Иван Сидорыч был, помельче. – А только бумага у нас есть, чтоб взять под арест двух верзил и одного недоросля, подсобников бритых голов, потому как оные подсобники перекачку особо опасным образом ночью разнесли и заморским служащим урон сделали.
– А вот пусть они свою заморскую службу и несут у себя за морем, – ворчит Афоня.
– Да разве у нас головы бриты? – добродушествует Ерема. – Мы только бороду бреем.
– Вижу, вы птицы не простые, – задумчиво молвил тут милицейский начальник, к особому значку у Еремы на груди глаза устремивши, и спрашивает с надеждой: – А может, сами в отделение пройдете?
– Да нет уж, – говорит Ерема, – у нас еще дел по горло, вы как-нибудь сами разберитесь со своими бумагами.
А Никитушка, на Студня и Башку уставимшись, спрашивает:
– За что в кандалы попали?
Студень на монастырь вверх кивнул:
– За это самое. – И вздохнул: – Стену жалко, порушили.
– Они? – показал Никитушка на разбойные рыла.
– Они, – отвечает Студень.
– А стена ваша?
– Наша.
– Как это вам взбрело? – удивился попович.
– А про Черного монаха слыхал?
– Слыхал.
– Тогда чего глупости спрашиваешь?
– Да это я так. Оружие-то у вас откуда?
– Оттуда, – говорит Студень, – чего пристал, как банный лист. Нас теперь надолго в тюрьму засадят, дай воздухом надышаться.
Вдруг милиционерия сверху кричит:
– Тут еще один. С контузией. И ловушки на растяжках, саперов надо.
Аншлага, тоже в кандалах, к ним прибавили. А он ошалевший и головой мотает:
– Там клад, атаман! Монах его сторожит, а сам мертвый, как мумия. Только не внятно мне, отчего их двое?
– Мощи нашли? – всплеснулся Никитушка.
– Один он, – говорит Студень. – Больше не будет здесь сторожить.
Тут возле них появилась бродяжка, села рядом и опять загрустила. А кандалы на нее не надели, будто во внимание не приняли.
– Это кто? – спрашивает Никитушка, а сам смотрит любопытно.
– Бродяжная она, – сказал Студень, чтоб не выдавать ее.
– А клад теперь кому пойдет? – волнуется Аншлаг.
Бродяжка ему говорит:
– Клад теперь с тобой, как дивный город на дне озера.
Аншлаг на нее выставился и замолк в недоразумениях.
– А он чего все молчит, – Никитушка на Башку кивнул, – и сам не в своей посуде будто?
– Ему Черный монах такое настроение сделал, – ответил Студень и больше ничего не стал прояснять, чтоб Башку от переживаний не тревожить. Сказал только: – А из тюрьмы вернусь, сюда приду и посмотрю, как тут все станет.
LI
В эту пору еще одна заморская марка у холма посреди милиционерии остановилась, и оттуда сам Горыныч возник, во всей проспектабельности, а в какой ипостаси, неведомо. Обстановку расценил, на бывших бритых голов особо глазом повел, потом интересуется с поднятой бровью:
– Отчего охраной порядка не милиционерия занята, а частные лица? – и на разложенных по земле кивает.
А главный милицейский начальник говорит, обидемшись:
– Это не частные лица, а разбойные рыла, и от такой охраны порядка у нас зубы болят.
– Мне не ведома их разбойность, – отвечает Горыныч, – а вот эти трое – из банды бритых голов и здешние руины себе присвоили против закона.
– Это мы разберемся, – говорит милицейский начальник, а сам на Горыныча с нелицеприязнью смотрит и рад бы его самого ущучить, да мелкий чин не особенно позволяет.
– Известно, как вы разбираетесь, – заявляет Горыныч, – невиновных в кутузку закатываете, а потом кости сгорелые оттуда достаете.
С милицейского начальника от гневности аж фуражка слетела:
– За такое клеветное распространение я могу особые меры принять! – говорит.
– На бумажке прими свои меры и подотрись, – грубит Горыныч и обратно в машину лезет, потому как видит, что бесполезно ему тут быть и милиционерия нелюбезно настроена. А все потому, думает, что Кондрат Кузьмич в других средствах против него ослабел и усиливаться решил через милицейскую неприветливость. А то еще глубоко дознаваться начнут и вовсе подкопаются под него. Такая тут Горынычу неприятность открылась.
А только развить отступление он не успел, оттого как озеро вдруг забурлило и явило из себя доисторическую монстру. Голова на длинной шее плыла к берегу и, видно, торопилась страшно, подвывала внутриутробно. Милиционерия вмиг по сторонам раздалась, а за ними разбойные рыла с земли повскакали. Главный же начальник с места не тронулся, пистолю вынул и в монстру решительно прицелился. Но тут его Ерема и Афоня с пути отодвинули, а с ними Никитушка, и встали втроем против доисторической скотины.
А скотина себя конфузно повела. В неглубокое совсем место выплыла, а все только одна голова на шее торчит, тулова под ней не видать. Вот она на мели застряла и тянет страшную морду к Горынычу, челюстью клацает. Чуть голову ему не отгрызла, да Горыныч увернулся. Тут Афоня плечи расправил и морду скотине кулаком отбил. А она треснула и пополам развалилась, какие-то тряпочки на ней обвисли и железочки повыскакивали. Афоня охнул от странного действия, а в брюхе монстры отверстие открылось, и из него вылезло жалкое что-то.
– Вот так природное явление, – заусмехался Ерема. – Это кто ж такой?
– Пугало огородное, – бурчит Никитушка.
А пугало знатное – весь в струпьях и гнилых язвах, страх глядеть. На колени повалился и как взвоет:
– Не могу больше монстрой быть! – А вдруг к Горынычу кинулся и на нем обвис. – Сжалуйтесь, Захар Горыныч, не оставьте в беде погибать! Совсем проклятое озеро истерзало.
Горыныч его с себя содрал, рыло искривив от брезганья, и говорит:
– Какой я тебе Захар Горыныч, знать ничего не знаю.
А Студень под бок Аншлага толкнул:
– Не задалась у Вождя политика, – говорит.
Милицейский начальник очень таким разворотом заинтересовался и велел на обоих тут же кандалы нацепить, потому как за поимку доисторической монстры и ее владельца ему мелкий чин теперь должны были в повышение произвести. Горыныч, конечно, даваться не хотел и грозился всяко, но его слушать не стали, а уломали по-быстрому, со всем уважением и в машину затолкали. Тут и всех остальных разбойных рыл погрузили да увезли, а Башку, Студня и Аншлага отдельно от всех, с особой честью запаковали.
Остались у озера три богатыря, милицейский начальник да в запасе у него сколько-то людей для полюбовного соглашения.
– Что ж мне с вами делать? – вздыхает начальник. – Отпустить нельзя и посадить тоже. Небось каталажку мне разнесете, а она одна в городе осталась.
– Непременно разнесем, – кивает Афоня.
– Нам сидеть никак нельзя, – говорит Никитушка, – у нас дела важные для отечественного интереса.
– А у меня, – отвечает начальник, – дела государственного интереса.
Так бы им противоречить друг другу до самой ночи, если б тут не прибыли к монастырскому холму три заморских богатыря в добром здравии. Только у двух нашлепки на лбу, и у третьего шишка, а так в целости и сохранности. С ними грузовая драндулетка притащилась, а в ней приспособления разные для подземного копательства и взрывательства.