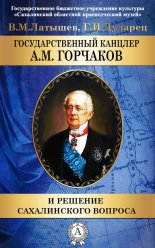Гулять по воде Иртенина Наталья
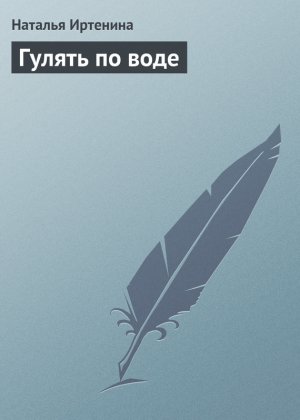
А они ему:
– Перекачку мы в разгон взяли, действует во всю мощность, а озеро мелеет не так чтобы сильно, а вовсе слабо. На две ладони всего убыло. Имеем подозрение, что озеро усиливает глубинный источник, и надо его искать, а иначе не справимся, со всем нашим бывалым ассортиментом.
– Так найдите, чтоб я на вас мог положиться, – отвечает советник и недовольство лицевым выменем отображает. – Сейчас ступайте и делайте свое дело.
Таким манером воду из супермагазина быстро изъяли, а Кондрат Кузьмич самолично перекачку вниманием обжаловал и посетил. Поизумлялся ассортиментным технологиям, в озеро заглянул, ничего там не увидел и уехал к подруге дней Море Кик. А та после душевной травмы оправлялась и капризы закатывала, да требовала, чтоб всех пойманных бритых голов сейчас же казнили, а потом сослали до конца жизни в вечную мерзлоту. Кондрат Кузьмич ее утешал и все обещал исполнить, сам же думал, как теперь с их замыслом быть. Прикрыть ли вовсе патриотическое непослушание бритых голов или оно еще пригодится для усиления крепкой руки?
А выходило, что пригодится. Только подруге дней Кондрат Кузьмич про то не сказал. Да еще решил другого вожака для бритых голов найти, а Водяного примерно наказать, когда его отыщут.
Потому как сам Вождь в это время в законном испуге пребывал и от всех прятался в дальнем усыпальнике на кладбище.
XXVI
Башка, Студень и Аншлаг из озера после битвы выплыли к другому берегу, на разгром обернулись, переглянулись и молча зашагали к городу. А там в канализацию прыгнули, ночь перетерпели и с утра в Дыру ушли. Знали, что несдобровать им, ежели их сыщут, вот и скрылись в Гренуе-присоске.
А как вылезли с той стороны, головами повертели, глазами похлопали и в затылках почесали. Оттого как Гренуйск на себя был не похож и гудел, будто злой осиновый рой. А доброты в нем и раньше много не было, только тут совсем разбесился.
Перво-наперво увидали битые окна да развороченные витрины, да двери на ниточках али вовсе на полу, будто слон поплясал. А там хулиганы с дубинами выбежали и понеслись угоремши, вопили чего-то, не пойми чего, на своем олдерлянском языке. На машину набежали и давай ее дубинами охаживать, а она и без того инвалидная стояла, так теперь совсем скукожилась и на бок завалилась.
– Чего это они? – спросил Студень, нервность ощутив, а только ему никто не ответил.
Башка повел всех дальше, может, там ясней станет. Вот идут и наглядеться не могут. Посередь улицы лежит девка раскинутая, не то чтоб живая, а может, прибитая для удобства, а на ней двое очумелых ползают, кряхтенье издают. Другие в лавку, еще не тронутую, с прутами железными ломятся, стекла сыплются. Наверху из окна черный дым валит, да с музыкой орущей и с воплями пополам. А вдруг стрелять начали, где не видно, только слышно.
– Революция у них, – говорит Аншлаг и губами шлепает, кривляется, а видно, что сам обалдевши и одуревши. Орет, ладони рупором поставив: – Все на баррикады! – И как дикий человек Тарзан, горлом звучные кренделя выделывает.
А полиции на улицах никакой, все зверообразные попрятались неведомо куда. Тут стрелять уже ближе начали, совсем над головами, и с олдерлянской руганью в придачу. Башка пригнулся и под козырек отскочил, Студень в другую сторону, а Аншлаг вверх поглядел и давай коленца выписывать. На месте вертится, на руках срамоту показывает, языком дразнится, ногами дрыгает. Башка к нему подбежал и сдернул с улицы под крышу, пока совсем мозги по асфальту не растеклись. А в кого-то из ружья сверху попали, один повалился, другой охромел и на одной ноге ускакал.
Как палить прекратили, они Студня искать начали, запропастился совсем. Все битые витрины облазили, а в одной видят – стоит в лавке Студень, руки вверх задрал, а в грудь ему дуло смотрит, подплясывает. Ружье автоматное молодой и патлатый держит, с растатуированным голым туловом, потому как солнце здесь тоже сбесилось со всеми вместе и обжаривает невтерпеж, что хоть совсем без штанов бегай.
– Эй, обезьян обезьяныч, – говорит ему Башка, – убирай давай пушку. Мы тебе плохого не сделаем, мы вообще не тутошние, ваших порядков не знаем.
А тот ни бельмеса не вразумляет и пушку не убирает, только дышит громко и потом истекает.
– Не так надо, – говорит Аншлаг, – он же дикий. – И к патлатому обращается: – Мы с тобой одной крови, ты и я. – В себя тычет, потом в него.
Тот опять не понимает и еще громче пыхтит.
– Он глухой, – качает головой Башка.
– Нет, – отвечает Студень, – просто он по-нашему не знает.
– Опусти руки, – говорит Аншлаг.
– Он меня прострелит.
– Не прострелит, – отвечает Башка. – У него патронов, наверно, нет. А так давно бы прострелил.
Тут волосатый залопотал на своем языке, ружьем стал махать на витрину, показывает, мол, революция у них, без ружья никак.
– Дыр-дыр-дыр, быр-быр-быр, – передразнивает его Аншлаг. – Варвар какой-то.
– Точно, варвар, – говорит Студень и руки опускает. – Шкуры только нет.
– Для чего шкура в такой бане?
А волосатый к битой витрине боком передвинулся, посмотрел на улицу и опять что-то сказал, длинное и неудобоваримое, всех троих оглядывая.
– Чего он говорит? – спрашивает Аншлаг.
– Ясно, чего, – отвечает Башка, – хочет знать, откуда мы такие взялись, непонятные.
– Спроси у него, что за революцию они устроили, – говорит Аншлаг.
Башка, как умел, изобразил вопрос и показал на улицу. Тут волосатый вовсе разразился словословием, а потом стал вытряхивать на пол зажигалки с прилавка у кассирного аппарата. Несколько штук разломал и горючее туда же вылил.
– Чего это он? – удивился Студень.
А волосатый вдруг к витрине обратно скакнул и высунулся. На улице грохочущий гул разрастался, будто море бушевало и корабли о берег ломало. Волосатый крикнул, отбежал вглубь и спрятался в вешалках с одеждой. Потом выглянул и показывает, мол, тоже прячьтесь, сейчас будет опасно. Башка на улицу посмотрел, а там целая толпа надвигается и все по пути громит, как будто до них уже не разгромлено. Пригляделся Башка и говорит:
– Это халдейцы или шемаханцы, у них тоже революция, и сейчас тут ничего живого не останется.
Без дальних разговоров все трое соорудили себе маскировку из тряпья на вешалках и так погром переждали. А как халдейцы мимо хлынули, в витрину два не то три рыла сунулись, глазами поводили, а внутрь залезать не стали, поленились. Только камнями прилавок забросали и кассирный аппарат насмерть прибили.
После, как стихло, они из одежды вытряхнулись и на побоище из окна поглядели. А ничего хорошего там не было. Мамай прошел, да и все. На дороге сколько-то подавленных халдейцев осталось.
Волосатый опять зажигалками занялся. Собрал на полу в кучу, протянул к ней от окна веревочный шнур и поджег. А сам ружьем помахал на прощанье, крикнул, гикнул и убежал.
– Во псих, – сказал Башка и шнур затоптал.
– Хоть бы объяснил, чего это с ними такое, – говорит Студень, – может, от солнца перегрелись? Вон как шпарит.
– Чего с ними разговаривать, – отвечает Аншлаг, в тряпье лавочном ковыряясь, – с варварами. Дикие они совсем, неприрученные.
– Они бунтуют, – говорит тут Башка.
– Против чего? – удивляется Студень. – У них же все есть. Какого им еще рожна?
– А просто так. Со скуки. Все есть, а надо еще больше. Или чтоб обратно ничего не было.
– Точно кого прирежу, – обещает Аншлаг.
– А зачем чтоб ничего не было? – пытает Студень.
– А тогда можно отправить весь мир к черту, – отвечает Башка, – и не морочить себе и никому голову разными сложностями. Чтобы весь этот мир стал ненастоящим и ни копейки не стоящим.
Студень подумал и говорит:
– У нас такого нет.
– Своего хватает, – сердито отвечает Башка, – а чужих понятиев нам не надо.
Студень посмотрел на груду зажигалок и говорит:
– Все равно они на голову больные. Я тут не останусь, лучше дома в тюрьму пойду.
– Волохов, ты тоже домой в тюрьму хочешь? – спрашивает Башка.
– Я? – высовывается из вешалок Аншлаг. – Сначала зарежу кого-нибудь. Чтобы было воспоминание.
– Мне тут тоже не нравится, – говорит Башка.
– Это неправильное место, – отвечает Студень. – И мед у них неправильный.
– И одёжа у них дикая, – добавляет Аншлаг, прикладывая к себе. – Это чего за рысфуфырки на шнурках?
Башка к нему подошел, отобрал тряпку, рассмотрел и говорит:
– Это в старину носили. Тут, наверно, маскарадная лавка.
А Студень в прилавке порылся и вдруг шлем вытащил. Постучал пальцем – железный, а наверху малый пучок перьев бултыхается, снизу бумажка висит.
– Рома, – говорит, – написано. Какой еще Рома?
Башка у него шлем взял и нахлобучил себе на голову. Подвязки нащечных пластинок у подбородка завязал и совсем на старинного мордобойца стал похож.
– Не Рома, – отвечает, – а Рим. Понимать надо. Римский боевой шлем это.
– А вооружение к нему есть? – жадно спросил Аншлаг и начал перетряхивать все вокруг. – Нет вооружения, – отвечает сам себе. – Жалко.
– Пошли, – говорит Башка, а шлем не снимает. – Есть у нас еще тут дела.
Выбрались втроем на улицу, поглядели снова на варварское побоище и отправились чужие понятия прояснять.
XXVII
Коля на лежанке день-другой полежал, думы тяжкие обдумал, да совсем затосковал, и чувства в устойчивость все никак не приходили после жестоких обмираний над кудеярской историей. А осветленность души вовсе будто сошла, как и не было. От этого Коля еще больше скис и с угодниками общение прекратил, потому что не хотел напрасно их отвлекать от святых дел. Томление духа вконец сталось такое, что вдруг он с лежанки подскочил и пошел невесть куда. В ногах и внутрях беспокойство переплескивает, в голове мечтания култыхаются, а от всего вместе в организме кисло. И все тянет куда-то, в туман да в непонятность.
А весь его род был такой, беспокойный. Еще родитель Коле рассказывал, а родительница подтверждала. Прапрадедушка вот со своим беспокойством по-тогдашнему злобовредно справлялся – ходил в народ, темноту забитую просвещать, а за то его самого в темноту и глубину сибирских руд выправили, да там и успокоился навсегда. Прадедушка далеко его переплюнул – революционным матросом был и мировой пожар разжигал, кровососную власть устанавливал, а после та власть его силой угомонила. А уж дедушка такие дела ворочал, что ни в сказке сказать – реки вспять обворачивал, сухие пустыни в зеленый луг обращал и целые моря высушивал, не то что озеро какое. Да в море подсохшем и утоп от суеты сует. А родителю покойному больше их всех не подвезло. Всю, почитай, жизнь на одном месте просидел, как прислали его в Кудеяр светлой головой трудиться к народному благу. Сперва Щит Родины ковал, а там за сапоги-самобранки пересел. Тогда из дремучих кудеярских лесов совсем никого не выпускали, секреты берегли, а светлых голов подавно в строгости держали. Вот родитель тоже затосковал, закручинился, к зелью приложился, а за это его из тайных лабораторий погнали и из города в деревню отселили. Там он все читал анархического князя Кропоткина и помалу спивался, пока не помер. А беспокойство к Коле перешло и в Дыру его спихнуло.
Да как стал к нему Черный монах приходить, так Коля к вере отеческой склонился и думал: беспокойство его тут, на корнях, решится. А оно вот – заново засвербело и в мечтания повлекло.
Вот идет Коля по околице, суету сует вокруг наблюдает, думает, может, бродяжка повстречается, а с ней разговор завяжется. А только нету нигде бродяжки. Вместо нее Коля узрел кресло на колесах, а в кресле сидит добрый молодец, сажень в плечах, и кирпичи рукой напополам лихо рубит. Как разрубит, другой отколупнет от старой руины и опять его уполовинит. И так без счету, уже гора кирпичных половин возросла рядом. А кирпич все хороший, старинный, от монастыря, видать, растасканный. И молодец сам не прост, а видно, в звании, да значок на пятнистой одежде какой-то особый.
Смотрел на это Коля, засматривался, а потом что-то в голову ему вступило, и говорит:
– Досадно это, что такая могучая сила задаром пропадает.
Добрый молодец к нему голову обернул и неласково отвечает:
– Ничего тут нет могучего, то не сила, а четверть силы. Ступай себе дальше, досадный прохожий, не мешай мне думу думать.
А Коля на это не сдается и спрашивает изумительно:
– Что за дума такая, об которую кирпичи ломаются?
– Вижу, не уйдешь ты подобру-поздорову, досадный прохожий, – отвечает молодец.
– Не уйду, – убеждает Коля, – кирпичей жалко, а из них еще на века строить можно.
Добрый молодец ему говорит недовольно:
– Встать на ноги невмочь мне, пуля вражья хребтину в бою перебила, вот какая у меня дума. А теперь иди себе, сторонний человек, коли интерес утолил.
Коля ему отвечает:
– Человек я тебе не сторонний, а самый что ни есть ближний, так вера отеческая научает. А оттого не могу уйти без утешения тебе.
– Какое ты мне утешение можешь дать, странный человек? – спрашивает добрый молодец.
– А такое, – говорит Коля, – что придет к тебе скоро старичок, видом так себе, а сам в черной монашьей одёже, вот он и выправит твою думу.
Сказал так и дальше пошел. А добрый молодец кирпичи оставил и стал новую думу мысленно рассматривать, про странного прохожего и неведомого старичка.
По пути у Коли из головы обратно нечто выступило, идет и сам не знает, что это такое было и зачем он так сказал. А вдруг видит, что он уже не на околице, а пришел в самое страшное во всем Кудеяре место. Не в овраг Мертвяцкий – то не страх, а полстраха, и не к перекачке заморских мастеров, у тех вовсе кишка тонка; а забрел к самому крематорию, из которого души человеческие живьем вылетали. Коле коптильня была страхолюдна и ужасно невыразима, до самого внутреннего трепыхания, да не как обвычному кудеяровичу. Обвычный кудеярович на трубу крематория ежели взглянет, то и плюнет сейчас. А Коле это мука была, потому как родительница на сем месте вечный покой приняла от изверга. И не знал, где кости родимые лежат-полеживают, и не ведал, была ли родительница к вере отеческой приобщена и можно ль за нее теперь воздыхания приносить. А свечки все равно ставил. И за родителя беспокойного ставил.
Вот шагает он вокруг крематория, все родной дом вспоминает и глаза матушкины, и руки ее теплые. Вдруг память тоже затеплилась и ожила, и преподносит видение, как матушкины руки вешают Коле на шею шнурок, а на шнурке камушек с дыркой. Не то чтоб большой, с яйцо перепелкино, а сам тяжелый и шею к земле согнул. А родительница говорит:
– Носи, сынок, не снимай, это камешек не простой, а святой водой закаленный, молитвой заговоренный. Беспокой с тебя снимет да на месте укоренит, где осесть придется, чтоб не тянуло в неведомый туман, как прародителей твоих. Может, и обойдется, не сгинешь, как они.
Камушек, говорит, ей от бабки Колиной достался, отцовой родительницы, а той от отцовой бабки, которая с революционным матросом всю жизнь промучилась, хоть и по любви с ним под венец шла. Как он пожар мировой распалять стал, так она в богомолье снарядилась, а камушек ей там святые старцы дали, мужний беспокойный пыл остепенять. Только революционный матрос на этот сюрприз ругался и курицыным богом обзывал. А дедушка, который реки обворачивал, в возраст вошедши, тоже на амулет косо смотрел и не носил. И родитель Колин на них во всем равнялся. А Коля сам тайком камень с шеи снял, в руке-то он совсем невесомый оказался, закинул куда-то и в Дыру из родной стороны ушел, а что делал там, мы не знаем.
Теперь как вспомнил, так сердце захолонуло и душа обмерла. Вот, думает, не найти ему теперь покоя во веки вечные и места в мире не обрести. А сыскать камешек закаленный нельзя, потому как на нем крематорий стоит всей своей прокопченной тушей.
От этого беспокойство в Коле еще сильнее поднялось и в некое помешательство будто ввергло. Опознал себя уже под землей, в канализациях, по дороге к второй Дыре, которая неподзаконная. А это, думает, супружница бывшая его к себе обратно притягивает, та, что зельями кормила и присушивала. И других резонов никаких нет, чтоб в Дыру ему опять лезть, потому как волю вольную он там не нашел и искать больше не хотел. Плюнул тогда, повернулся и наверх вылез. А там мыслями хорошо раскинулся и придумал к тетке наведаться. Авось скажет про имущество родовое.
XXVIII
В Гренуйске везде грабеж стоял и сокрушительство. Одних стекол набили прорву, и машин покалечили несчитано, пожары тут и сям горели, да никто их не тушил, а только смотрели весело и со свистом, но, конечно, не таким, как в Кудеяре. Гренуйцы и свистеть не умеют порядочно, куда им. Мертвые на улицах тоже лежали, будто загорать устроились, а иные не до смерти оказались, так те орали и ругались вовсю, иногда совсем жалостно. А только к ним никто внимания не поворачивал и жалости не слышал. В одном месте Башка с компанией натолкнулись на людоедское злодейство. Студня сразу вытошнило, а Башка сбил чавкающего пожирателя башмаком на землю и прошиб ему подковкой череп.
Опять стрелять стали, и они пошли на пальбу. Возле богатого особнячного дома в три этажа налетчики рассортировались и по окнам из пукалок били, а оттуда их отхаживали таким же манером.
– Малую городскую шишку штурмуют, – объяснил Аншлаг.
– Интересно мне, – говорит Башка, – куда у них вся полиция позапряталась. Будто такая трусливая и дезертирная?
А только к налетчикам они высказываний никаких не имели и пошли дальше.
Возле доисторической олдерлянской церкви на лужайке кострище полыхало, а вокруг стояли какие-то, в чудачной одежде, будто тоже на маскараде. Один руки кверху простирал и лопотал чего-то торжественное, а рядом у него три девки с младенцами, и еще народ. Вот он простираться перестал и взял одного ребятенка, а вдруг как швырнет его в костер. Другие младенцы верещать стали, а он и их туда же. И девка одна на землю хлоп, кататься начала с вывертами да с рычаньем. А ее никто не держит, только смотрят, будто даже одобрительно.
Студень к стенке прислонился и дышит болезно. Аншлагу тоже не понравилось и камнем в них запустил, да не попал ни в кого.
– Это у них тут религия такая, – сказал Башка и плюнул себе под ноги.
А дальше не стали смотреть и ушли, злые.
В некоторых улицах к ним самим приступали, и надо было отбиваться, не то бы целыми и здоровыми не остались. Студень хотел уже домой, Аншлаг только щурился мрачно на все и губу выпячивал, да ножик в руке вертел. А Башка чего-то себе на уме рассчитывал и тоже глазами темнел, и сам был натянутый, как проволка.
А вдруг эту проволку чуть не порвали. Из-за угла взревела драндулетка и прямо на Башку нацелилась, а он впереди шел. Отскочить успел, на землю повалился, только в боку дыра на рубахе сделалась. Студень и Аншлаг тоже в стороны разбрызгались ошалевши и грозиться вслед стали, срамоту орать, со вкусом и узористо, по-кудеяровски. Башка с асфальта встал и тоже запечатал такое, что ни пером описать. А тут лихая машина застопорилась и сдала в задний ход, и из окна толстое водительское рыло высовывается.
– Кудеяровские? – спрашивает интересно и совсем по-нашему.
Все трое ему и подтвердили тем же узористым манером, что да, кудеяровские, и машину со зла чуть на бок не поставили, а водительскому рылу стекло выбили.
– Да погодите вы, – он говорит, – я же не знал, что вы кудеяровские, на рожах у вас не прописано.
А они орут, что сейчас покажут, где у них это прописано и другие стекла ему бьют.
– А ну стой, – кричит им в ответ, – осади назад, я сам кудеяровский, а сейчас не посмотрю, что вы нашенские, подавлю к такой-то бабушке!
И машину вперед дергает. Тут они чуть остыли и спрашивают:
– Ты что, дядя, совсем не того, людей давишь?
– Не людей, а олдерлянцев, – отвечает, – а это такой сорт, что и давить не жалко. Каждый день бы давил в охотку, если б можно было.
А они на это остолбенели и спрашивают:
– А что, нельзя каждый день? Кто тут теперь запретит?
Он им и отвечает:
– Вижу, вам, мальцы, это все невдомек, здешние такие порядки. А ну садитесь в машину, покатаю отечественников. Хоть вы и соплячье неученое, а по родному слову я скучаю.
Вот все трое расселись в машине, Башка впереди, остальные назади, и поехали по улицам. А гренуйский отечественник спрашивает атамана:
– Что это за кастрюля у тебя на голове? В рыцарей никак играете?
– Понимал бы чего, – отгрызнулся Башка, – шлем римского воина это.
– А ты, значит, сам римлянин? – всхохотнул ложный гренуец.
– А ты кто? – зло интересуется Башка.
– Я-то кудеярский, а только живу здесь и олдерлянскую сволочь объедаю, а когда подходяще, и облапошиваю, – тоже зло отвечает. – Они тут совсем мозгами не крутят, примитивные вовсе. Давить их надо, как тараканов.
И тут вправду раздавил кого-то, под колеса попавшего. А потом на другого особо наехал и тоже смял.
– А еще раз так сделаешь, – говорит тут Студень могильным голосом, – я тебе череп просверлю.
– Ладно, больше не буду, – тот отвечает и ухмыляется в зеркало, – если у вас такие желудочки нежные. А только олдерлянскую тупую сволочь жалеть вам не нужно. Они тут денатураты все.
– Дегенераты, – сказал Башка, весь из себя злой и мрачный.
– Вот, сами знаете, – говорит отечественный гренуец.
– Чего у них тут за революция? – спрашивает Аншлаг, самый теперь стойкий в чувствах.
– Это День непослушания, – отвечает лже-гренуец, – сегодня можно все, полиция не работает, а тоже непослушается. Так два раза в году. Тутошние психиатрические доктора признали это полезным для здоровья. А не то, говорят, застой в мозгах образуется, и загнанные содержания не выходят наружу. А так выходят. Свобода на один день, и делай что хочешь. Хоть самого президента живьем загрызи, если доберешься.
– Вещь! – крутит головой Аншлаг.
– А как им всем мозги обратно вправляют назавтра? – спрашивает Студень.
– Никак, – отвечает лже-гренуец, – зачем вправлять, если они с самого начала у этой сволочи вывихнутые.
Тут он машину остановил и говорит:
– Сейчас вернусь.
Ключи заводные забрал, вылез и идет к разбитой съестной лавке. Побыл там несколько времени и выносит ящик с бутылками.
– Ну-ка, – говорит, – помогите, откройте багажник.
Аншлаг сделал, как велено, а отечественный гренуец опять в лавке скрылся. Так три ящика перетаскал, еще с десяток колбасных палок и другой еды. Закрыл багажник, и снова поехали.
А Башка спрашивает:
– Шакалишь, дядя?
– А грех не шакалить, – отвечает тот, премного довольный, – раз такие широкие возможности. Эту олдерлянскую сволочь и в другое время обставлять одно удовлетворение. Они в культурном смысле туземцы, за красивую стекляшку удавятся. Шкур только не хватает. До наших кудеярских понятий им не дорасти. Отсталый народ, вот что я вам скажу. Ну, покатались? – спрашивает. – Где вас, мальцы, высадить?
А Башка, не ответив, говорит:
– Зачем же ты, дядя, живешь посреди отсталых туземцев, если они тебе так не нравятся?
– А я их к нашей культурности приобщаю, – опять взхохотал лже-гренуец. – Так говорите, где высадить, а не то здесь вылезайте.
– А мы не будем вылезать, – говорит ему Башка и с остальными переглядывается. – Ты чего-то не понимаешь, дядя.
– Чего это я не понимаю? – разозлился тут лже-гренуец. – А ну живо брысь отседова, паршивцы, а не то я вас за ухи вытащу.
И машину стормозил, ключи вынул, вылезать хочет. Но тут Аншлаг ему на шею удавку ловко набросил и затянул, а Студень помогает. Башка палец на толстого захрипевшего лже-гренуйца наставил и продолжает:
– Ты нам не нравишься, дядя, мы тебя сейчас тоже раздавим, как олдерлянского таракана. А не больно ты от них отличаешься. И до наших кудеярских понятий все равно не дорастешь, рыло гренуйское денатуратное.
Тут удавку совсем натянули и подождали. А как он шевелиться перестал, из машины вышли и вперед направились. До ближайшей буйной развеселой толпы добрались и в нее нырнули. А у Аншлага ножик сразу в руке припасен был.
XXIX
Коля к тетке Яге заведомо дозвонился, чтоб его в депутатский апартамент пропустили, не глядя в документ и без призвания милиции. Потому к Степаниде Васильне его специальный провожатый проводил и дверку перед ним распахнул. А тут сама Степанида Васильна племянника усадила, угощения с секретарской девицы стребовала, руки на груди сложила и говорит:
– Одумался? Вот и умник. А правильно, куда ты без родной тетки денешься. А я тебя приголублю и напитаю, и жизни научу. Небось, не знаешь ее, жизни-то.
– Не знаю, тетушка, – соглашается Коля. – А пришел к вам за подмогой в родственном деле.
– Ну говори, слушаю, – усаживается Степанида Васильна и парик длинноволосый рукой встопорщивает для приглядности.
А Коля ей про талисман родовой объясняет, так, мол, и так, был особый камушек на шнурке, а куда девался, неведомо.
– Не сдавала ли, – спрашивает в конце, – родительница вам его на хранение?
– Нет, – отвечает тетка, – не сдавала. Пропал, видно, твой камушек насовсем. А ты не горюй, племянник. Этого добра у меня полно.
И тут шкафчик на стене отворяет, а там каких только амулетов нет. И каменные, и деревянные, резные да простые, и янтарные, и ладанки тряпичные, и из глины загогулины, и из корешков, и в оправах всяческих, и другой дребедени множество.
– Вот, – говорит тетка Яга, – выбирай любой. На счастье, на удачу, на любовь, на богатство, на зависть людскую, на силу магическую, на третий глаз, на мужскую силу тоже есть. Какой тебе надобен?
Коля это все хозяйство досадно обглядел и отвечает:
– Нет здесь такого, тетушка, какой мне надобен.
– Что за оказия, – говорит Степанида Васильна, – не явился еще такой амулет, чтоб я его не знала и не имела в ассортименте.
– Мне, – объясняет Коля, – нужен такой, чтоб святой водой был закален и молитвой специальной заговорен.
– Ну так бери любой, – уговаривает тетка, – они тут все таковые, и водой закаленные, и словами заговоренные.
А Коля глаза отвел и на стул обратно сел.
– Нет, не нужно, тетушка. Мне языческие ваши амулеты на себя вешать нельзя, потому как я к вере истинной и отеческой приобщен и за то ответ несу.
– Тьфу, – говорит на это тетка Яга и заветный шкафчик закрывает, – благочиние поповское, тьфу. Ну ничего, я из тебя эту блажь вытряхну, дай срок. – И спрашивает строго: – К делу какому прибился али тунеядствуешь все?
А Коля угощение прихлебывает и отвечает:
– Тунеядствую, тетушка, грешен.
– То-то что грешен, – говорит Степанида Васильна. – А поп твой небось этот грех избыть не может?
– Снять с души может, – вздыхает Коля, – а избыть не может, потому как я к тому пока не способный.
– Тьфу, – опять плюется тетка, – словеса невразумительные, что за напасть. Я говорю, дело прибыточное он тебе дать не может, слабосилен твой поп в жизненных сферах. А туда же, народ поучать, истину открывать. Вот скажи мне, племянник, как на духу, умеет твой поп по воде ходить?
Коля на тетку выпучился, угощением поперхнулся и говорит:
– А для чего это вам, тетушка, чтобы он по воде ходил?
– Мне того не надобно вовсе, а интересуюсь для познавательности. Что ж, не умеет?
– Не видал, – Коля сумрачно отвечает и глаза опять отводит. – Чудодеяньем поп Андрей не знаменит.
– То-то не знаменит, – говорит тетка, довольная ответом. – Где ж тут истина, ежели он по воде ходить не может, как в главной поповской книге написано?
– В благом вестии хождение по воде истиной не названо, – отвечает Коля, а сам все в сторону смотрит. Смутительность переживает за попа – вправду ведь по воде не ходит, чистотой помыслов не окрыляется, чтоб идти да не тонуть.
А тетка на это отмахивается:
– То-то не названо, оттого что попы по воде ходить не умели и не умеют, и доказать себя не могут, а истиной вовсе не владеют. А другие могут и владеют, – припечатала.
– Вы, тетушка? – вздрогнул тут Коля, испугавшись чего-то. А может, того, что тетка вот сейчас встанет и пойдет по воде, аки посуху. А не то по воздуху.
– Не обо мне разговор, – отвечает Степанида Васильна. – Тут, племянник, вот какое дело. Ты говорил, среди шамбалайцев жил? А речь их понимаешь?
– Могу помалу, – кивает Коля.
– А тогда я тебя в переводчики и сопроводители возьму к шамбалайцу приглашенному. Для культурного обмена его вызвали, а чего он говорит такое, никто понять не может. Так ты уж поспособствуй, племянник.
– А в каком направлении он будет у нас культурно обмениваться? – интересуется Коля.
– В самом наипервейшем, – заверяет его Степанида Васильна. – А то у нас народ не весьма культурен и развит, корни свои плохо знает, в традициях не просвещен. Кругозор ему, народу, расширять надо. А вот и расширяем, как можем. В сравнении оно все и познается. И чужое, а за ним и свое.
А это точно, за кругозор просторылых кудеяровичей Степанида Васильна горой стояла. Приглашала к нам разных-всяких из других государств, чтоб уму-разуму население учили и в культуре просвещали. И из янкидудлей просветители были, все конец света высчитывали и народ к нему готовили. На одно число назначат, а конец света не придет, они заново переназначат. А потом обещали, что через сто лет конец точно придет, и они перед тем аккурат прибудут и население заново подготовят. А еще приезжал рахман-мандалаец, только он в таком сильном блаженстве пребывал, что его в деревянной коробке привезли, а потом обратно таким же манером увезли. Народ ходил на него смотреть и силе блаженства дивовался. Потом был песиголовец, тоже фокусы показывал, а еще обещал мертвого из могилы поднять, но сначала кому-нибудь надо было туда лечь, в натуральном, конечно, покойницком виде. А никто не согласился, он и уехал ни с чем. Только с тех пор на кладбище разные голоса по ночам стали выть, и стуки замогильные слышались. А это, говорили, мертвецы из-под земли выкопаться не могут и колдуна-песиголовца все зовут.
– Ну а чем, к примеру, этот шамбалаец будет расширять кругозор? – допытывается Коля.
– Так по воде же ходить будет, – говорит Степанида Васильна, – истину доказывать.
Но тут уж Коля твердо воспротивился, смутительность поборол и угощение от себя совсем отодвинул.
– Чудодеев, – говорит, – я, тетушка, сопровождать не буду и истину их переводить тоже не хочу, потому как для чистоты помыслов это сомнительно. А без душевной чистоты по воде ходить никак нельзя, это уж беспременно.
– Тьфу, – сказала на это тетка и сильно задумалась, чем еще твердолобого племянника с его упрямого насеста сбить. – И денег не хочешь? – спрашивает.
– За это не хочу, – отвечает Коля и прощаться начинает.
– Да ты погоди, – говорит тетка, – сядь и сиди, пока не отпущу. Я тебе теперь заместо матери, меня слушаться должен.
– Я уже взрослый, тетушка, и два раза женатый был.
– А ума не нажил, – сердится Степанида Васильна. – Ты вот чего. Оставайся у меня. Дело другое есть, прибыльное. Заключим с тобой договор.
– На какой предмет? – спрашивает Коля, не так чтобы доверчиво.
– На такой, что будешь у меня новую технологию опытом проверять. Сама не могу, тут экспериментная чистота нужна. А ты обогатишься, верно говорю.
– Какая такая технология? – совсем подозрительно интересуется Коля.
– Мною лично изобретенная, – говорит тетка Яга, – зарытие клада под процент. Самая высокая и тонкая технология из всех. Зарываешь, к примеру, червонец, наговор особый кладешь, а через срок вынимаешь два червонца али пять, это уж от силы наговора зависит. А мне это все проверить надо, как будет работать. Согласен?