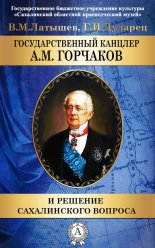Гулять по воде Иртенина Наталья
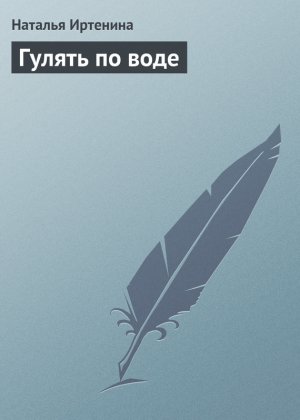
Тут попадья в дверь поскреблась и чай с пахучими кренделями на столе расставила, а сама ушла биться со стирающей машиной.
– Какой монах? – спрашивает поп, разливая стаканы.
– Такой, что может и в теле являться, и в невещественности как будто, – объясняет Коля и тут выкладывает свою историю похождений через Мировую дырку и по заграничным мирам. А в конце говорит, крендель дожевав: – Стал мне Черный монах везде являться и велел к корням возвращаться. Так и гнал до самого конца да обещался сам тут скоро быть.
– Вон оно как, – сказал задумчиво поп и спрашивает: – А чего же ты, Николай, по заграничным мирам искал так долго?
– Так волю ходил искал, – тот отвечает.
– Нашел?
А Коля показал пальцем в свои фиолетовые подглазья и говорит:
– А вот она, их воля. Век бы не видать.
– Что есть, то есть, – кивает поп. – Ну а женой обзавелся в заграницах?
– Это как посмотреть, – отвечает. – Одна сама выгнала, от другой сам сбежал: отравой ворожейной кормила, чтоб к себе присушить, а я это дело пресек и присушиваться больше не стал.
– А может, и детей прижил? – поп допытывается.
– Это дело известное, – Коля отвечает, – по одному от каждой. А только возврату мне к ним нет, и говорить тут незачем.
А поп не отстает и про крещение все никак не заговорит, а интересуется:
– Ну а про корни свои отеческие что знаешь?
Но Коля его не так понял и говорит:
– Много знаю, а если коротко, то отец давно спившись и померевши, а мать без остатку пропала, как деревню спалили и крематорий на том месте поставили. Померла, верно, тоже.
Поп перекрестился да вздохнул:
– Грехи наши тяжкие. А все не про то тебя спрашивал. Про веру отеческую, которую принять желаешь, что тебе известно?
Коля тут замолчал и смущенный сделался.
– Христос воскресе, – говорит наконец, разрумянясь.
Поп бороду огладил и молвит:
– И то хлеб. Главное знаешь.
А потом протягивает Коле книжищу толстую.
– Почитай вот. А через неделю придешь, тогда обговорим.
Коля на книжищу посмотрел и грустный стал.
– А жить мне, святой отец, негде. Деревню спалили, документ вот, – достает, – стародавний, недейственный.
Поп ему отвечает:
– Святые отцы у нас, знаешь, где? В Царствии небесном обретаются. А про жилище – это ничего, дело поправимое. Сейчас на службу пойдем, я тебя в сараюшку при храме водворю, там покамест поживешь с документом своим. И как это ты с ним через пост охранный границу перешел?
– Так тут в Кудеяре не одна Мировая дырка, – Коля весело говорит, – а еще есть, неприметная, в канализациях. Через нее перешел. А там, – говорит, – такой интересный энцендент. Привидение или барабашка какая безобразная живет, хотел пройти – не пускает, за ноги хватает, волосья рвет.
Поп опять перекрестимшись.
– А потом не стерпел я, – продолжает Коля, – да обложил барабашку, как отцы делали, по-всякому и от души. Так сразу отпустило. Параномальность какая, ишь.
– Не параномальность, – строго внушает поп, – а черти бесятся.
– Пускай черти, – соглашается Коля.
– Скажи-ка лучше вот что, – говорит поп, – не толковал ли чего другого тебе тот монах?
– А вроде ничего, – отвечает Коля.
Поп вздыхает:
– Монастырь бы отстроить, в руинах стоит. Да люди у нас больно дики. Разбойны и необузданны. Не с кем отстраивать, не на что. Озеро святое загаживают, мусор скидывают. Уж я таблички по берегу ставил, что зона экологическая и святоотеческая, и в газету отписывал, и на проповеди взывал. Всяко не действует. А тут еще напасть. Озеро высушить теперь хотят. И где это видано, чтоб вековое святое озеро изничтожать!
– Да, – говорит Коля и еще крендель с блюда тянет, – разбойный народ. А тоже от отцов досталось.
– Отцы разбойничали, – наставляет поп, – а посля грехи замаливали, для того монастырь стоял. Святоезерский Преображенский. Преображенский! – и палец так внушительно кверху делает.
Коля кивает, хоть трудно ему наука отцов достается. А тут на тебе вдруг – стол и стены в дрожь пустились, стаканы расплескались и вскачь пошли, и уши свистом лихим заложило. Стекло где-то битое полетело. Коля со стула сверзился, стакан поймал и на попа ужасно смотрит: чего это, мол, за страсти?
А тот говорит, головой досадно качая:
– Никитушка, сынок мой, голубей завел да гоняет.
– Голуби-то не дохнут с того? – Коля интересуется, на стул опять взгромоздясь.
– А может, и дохнут, – поп отвечает. – Соседи вот ругаются, чистый, говорят, Соловей-разбойник растет. Одних стекол сколько уже повставляли.
– Так вы бы его это, – молвит Коля, – а то денег не будет.
– Чего нет, того и не будет, – поп руками разводит. – Да что с ним сделаешь, недорослем.
– Про Соловей-разбойника – это в яблочко, – говорит Коля. – Чуть ухи не лопнули. Талант, видно.
– Ничего, – отвечает поп, – через два года отправлю в семинарию, там из него сей разбойный талант вынут и остепенят.
Тут он на часы глянул и стал на службу собираться, рясу натягивать. Коля стеснительно отвернулся и в окошко смотрит, а там голуби финты в небе расписывают, угоревши от лихого свиста.
Поп крест на грудь приладил, попадье наказ дал и повел Колю обратно в церковь. Там посреди пространства и старушек богомольных поставил его и говорит:
– Приглядись, Николай, к вере отеческой.
Всю службу Коля стоял ни жив ни мертв, сдвинуться боялся, на лики взирал, а из слов малость только разобрал, мудреное все больно, хоть и отеческое. Да так его вера отцов оглоушила с непривычки, что еще долго, столбом застымши, воздвигался посредь пространства, пока поп его не дернул и в сараюшку не отвел.
В сараюшке Коле вдруг понравилось. Окошки маленькие, стенки сплоченные, даже стул есть и стол, а дверь на замке. Живи не хочу.
– Ну вот, – поп говорит, – матрас с одеялом выделю, кормиться будешь в трапезной, дело тебе найдем, а большего человеку для спокойствия жизни не надо.
– Уж и не знаю, как вам благодарствовать, – Коля опять засмущался.
– Живи, бродяжная душа, – отвечает поп. – Тут тебе мир и спокой на родной стороне, в вере отеческой, на корнях дедовых. А небось от разных заморских царств-государств голова кругом шла?
– Шла, – соглашается Коля, – совсем от тоски заходилась.
– А я вот, грешный, – поп говорит, – не сподобился мир поглядеть. Чего там есть хорошего в дальних странах, обсказал бы, – просит и на стул присаживается.
Коля стол напротив приспособил для сиденья и отвечает:
– Чего там хорошего, не знаю, не видал, а видал всякого. Жил и посередь шемаханцев с халдейцами в их родных краях, и с шамбалайцами, да у рахманов побывал, к песиглавцам занесло, и антиподов навещал, и у янкидудлей гостил, а про олдерменцев уж и не говорю. Да и в гномьем государстве довелось, вот как.
– Великое странствие тебе приключилось, – поп говорит и дальше слушает, бороду навострив.
– Это точно, – отвечает Коля, – беспокойства странного во мне много.
И рассказывает, кто в каких иноземных государствах обитает да какие у них порядки наведены, и чем до сих пор живы. Вот шемаханцы, говорит, у них по шесть пальцев на ногах, и очень они эти пальцы любят, омывают их в воде много раз в день. А поп ему на это замечает, что оное про шемаханцев всем в Кудеяре известно, оттого как их тут полным-полно сделалось, и все время ноги в святом озере моют, с тех пор как объявили у нас свободу и отменили борьбу с религиозными предрассудками. А Коля говорит, что это он пропустил из-за своих странствий, но теперь будет знать. А еще, рассказывает, шемаханцы любят рассуждать о божественном, да на людей смотрят как на мусорную ветошку. Вот такие странные. А халдейцы на них похожи.
Шамбалайцы желтолицые – те загадочные, продолжает Коля. Они сами про себя так и говорят: мы загадочные – и смотрят на тебя загадочно. И рыла загадочные делают. И все у них загадочное, в жизни не разгадаешь. А это у них религия такая. Рахманы для них родственные, но те не загадочные, а поклоняются цветку, который цветет на воде раз в году. Верят, что этот цветок дает блаженство. Если сильно верить и истово поклоняться, он, говорят, вырастет прямо на голове, и тогда впадешь в блаженство. А называется мандал-цветок, оттого рахманов еще кличут мандалайцами.
Песиглавцы, говорит, жутко страшные. У них везде колдуны, они мертвых из могил вызывают, а живых туда загоняют. Про них и рассказывать страшно.
А поп на это перекрестимшись.
С янкидудлями вот скушно. У них все длинное – руки, ноги, шеи, носы, и всюду эти носы суют. Но хоть и суют, а все равно скушно с ними. Все разговоры сворачивают на одну сторону: почему, говорят, у тебя не такие длинные ноги и руки и все остальное, как у нас? И глядят подозрительно, будто нелюдь какая перед ними. А у них и дома длинные в высоту, и идол, которого они почитают, в их главном городе стоит, раскорячимшись, с воздетой дубиной в руке. Длинный, как верста коломенская.
А антиподы, говорит, все наоборот делают, не как у людей. Когда у нас лето, они мерзнут, потому что у них зима. Там и детей рожают мужики, а бабы пьют пиво и деньги считают.
– Как так? – всплеснул поп руками.
– Да вот так, – Коля отвечает, – если с их мужиков штаны снять, у них естество-то бабье будет, а только в одежде не различишь. А к ихним бабам, которые деньги считают, я не лазил, может, там тоже гермафродитство какое. Когда у антиподов кого убьют, говорят – сам виноват, и вину его ищут, за что прибили. А который убил, тому они говорят, что это он из добрых намерений. Или под влиянием. А сам не виноват. Эти все порядки у них от олдерменцев завелись, – заключил Коля.
– Охо-хо, – поп вздыхает, – грехи наши тяжкие.
– А олдерменцам самим скушно, – продолжает Коля, – эти не как янкидудли. Они просто старые люди, так и прозываются. И все время потеху ищут для развлечения. А самая главная у них потеха теперь – День непослушания. Там они друг дружке витрины бьют и всячески другое имущество калечат. Убить тоже могут, и ничего им за это не будет, потому как день такой специальный – непослушания. А ничего бессмысленней и беспощадней олдерлянского непослушания нет, я его хорошо разглядел.
– Ох, – говорит поп и опять крест на себе кладет.
– А в гномьем государстве не понравилось мне. Они чужеземцев не любят, особливо из наших краев. Все присматривались да подглядывали, не хочу ли у них чего спереть. А сами жадные и плюются в спину. А это оттого, что они подземные сокровища прячут. Со всего мира их собирают и под землю заталкивают, а там стерегут в тайне. А это у них тоже религия такая – золотой телец. Сказывают даже, они в тех подземельях мировое владычество себе куют. А все может быть, – закончил Коля. – Только наши кудеярские клады гномье племя еще не все перетянуло к себе, оттого и злобятся на нас.
А поп со стула встал, рясу с крестом оправил и в книжищу на столе, которую Коле дал, пальцем тычет.
– Читай, – говорит, – благое вестие. Просвещен будешь в делах земной юдоли.
И ушел.
А Коля после в трапезную наведался, по позднему времени пустого хлеба получил, сжевал и за книжищу, зевнув, засел.
XVII
Кондрат Кузьмич после Дня города чуть подобремши был, как свалилась с плеч эта гора важных олдерлянских шишек. Хоть они и побратимские, а все равно за ними глаз нужен, чтобы чего не надо в Кудеяре не углядели да в расстройство от этого не пришли. А тут еще праздник, почитай, души для Кондрат Кузьмича – дивное озеро, всеми его чувствами извергаемое, высушивать станут да к тому же пользу народную с того иметь.
А господин иноземный советник Дварфинк уже к тому план во всех регулярностях и подробностях сопоставил, каких надо мастеров-умельцев из-за границы вызвал да Кондрат Кузьмичу особое приглашение в совещательный кабинет сделал. Как Кондрат Кузьмич пожаловал в поднятом настроении, так новую золотую фабержетку на брильянтах господину советнику поднес и в благодарностях за беспорочную службу при своей персоне расплылся. А господин Дварфинк с торжеством на лицевом вымени его к иноземным мастерам-умельцам подводит и знакомство совершает. А они втроем стоят, в перчаточных рукавицах да суконных мастерских фартуках, и золотую фабержетку на брильянтах глазомером оценивают.
– Это вот, – говорит господин советник и первого умельца Кондрат Кузьмичу показывает, – жрец-колдун из страны песиглавцев, мастер-класс высшей степени по тонким наукам. – И на ухо Кондрат Кузьмичу добавляет: – Рекомендую опасаться, страшной силы личность.
Кондрат Кузьмич песиглавцу пальцы в рукавицах вяло пожал да в лицевой фасад смотреть не очень стал, рыло больно скверное, темное, заросшее отовсюду. А голова на странность человеческая, только сплюснутая сверху и вся в пуделиных будто кудерьках.
Ко второму подошли, господин советник объявляет:
– Чернокнижный маг из Янкидудляндии, соотечественный мне, магистр-медиум высшего просвещения, адептус ордена Утренней звезды, специальный мастер из братства «Черепа и кости».
Кондрат Кузьмич и этому рукавицу пожал и спрашивает с некоторым интересом:
– Состоите в археологическом братстве? В нашем озере непочатый край для археологии.
– Да-да, – отвечает за умельца господин советник, – в своем роде он археолог, ясновидящий сквозь землю, тоже большой уникум. – А на ухо шепчет: – Рекомендую не сводить тесное знакомство – очень нестабильная личность, может наслать чего ни то.
А сам чернокнижный маг не только соотечественный господину советнику оказался, а соплеменный тоже, из гномов – ростом с невеличку, зато смотрит генералом.
– А это, – говорит господин Дварфинк про третьего иноземного мастера, – хранитель тайной мудрости из Олдерляндии, Достигший Света, специальный знаток широкого профиля в астральных и прочих науках. – И на ухо рекомендует: – Не заговаривайте с ним – посчитает невеждой. А сам молчун страшный, оттого как там, где Свет, слова мертвы.
Кондрат Кузьмич третью рукавицу пожал и скорее в сторону отошел, чтоб не подумали про него плохого и дураком не выставили. А господин Дварфинк в ладоши хлопнул и говорит:
– Вот такие наши заморские чудо-богатыри.
Кондрат же Кузьмич его в уголок отвел смутительно и там по секрету спрашивает:
– А отчего у богатырей такая специфичность тонкая? Знает ли кто из них водную технологию и инженерию?
– Будьте покойны, – отвечает ему советник, – специфичность какая надо и все потребное у них на уме и в ассортименте есть.
Но Кондрат Кузьмич все равно волнения не оставил, потому как ему это все необыкновенно было и беспокоил опиум для народа. А оттого он в уголке остался и в разговоре с заморскими богатырями дальше не состоял.
Господин Дварфинк план всего замысла умельцам обговорил и респекты во всех регулярностях с подробностями выдал. Как они в тех респектах разобрались, советник начал им тоже рекомендации делать, в какой манере с дивным озером обходиться и каким способом его вредных воздействий на себе не испробовать. А они ему на это говорят:
– Положитесь на мастер-класс, у нас ассортимент полный и действительный. Замысел исполним во всем вашем соответствии.
Только господин Дварфинк сильно переживал за свой замысел и все никак на богатырей положиться не спешил.
– Вы в этих краях впервые, – говорит, – а у меня опытность и сознание обо всем тутошнем. Здесь надо крепко усилием приложиться, чтобы своротить местные безрассудки да самим безопасность иметь. А не то повредиться можно, такая тут ментальная эфирность.
Богатырям интересно стало, и спрашивают:
– В чем эта вредоносная ментальная эфирность содержится?
– А в самом дивном озере и содержится, – отвечает советник. – В нем тайные и страшные заклятия русских монахов и вся вековая дремучая сила здешней отеческой веры.
А песиглавец ему говорит, будто лает:
– Да и мы не пальцем деланы, страшных заклятий у нас в ассортименте тоже хватает, положитесь на высшее просвещение.
– В высшем просвещении я не сомневаюсь, – отвечает господин Дварфинк, – и на вас во всем наконец полагаюсь, чудо-богатыри.
И вот мастера-умельцы приступили к замыслу, стали строить у самого дивного озера некую небывальщину. Перво-наперво за едину ночь обнесли забором пустой луг, а кудеяровичи туда ходить начали на экскурсии и семечками плевать да рассуждать, чего там за забором такое будет. Которые побашковитее говорили, что подкоп под озеро роют для генераторной турбины, а она будет воду нагревать и в пар выпускать. А которые подурнее стращали, что там ядреную бомбу делают и весь Кудеяр с дивным озером на мелкие пылинки этой бомбой раскрошат, а сами загодя через Дырку утекут со всем своим имуществом. Хотели было повыспрашивать у тех, которые там строили, да никого не поймали, а строили все равно не наши, иноземные какие, через Дырку пришлые и по-нашему, верно, не говорящие. Стали тогда кудеяровичи возле ограды друг на дружку забираться, чтоб оглядеть, как там и чего, – а внутри еще возведение стоит, на завод будто похожее, и крышу к нему уже прилаживают.
А потом с этого будто завода трубу к озеру протянули и в самую глубь ее засунули. И с другого бока возведения тоже трубу вытянули да к самому пограничному посту на Большой Краснозвездной подвели и в Дыру вдели. А кудеяровичи терли затылки в сомнениях, что бы это все обозначало, пока не надоумились. Как вода в трубе заплескала, так у нас сразу умные головы догадались: заморские чудо-богатыри перекачку соорудили да воду из дивного озера в Гренуйск отсылают. А что там с ней делали, нам неведомо было, до того как в нашем супермагазине не объявились бутылки с этикетками, а на этикетках проставлено: вода «Кудеяр», ледниковая, пречистая и целительная. И цена заломлена тоже ледниковая, обжигательная. Опять у нас почесали в головах да и плюнули, все понять не могли, откуда в Кудеяре ледник взялся. Вроде даже горок особых отродясь не видели, а из озера лед зимой только достать можно. Но это дело начальское, решили, пущай балуют. Только обидно, что пользы для народной жизни, Кондрат Кузьмичом обещанной, пока никакой не выходило. Одно недоумие.
А перекачку заморские богатыри пятиконечными звездами для чего-то размалевали. Одному Яков Львовичу это утешительно было, он туда как на праздник ходил, со всеми орденами на груди, любовался. А кудеяровичи в тревожность от этого впали и про злое темное прошлое опять заговорили.
XVIII
Но это все потом применилось. А до того Башка, Студень и Аншлаг ввечеру к музею собирались, куда бритоголовый с зеленым рылом их звал. Нацепили на себя всяких железных заклепок, башмаки подкованные для увесистости, футбольные кепки на глаза надвинули и пошли к кладбищу.
А на кладбище в Кудеяре музей стоял, всенародной депутаткой Ягой образованный для просвещения и патриотического воспитания молодежи. Назывался музеем народного ведовского промысла, а по простому если, то избушка Бабы Яги. Сама Степанида Васильна сдала туда для выставления и обозрения свои предметы ремесла, в котором прежде трудилась, до того как в депутатство ушла. А народ попервоначалу туда ходил, потому как в диковину было смотреть на летательную метлу, разные пестики, котлы и ступки для зелий, всяческие заговоренные камушки, идолища резные, кувшины из-под живой и мертвой воды. Даже целую избушку на курьих ножках изнутри можно было обглядеть да представить себе: вот, жила тут типическая Баба Яга и зелья свои варила. Только теперь в музей уже мало наведывались, одних ребят сопливых, может, водили на экскурсии, чтоб воспитывать в них чувство к родной старине. А так Генка Водяной день-деньской скучал там да штаны просиживал, и очень обидно ему было, что патриотизм в Кудеяре не развивается. Но теперь у него наконец дело объявилось, и оттого патриотизм еще больше в нем засвербел.
Как Башка с остальными к музею подошли, там уже сколько-то народу собралось, иные знакомые, иные не так чтобы. Рыл с десяток накопилось, и все друг дружки не старше, один Генка бритоголовый в совершенном возрасте. Вот он их всех в ряд поставил, руку вперед высоко выкинул и орет:
– Слава Кудеяру!
Ему вразноголосицу так же отвечают. После того он разъяснение сделал: надо-де защищать святое озеро от разных кровососов народной жизни и иноплеменцев, которые нашему озеру оскорбительность наносят и хотят совсем высушить. А себя велел Вождем называть.
– Святое озеро наше, – говорит, – а гномы и упыри пусть убираются откуда пришли. – И снова в неистовость впадает да рукой машет: – За святое озеро! Бей иноплеменцев! Слава Кудеяру!
Башка, Студень и Аншлаг со всеми тоже надрываются и руки выкидывают. Весело им, интересно, за святое дивное озеро обида вдруг взяла, а иноплеменцы возмутительные вовсе давно глаз мозолили. Про гномов и говорить нечего – они себе мировое владычество в подземельях куют и на кудеярских кладах жиреют. А Вождь еще описание прибавил, что гномы, когда хотят пустить ветер, поворачиваются задом к озеру. Про шемаханцев же всем известно, что они шестипалые и по шесть раз в день моют ноги в святом озере, а это уже совсем обида смертная. А сами шемаханцы лютые головорезы, живут кучно как раз у Мертвяцкого оврага и наших кудеярцев там непременно режут. Да еще пить воду из озера им религия запрещает, а мыть в нем ноги наоборот разрешает.
Вот они палок толстых набрали, тряпками обмотали и в канистру макнули, а там подожгли и с факелами обратно к городу пошли. И опять орали разное патриотическое. Всех встречных-поперечных распугали, которые ночью по улицам шастают невесть зачем. Поймали одного халдейца в халате, дали ему тоже факел и велели орать вместе со всеми. Халдеец был из себя невидный и на все согласился, и убивать его никому первому начинать не хотелось. Так, подпалили немножко халат да пинком отпустили. А больше в ту ночь ничего патриотического не совершили и мирно разошлись. Вождь напоследок сказал всем головы обрить и кресты загнутые на стенах везде малевать, а вечером на том же месте собраться.
Назавтра Башка с компанией по улицам, как обычно, искали приключений и про вчерашнее делились.
– Зарежу кого, – говорит Аншлаг, – вот непременно зарежу.
А Студень за озеро сильно переживает:
– Нельзя, – говорит, – его высушивать. Город на дне вместе с водой уйдет. Людям его силой не открыть, а только сам откроется, когда ему срок будет, так по легенде сказывается.
– Голову брить не буду, – отвечает Башка, – хоть он Вождь, а я сам себе тоже не дурак. Волохов, – говорит, – что ты в жизни ценишь?
Аншлаг губы распустил и гогочет:
– Хороший человек – мертвый человек. Его ценю.
Башка кивает:
– Вот точно. Нету настоящей цены ни у кого и ничего. Бери и выплевывай. А я, может, не хочу выплевывать, а хочу вкус узнать. А никакого вкуса все равно нет. Как окурок пожевать. Одни рыла везде. Зачем это?
– А чтоб спрашивали, – объясняет Аншлаг и Студня под ребро пихает: гляди, мол, на атамана родимчик сошел, мозги ему, будто картошку, печет.
– Рыла оттого, – говорит Студень, – что к ним тоже приходил этот, с обтесанной мордой, и просил у них лицо. А они отдали.
– Так с кого спрашивать-то? – все пытает Башка, совсем мыслями замученный. – Не с кого.
– А не спрашивай, – отвечает Аншлаг и ножиком играется, – лучше зарежь кого. Шемаханцев бить пойдем, и зарежь. Малахолия сразу пройдет.
Башка ему ничего не сказал. А тут Студень встал, застымши да рот раскрывши, и говорит:
– Чего это?
А там на стене поперек дома целая живопись мудреная, которую на улицах малюют. Только в Кудеяре этого отродясь не бывало. Они все трое видом на стене запечатлились и ближе подошли. Аншлаг говорит:
– Это графит.
– Какой тебе графит, – отвечает Студень, – краской рисовано.
– Когда на стенах малюют, это графит, – объясняет ему Башка. – Все равно чем.
А что намалевано, не пойми разберешь. Вроде буквы здоровенные, друг на дружку налепленные, а какие буквы, тоже невнятно. То ли наши, а то ли не наши, выкаблученные и расфуфыренные. Прочитать никак нельзя. Зато красотища.
Уж они и так и эдак корячились, с того конца и с обратного, а все не выходит.
– Тьфу, – говорят, – какая-то шифровальня, голову сломишь.
Аншлаг достал чернильный карандаш и хотел срамоту поверх накарябать али крест загнутый, как Вождь велел, а не успел. Тут возле дома машина встала, и выходит сама всенародная депутатка Степанида Васильна, на живопись тоже глазами нацеленная. Они, конечно, ее в лицевой фасад признали, потому как матушка Степанида не скупилась на свои отображения и повсюду вывешивала приглашения в Школу кладознатства, на музее тоже отдельный анфас висел. Аншлаг свистнул и говорит:
– Ой! Баба Яга.
А Степанида Васильна на него зыркнула, парик кудлатый взбила и опять на графит недовольно глядит.
– Чую, – говорит. – Ох, чую.
И носом-крючком дергает. А что чует, не сказала. Головой повертемши, три раза плюнула, села да уехала.
– Чего это она расчуялась тут? – спрашивает Студень. – Вроде не тянет ничем особым.
А Башка подумал и говорит:
– Надо найти, кто малевал. Неспроста это тут.
– Неспроста, – отвечает Студень. – Баба Яга спроста чуять не станет.
И автографы снизу живописи оставили: Башка мертвую голову пририсовал, Студень руку обвел, а Аншлаг написал «Аншлаг». А крестов загнутых чертить не стали.
На следующем доме то же самое было – поперек стены живопись и буквы расфуфыренные, а видно, что другое написано, только опять не пойми разберешь. Они и тут автографы накарябали. И еще сколько-то домов с шифровальней нашли, все по одной линии, будто длинную надпись писал кто-то вокруг города.
А малевальщика так не сыскали, не попался.
XIX
Через неделю к Коле в сараюшку поп пожаловал, как обещался. Не то чтоб они совсем до этого не виделись, а просто веру отеческую сурьезно не обговаривали. Поп его постелью снабдил, а к делу пока никакому не приставил, и Коля хлеб свой задарма жевал. Но в церкви присматривался и слова мудреные запоминал, а книжищу исправно по вечерам талдычил, страницы мусолил. Оно хоть не роман фельетонный, а иными местами увлекательно, совсем жизненно.
Вот поп пожаловал, на стуле уместился, бороду пальцами причесал и спрашивает:
– Как просвещение движется?
Коля тут заробел и про главное пока не стал говорить, а сказал, в книжищу тыча:
– Читаю вот про суету сует и томление духа. Интерес у меня тут.
– А, Экклезиаст, – отвечает поп, – каков же интерес?
– Очень натурально пишут, – говорит Коля, – жизненно так. Все правда, могу подтвердить, с гарантом. Всё трудимся трудами под солнцем, а толку от этого… – и звук произнес не так чтобы совсем приличный. – И все куда-то тянет, манит, беспокойство свербит, а ничего нового под солнцем нет. Одна суета и томление духа.
– Странствие земное нам для трудов и дано, – отвечает поп, – а томление духа от суеты лишней происходит и оттого, что с пути сбиваемся, а то вовсе его не знаем. Ну а к благому вестию приступал?
– Приступал. От Марка прочел.
– Отчего от Марка?
– А самое короткое, – Коля отвечает. – Но это мне не сильно интересно. Тут все про чудеса пишут. Исцеления, да воду в вино, да по воде, аки посуху.
– Тебе чудеса, выходит, не интересны? – спрашивает поп.
– Так навидался их по миру. В каждой стороне какое ни то свое чудо. То летают без всего, а то в живое тулово рукой без ножа залезают и болезнь вынимают, а то еще чего странное. Мертвецов опять же из могил оживляют.
А поп перекрестимшись и говорит:
– Чудодеев в мире много, и все друг дружку затмевают. Главного-то в книге не нашел?
Коля отвечает:
– Это чтоб возлюбить всех? Так оно никак не получится, – твердо говорит. – Потому как у одного рыло перекособоченное, а у другого свороченное, и гавкаются, а то стибрят чего или под зад пнут и гогочут. Нет, никак не получится.
– Да и то не главное, если не получится, – отвечает поп.
А Коля смотрит на него и не поймет, что за сложности в вере отеческой? Неужто отцы семи пядей были, что все им сразу просто и ясно выходило?
Поп тогда и говорит:
– А то главное, что воскрес Он в три дни. Так и всякая душа Им от страсти греха воскрешается и из чада дымного на свет выводится.
А Коля молчит пристыженно, что сам не догадался. Теперь, думает, его поп крещением к вере отцов приобщать не будет, отсрочку новую даст для вразумления. А приобщиться Коле хотелось сразу и чтоб вся отеческая наука тут же в голове утрамбовалась и осела, и томление духа пропало бы вовсе, окаянное. А там, глядишь, Черный монах снова явится и благодарность объявит за усердие.
Поп тоже молчал, бороду чесал, а потом говорит:
– Ну а чем заняться думаешь? Не все ж бока отлеживать да хлеб задаром жевать. Дело какое знаешь?
– Летописание знаю, – Коля отвечает.
– Это что ж такое? – поп удивляется.
– Летописцем работать могу, – поясняет Коля. – К добру и злу склоняться равнодушно, объективность народную запечатлевать. Вот, думаю, грядут в Кудеяре события. Буду их отражать для потомков.
– Это тебе в Академию наук надо или в газету какую, – сомнительно качает поп головой. – А так не сгодится.
– В Академию без образования не возьмут, – говорит Коля, – а в газетах летописность вовсе не ведут и к тому ж склоняются пристрастно.
– Чем же ты в заграницах столько лет кормился? – расспрашивает поп.
– Так, когда чем, – замялся тут Коля, – мне же много и не надо. А первая супруга у меня вовсе женщина со средствами была, тоже много не требовала.
– На чужой шее, выходит, сидел? – укоряет поп.
– Выходит, – сконфузился Коля.
А поп, задумавшись, бороду трет. Потом молвил:
– События для потомков отражать – дело полезное, конечно, и благоразумное. А только чем будешь хлеб насущный себе добывать? Здесь-то не к кому на шею пристроиться, а кое-чем у нас не проживешь, время такое, кусается сильно.
– Так это просто, – говорит Коля, – клад найду. Сейчас ведь можно, а не как раньше.
– А это не советую, – быстро сказал поп. – Клады и раньше копали, при Кровососе, только чистые и не заклятые, а колдовство каралось, да по справедливости. Теперь же чистых будто вовсе не осталось, одни колдовством заклятые. Бесовство сие и порча для души. А желаешь в том участие иметь, о крещении даже не думай. Не стану крестить и все тут.
– Да это я так, – смущенно говорит Коля, – по дурости сказал.
– То-то что по дурости, – отвечает сердито поп. – Голова-головушка, ветреная вдовушка. А только ветер в голове попутным не бывает, – говорит.
Коля совсем застыдился и достает из кармана мятый газетный лист.
– Вот тут у меня еще… спросить хотел.
И попу протягивает почитать. А тот заглавие увидал и вдруг смеется, бородой трясет.
– Знакомый стиль, – говорит, – я, грешный, этих фельетонов уже начитался. Матушка Ягиня все никак не угомонится. Меня невеждой да ретроградом честит.
– Ага, честит, – кивает Коля.
Листок он на улице поднял, разгладил и высушил. Да не сам фельетон в глаза бросился, а фамилия под заглавием. А в фельетоне про кладовые традиции писано было, про важный культурный пласт народной жизни. Степанида Васильна всяческим способом хворала за возрождение Кудеяра после кровососного режима, который запрещал кладовой промысел. А теперь, говорит, у нас свобода и всяческая справедливая беспрепятственность, и кладознатство поднимается, и слава Кудеяра воспаряет, и народная жизнь от этого удобряется. А кое-кому, говорит, это вовсе не по нраву, эти кое-кто хотят нового кровососного и запретительного режима, только на свой поповский лад. А всё это невежды, экстремисты и разжигатели розни. И тому подобная ругательская ругань.
– Ну а я в ответ на проповедях прихожан остерегаю, – говорит поп, – да эту школу кладовую, рассадник бесовства и моровую язву, обличаю. А матушка Ягиня не так из-за обличения ругается, как из конкуренции.
– Как так? – спрашивает Коля, удивимшись.