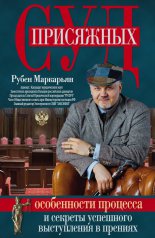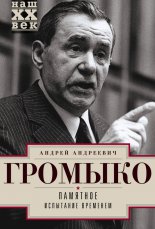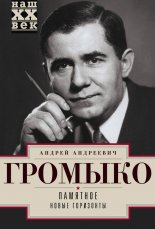Тени в переулке (сборник) Хруцкий Эдуард
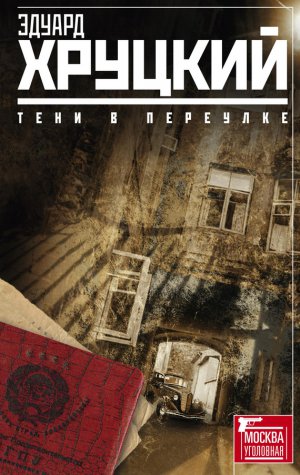
– Нет.
Он назвал мне три фамилии номенклатурных коллекционеров, чьи портреты наш народ носил на демонстрациях.
Игорь Карпец никогда не говорил зря. Он очень много знал о делах высшей номенклатуры, за что и поплатился впоследствии.
И снова Новый год. И встречать я его буду в компании милых мне людей. А вот безумной гонки по ночной Москве не намечается. Не будет новогоднего круиза.
Вид с седьмого этажа
Я гляжу на Москву с седьмого этажа. Третий час ночи, улицы пусты, иногда появляются редкие машины. Оркестр отыграл положенные «Дорогие мои москвичи», и ресторанная терраса пустеет.
Я сижу у барьера в ресторане «Седьмой этаж» гостиницы «Москва» и жду, когда музыканты закончат собирать инструменты.
Сегодня у моего друга, саксофониста Гриши Каца, день рождения. Гриша с эстрады машет мне рукой и исполняет для меня отрывок из итальянского фильма «Под небом Сицилии» – вальс.
Я машу в ответ. Жду и смотрю на ночную Москву.
Я впервые увидел гостиницу «Москва» сквозь искрящуюся на солнце воду. Лучи света ломаются в огромной водяной струе, вылетающей из-под колеса машины, и кажется, что она иллюминирована разноцветными лампочками.
Впереди нашей машины ползет поливалка, выбрасывающая два огромных фонтана воды. 1939 год, я еще совсем в щенячьем возрасте, мне шесть лет. Отец катает меня по Москве на легковом, блестящем черным лаком газике с брезентовым верхом. Потом брезент откинут, и кажется, что машина становится частью улицы.
Мы никак не можем обогнать поливалку, потому что слева идет неторопливый трамвай. Едем медленно, и я внимательно разглядываю новую московскую достопримечательность – гостиницу «Москва».
Наконец шоферу удается обогнать трамвай, и мы едем мимо здания Совнаркома, мимо выложенной темно-алой плиткой станции метро, где в нишах стоят фигуры физкультурников.
Над городом висит солнце, и все, что я вижу, кажется мне необыкновенно прекрасным.
В те годы гостиницей «Москва» гордились, считали ее украшением города. Вспомните фильм Григория Александрова «Цирк». Любовь Орлова живет в роскошном номере люкс, окна которого выходят на Красную площадь и Кремль. Звучит в номере белый рояль, ветер шевелит легкие занавески, а за окнами радость строящегося социализма.
А вот коварный американский импресарио пытается сорвать номер «Полет в стратосферу». Он угощает нашу наивную героиню лучшими конфетами и тортами. И делает это в «Птичьем полете», знаменитом кафе на тринадцатом этаже гостиницы «Москва».
Много лет эта гостиница была символом столицы. Продавались конфеты в коробках в виде макета гостиницы, парфюмерные наборы, а в знаменитой кондитерской в Столешниковом переулке на витрине красовался торт в виде знаменитого отеля.
И даже когда кинооператоры снимали прифронтовую Москву, то танки обязательно шли мимо знаменитой гостиницы, мимо нее шагали полки ополченцев, ехали конные патрули. «Москва» стала символом военной Москвы.
Во время войны телефоны в квартире работали ужасно. Иногда их отключали на целые сутки, а иногда на неделю. Это значило, что номер отдавали очередной воинской части, формировавшейся на Белорусском вокзале.
Когда отец появлялся дома, ему обязательно давали номер в гостинице «Москва». Там селили крупных военных, приехавших с передовой, работников спецслужб, появлявшихся в столице между двумя спецкомандировками, командиров партизанских отрядов, известных военных корреспондентов и творческий состав фронтовых киногрупп. Они сдавали продовольственные аттестаты и получали талоны в ресторан. В гостинице бесперебойно работали телефоны, была горячая вода, никогда не выключали электричество.
Ах, ресторан, ресторан! Москвичи, привыкшие к уюту «Националя», роскоши «Метрополя» и «Гранд-отеля», презрительно именовали этот огромный зал конюшней. Но, как его ни называй, в тяжелом 1942 году в этом огромном зале, отделанном мрамором, собирались люди, чьи имена вошли в нашу историю. Кроме пищи, которая полагалась по талонам, за деньги, причем немалые, можно было заказать вареную или жареную картошку, селедочку, горбушу, соленые огурцы, консервированное мясо и котлеты. И конечно, водку и ликер.
Я перечислил только то, о чем мне рассказывал писатель Константин Михайлович Симонов, который частенько жил в «Москве». Вся эта услада стоила больших денег, но у фронтовиков они были. В те годы не приходилось устраивать демонстрации из-за «боевых»: положено – получи.
Конечно, этот оазис жратвы и выпивки манил к себе московских гулявых людей, в основном артистов вернувшихся в Москву театров.
Войти в гостиницу без пропуска было невозможно. У дверей стояли строгие автоматчики из полка НКВД. Но постояльцы гостиницы могли заказывать пропуска и приглашать своих друзей в ресторан.
Несмотря ни на что, тот, кто захочет погулять, своего добьется, это я знаю по своему опыту.
1944 год принес столице некоторые послабления. Был укорочен комендантский час, МПВО разрешило содрать с окон бумажные перекрестия, якобы защищающие людей от осколков стекла при бомбежках. Были открыты коммерческие рестораны. Там без талонов, продаттестатов и карточек можно было заказать что угодно.
В меню значились несколько сортов рыбы, икра, горячие закуски и шницели по-министерски. Радовали посетителей и разнообразными напитками. Да, в коммерческих ресторанах было много замечательной еды и выпивки, но стоило это бешеных денег. Обычный работяга или инженер на свою зарплату мог позволить себе несколько бутылок пива.
Одной из таких общепитовских дорогих точек стал ресторан в гостинице «Москва». Сюда сбегались денежные люди. Кинематографисты, получавшие большие постановочные за фильм, актеры, выступающие с концертами, военные корреспонденты и попавшие проездом в столицу офицеры-фронтовики. И конечно, вся военная пена столицы: спекулянты, артельщики, снабженцы, интенданты и ворье.
Часто в ресторан приходили три молодых человека. Хорошо одетые, холеные дети из номенклатурных семей. С ними за столом всегда сидели красивые девушки. Они заказывали скромный, но неплохой стол, пили сухое вино, танцевали.
Весьма часто в ресторане смолкал оркестр и раздавалась команда:
– Всем оставаться на местах и приготовить документы.
В зал входили сотрудники НКВД и проверяли документы. У троих молодых людей и их подруг документы были в полном порядке: паспорта с московской пропиской, студенческие билеты слушателей последнего курса, бронь-освобождение от призыва в армию до окончания института.
Проверяющие вежливо козыряли и отходили. По случаю того, что троица эта появлялась в ресторане достаточно часто, была проведена оперативная установка, показавшая, что все трое молодых людей из обеспеченных и облеченных властью семей.
Первые два трупа обнаружили в Товарищеском переулке на Таганке, под аркой двора. Летчик-подполковник и молодая женщина. Документы офицера и ночной пропуск лежали на земле. Пистолет находился в застегнутой кобуре, которая вместе с широким командирским ремнем валялась рядом. Ни денег, ни часов не было.
У убитой женщины из мочек ушей были вырваны серьги; как потом выяснилось, похищены дамские золотые часы и кольца.
С летчика сняли американское кожаное пальто на меху, с дамы – каракулевую шубу и чернобурую лису, заменявшую в те годы богатым модницам шарф.
Экспертиза установила, что их сначала оглушили тупым тяжелым предметом, а после дострелили из маузера калибра 6,35 с редким по тем временам глушителем. По входным отверстиям можно было предположить, что стрелял левша.
Через неделю там же, на Таганке, обнаружили еще один труп. Почерк был тот же. На земле валялись документы, в кармане пиджака лежал нетронутый пистолет. Исчезли кожаное пальто, часы и деньги.
Убитым оказался физик, доктор наук, работавший вместе с Игорем Курчатовым по программе, которую курировал лично Лаврентий Берия.
Это дело было передано в контрразведку. Следствие шло, а аналогичные преступления совершались в разных районах Москвы.
Приехав на очередное убийство, опергруппа в руке жертвы нашла намертво зажатую красную повязку с надписью «Комендантский патруль».
В лаборатории удалось получить несколько разных отпечатков пальцев.
Теперь было понятно, почему вооруженные люди не воспользовались пистолетом. Комендантский патруль в те годы был обыденностью московских ночей.
А в апреле комендантский патруль Главной военной комендатуры Москвы в Большом Сергиевском переулке на Сретенке встретил трех офицеров с повязками на рукавах. На приказ остановиться и предъявить документы офицеры открыли огонь и скрылись в проходном дворе.
Конечно, банду в конце концов задержали. Лучшие сыскари Петровки и Лубянки шли по ее следу, но, как часто бывает, помог случай.
На первом этаже дома по Большой Грузинской улице жил ушедший по болезни на пенсию ночной вагоновожатый трамвая. Много лет он возил по ночной Москве ремонтные бригады и грузы, потом раненых с Белорусского вокзала. В те былинные годы на пенсию отправляли только немощных, все остальные вкалывали до последнего вздоха.
Он плохо спал ночью. Просыпался, сидел у окна, подняв маскировочную штору, курил. И несколько раз замечал, как Витька, студент, профессорский сынок из двенадцатой квартиры, под утро возвращается домой в офицерской форме.
Ему это показалось странным, и он рассказал об этом зашедшему выпить чайку участковому. Лейтенант, не допив стакан, кинулся в отделение.
Установку провели стремительно. Отработав связи, выяснили двух друзей Витьки, девушек, с которыми они встречаются.
В институте и комсомольской организации о них говорили только хорошее. Отличники, спортсмены, ведут общественную работу. Есть, правда, одна слабость: любят джаз, поэтому часто бывают в коммерческом ресторане гостиницы «Москва», где у них знакомый джазмен. Родители вполне солидные и очень обеспеченные люди.
Через два дня троица студентов с девушками отправились в ресторан «Москва». Немедленно по квартирам были произведены обыски. Нашли маузер 6,35, самодельный глушитель, офицерскую форму, повязки комендантского патруля, находящиеся в розыске кожаные пальто и несколько украшений.
Брали их в «Москве».
Просто вошла группа веселых молодых офицеров с девушками. Смеясь, прошли мимо стола, где сидели трое студентов, мило улыбаясь, сунули им в бок стволы, закрутили назад руки и надели наручники.
При допросах выяснилось, что они подходили к человеку и требовали показать документы. Пока один проверял бумаги, второй говорил, что ему надо позвонить. Шел к автомату, чтобы оказаться за спиной жертвы. Потом, развернувшись, бил по голове куском резиновой трубки, в которую была залита ртуть. Третий, левша, добивал несчастных.
Вещи, чтобы они не всплывали на рынках и в комиссионках, реализовывали веселые подруги студентов среди своих знакомых, за что и поехали в места не столь отдаленные как соучастники убийц и сбытчики краденого.
Ну а молодых людей расстреляли в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.
Я попал в эту гостиницу в 1950-х годах. Она была городом в городе. Вход был свободный, швейцары занимались своим основным делом: открывали двери перед посетителями.
На втором этаже, за парикмахерской, находился замечательный и очень недорогой буфет, за ним – знаменитая бильярдная. В буфете можно было частенько увидеть звездную компанию актеров – Бориса Андреева, любимца публики Петра Алейникова – знаменитого Ваню Курского из фильма «Большая жизнь» – и новую звезду – красавца Владимира Дружникова. Люди специально бежали в буфет, чтобы посмотреть на героев наших кинолент.
Иногда, выпив, актеры заходили в бильярдную. Им уступали один из столов, чтобы они могли покатать шарики. За другими столами играли серьезные люди: знаменитый игрок Сулико, Валя Грек, Глеб Ржанов. Приезжал из Ташкента Давид Самталов, непререкаемый авторитет среди игроков. Играли серьезно, на большие деньги. Причем в буфете и бильярдной сидели люди, ставившие на игру немалые суммы.
Подпольный тотализатор держал неприятный, не определенного возраста персонаж, которого все знали как Женю Красавчика. Сюда, в отличие от катранов, игроки приходили без отбойщиков. Те были просто не нужны, слишком солидные люди катали шары по зеленому сукну и совсем не простые мужики «держали мазу» на игру.
Я приходил туда поболеть за своего соседа Глеба Ржанова. Он был старше меня на десять лет. В 1941-м, с выпускного вечера, ушел на фронт, был рядовым, сержантом, потом получил лейтенантские погоны. Всю войну провел на передовой, но Бог его миловал – он не получил ни одного ранения. Одних медалей «За отвагу» у него было пять штук, не считая орденов и медалей за оборону и взятие.
Молодой лейтенант неплохо погулял в поверженной Германии и освобожденной Австрии. Он с детства увлекался фотографией, поэтому привез из Германии прекрасную аппаратуру и стал профессиональным фотографом.
Глеб работал для московских театров, печатался в журналах, оформлял выставки. Получал неплохо. Но главный доход ему шел от игры на бильярде.
Я специально ходил смотреть, как Глеб играет со знаменитыми игроками, и, конечно, ставил на него. И частенько выигрывал.
Почему-то бильярдная эта полюбилась Василию Сталину.
Обычно его адъютант звонил и сообщал, что генерал едет покатать шары. Немедленно маркер объявлял об этом игрокам, и те, даже не закончив партию, уходили.
Но однажды, в апреле 1951 года, всемогущий генерал приехал туда без звонка. Глеб доигрывал партию с сочинским игроком Борей Ялтой. Партия была серьезная, сумма крупная, ставки в тотализаторе крутые.
Первыми в бильярдную влетели два майора ВВС и потребовали, чтобы все выкатывались подобру-поздорову. За ними вошел Василий Сталин.
– Чего вы им мешаете, пусть доигрывают, а я посмотрю.
С большим трудом Глеб выиграл.
– Слушай, – подошел к нему майор из свиты сына вождя, – Василий Иосифович хочет с тобой сыграть.
– Извините, – развел руками Глеб, – я очень устал.
– Ничего, – попер на него майор, – сгоняешь пару партий, но проиграешь, иначе – пеняй на себя.
– Не буду! – Характер у Глеба был железный, а пять медалей «За отвагу» трусам не давали.
Из кресла поднялся Василий, подошел и сказал, улыбаясь:
– Давай сгоняем партию в «американку», друг. Глебу ничего не оставалось, как согласиться.
– Почем играем? – спросил Василий.
– Назначайте.
– По полкуска.
– Состоялось. – Глеб усмехнулся: по такой мелочевке он никогда не играл.
Пока маркер расставлял шары, к Глебу подошел полный полковник.
– Ты должен проиграть, – скомандовал он.
– Солдатам приказывай.
Разбивал Василий. Следующий удар был Глеба. Он с «одного кия», как говорят бильярдисты, закончил партию.
– Все, – сказал Глеб и поставил кий на место. Все молчали. Василий Сталин побагровел и, насупившись, глядел на Глеба.
– Позвольте получить.
– Ты что, ты что!.. – поперли на Глеба офицеры свиты.
Он надел пиджак с прикрепленной орденской колодкой, где, кроме пяти медалей, расположились ленточки четырех орденов, усмехнулся и пошел к двери. Выходя, оглянулся и бросил небрежно:
– Не по-игроцки. В вестибюле его догнал майор из свиты.
– Ты фронтовик, парень боевой, соскочил бы ты из Москвы, наш хозяин злопамятный, он тебе этого не простит.
Глеб так и сделал. И пока не осядет пена, уехал в Сочи.
А ресторан на втором этаже гостиницы «Москва» мы не любили и называли его вокзалом. Все ждали, когда наступит 5 мая и откроют кафе «Птичий полет» на тринадцатом этаже и ресторан на седьмом. Это было отличное место. Прекрасный летний ресторан с замечательной кухней и великолепным джазом, которым руководил саксофонист Гриша Кац.
Однажды мы пришли на седьмой этаж потанцевать и попить шампанского. Нас устроили за удобный столик, мы сделали заказ по нашим скромным средствам и пошли танцевать.
За соседним большим столом веселая компания отмечала день рождения некоей молодой дамы. Где-то около часа ночи к столу подошел запоздавший гость и преподнес виновнице торжества букет и огромный торт. Вручил и сразу же ушел.
В нашей компании сидел знаменитый московский человек Боря Месхи по кличке Бондо. Он не пропускал ни одной хорошенькой женщины, поэтому уже давно поглядывал на новорожденную и, наконец, начал атаку. Он подошел к ее столу и, как положено по московскому ресторанному этикету, попросил у сидящего рядом мужчины разрешения потанцевать с дамой. Но человек этот был основательно пьян и забыл о ресторанном этикете. Он послал Бондо к известной матери. И сделал это не подумав, так как Боря был один из знаменитых московских драчунов.
Он незамедлительно въехал в ухо хаму. И началось!.. Естественно, мы вмешались, в драку полезли мужчины с других столов…
Раздалась трель милицейского свистка. Гриша схватил меня, Бондо и наших девочек и затолкал в кухонный лифт. Мы вместе с грязной посудой скрылись от доблестной столичной милиции.
А продолжение этой истории я узнал через шесть лет в МУРе.
Всех задержанных доставили в 50-е отделение милиции на Пушкинской улице – «полтинник». Далее все было по науке: предъявить документы, вынуть все из карманов.
У задержанной дамы отобрали сумочку и торт, который она судорожно прижимала к груди.
– Не беспокойтесь, – сказал дежурный, – мы его ак куратно поставим, а когда разберемся, вернем вам.
Торт отнесли в комнату угрозыска и аккуратно поставили на сейф.
Пока в дежурной части шел разбор полета, в кабинет угрозыска зашел задержавшийся на работе начальник отделения подполковник Бугримов.
– Что за красуля в аквариуме причитает о каком-то торте?
– Да вот он, Иван Федорович, на сейфе стоит. Бугримов взял торт, поставил его на стол, снял с ко робки крышку, пригляделся.
– А ну посмотри, – сказал он оперу.
– Торт как торт.
– Да нет.
Бугримов вынул из стакана, стоявшего на окне, ложку.
– Товарищ подполковник, эта баба хипеж подымет.
– Ничего, мы ей новый купим. – Бугримов засунул ложку в крем и вытащил из глубины торта не цукаты, не миндаль, а усыпанный бриллиантами браслет.
– Звони в МУР, – скомандовал он. Через полчаса приехал дежурный по МУРу старший опер Сергей Дерковский. В торте нашли не только браслет, но и камни, броши. Через час в отделение доставили заспанного кондитера с необходимыми инструментами. Ценности уложили обратно, а кондитер умело замаскировал их кремом и цукатами.
Все вещи были в розыске, с двух краж и одного квартирного грабежа.
Даме вернули торт. Она вышла из отделения и подняла руку.
Немедленно рядом остановилось такси, дама села в машину и скомандовала:
– На Сретенку, в Последний переулок.
Она вышла у дома номер 6, поднялась на второй этаж.
Опера уже знали, что она пришла к известному скупщику ювелирки Андрею Чубукину по кличке Сапфир. Пробыла у него дома минут сорок. Вышла – и опять ей «повезло» с такси.
А сыщики поднялись к Сапфиру. Тот понял все и отпираться не стал, знал: если Дерковский обещает, что за чистосердечное дадут по низшему пределу, то так и будет. Он выдал вещи, сказал, что заплатил даме деньги и что она договорилась с кем-то по телефону передать их в три часа в саду «Аквариум».
Дама сидела на скамейке рядом с летним кинотеатром и ела эскимо в шоколаде. Ровно в три к ней подошли двое. Дерковский сразу узнал их: московские уркаганы Валька Калмык и Борька Писарь.
Они сели на лавочку. Дерковский подошел и сказал тихо:
– Давайте без беготни, все перекрыто. Поедем на Петровку добром.
С высоты седьмого этажа я гляжу на успокоившийся город. За домами угадываю переплетение переулков, и мне кажется, что в одном из них я обязательно поймаю свою птицу-удачу… Уже нет седьмого этажа. И гостиница покрыта грязными тряпками, и будет ли она – нам неведомо.
А моя птица-удача все летает в узких переулках Москвы.
Зеленая терраса над прудом
- …А на Чистых прудах лебедь белый плывет,
- Отвлекая вагоновожатых…
А ведь все это было. Белые лебеди на черной ночной воде, в которой ломался свет фонарей, поздние трамваи со светящимися окнами, зеленая дощатая терраса кафе над заснувшим прудом. Над ней висела гирлянда из разноцветных лампочек, которую гасили перед самым закрытием питейного заведения.
Наша редакция помещалась в большом доме, выходившем фасадом на Чистопрудный бульвар. Я тогда только начинал заниматься журналистикой, и поэтому любая работа в газете казалась чрезвычайно важной. Особенно мне нравилось дежурить, то есть, как говорили тогда, быть «свежей головой».
Очередной номер подписывали поздно. Редакция пустела, мне приносили из типографии оттиски полос, пахнущие свинцом и краской. Я внимательно читал их, стараясь не пропустить накладок или, упаси бог, политических ошибок. Потом относил очередную полосу дежурному редактору и шел в ночной буфет пить кофе.
За окном комнаты лежал в темноте город, а я страшно гордился тем, что первый заглянул в завтрашний день.
Когда полосы были прочитаны, правка внесена, дежурный редактор говорил:
– Все, ты свободен.
Нам разрешалось вызывать редакционную машину, но я практически никогда не делал этого.
Хлопала за спиной тяжелая дверь подъезда. Оставались позади кованые ворота, трамвайные пути, отливающие под фонарем селедочным блеском, – и вот я на бульваре.
Человеку случайному он мог показаться пустым и сонным. Но не мне. Вот от пруда со стороны кинотеатра «Колизей» донесся печальный звук аккордеона – это Витя Зубков, битый жизнью паренек из Большого Харитоньевского, наигрывал «Утомленное солнце».
Одинокая лампочка горела на террасе кафе, нависшей над прудом, – это официанты, закончив многотрудный день и разобравшись с чаевыми, закусывали перед уходом домой.
В конце бульвара, у трамвайного поворота, на лавочке (кстати именно на ней снимали убийство опера в фильме «Место встречи изменить нельзя»), местные блатняки пили водку, закусывая ее плавлеными сырками «Дружба».
Бульвар жил по ночному расписанию.
Я шел домой по Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому бульварам. Ночь делала город красивым и незнакомым. И казалось, что жизнь прекрасна и бесконечна.
У «свежей головы» было большое преимущество: на следующий день на работу можно было приезжать после обеда. Но я всегда появлялся на Чистопрудном бульваре к двенадцати, когда на дощатой террасе над прудом начинал собираться народ. Терраса эта была местом встречи самых разных людей. Маленький ресторанчик манил первоклассной кухней. Местным фирменным блюдом был жареный карп. Официант доставал его сачком прямо на твоих глазах из пруда, относил на кухню, и вскоре карп появлялся на столе, украшенный зеленью и жареной картошкой.
Именно сюда, на берег пруда, собирались люди для поправки пошатнувшегося накануне здоровья или просто вкусно поесть и посидеть над водой, обособившись на краткий миг от городской суеты. Здесь были свои завсегдатаи. Кто-то приходил один, другие собирались большими компаниями.
Я довольно часто встречал там двоих людей, ни с кем из посторонних не общавшихся. Приходили они обычно вечером, когда над террасой загорались разноцветные гирлянды лампочек. Надо сказать, что в такое время почти все столы были заняты, но для этой пары всегда находилось самое удобное место.
Один из них – среднего роста, блондин, второй – высокий, очень хорошо одетый, с повадками высокого начальника.
Однажды мы пришли с сотрудником нашей газеты, прекрасным поэтом-юмористом Юрием Чесноковым. Он работал у нас внештатно, видимо, для того, чтобы не отвыкнуть от своего литературного дела, так как основным местом его службы был КГБ. Он очень почтительно поздоровался с блондином.
– Кто это? – спросил я.
– Большой человек, – ответил Юра, – очень большой. И только в конце нашего застолья шепотом сказал мне:
– Это Фитин.
– Ну и что?
– Ты что, эту фамилию не слышал?
– Нет.
– Генерал-лейтенант Фитин, начальник нашей разведки. Вернее, бывший начальник. Его пять лет назад, в 1953 году, уволили из органов.
– А где он сейчас работает?
– На другой должности, – твердо ответил Чесноков. Мы были коллегами по работе в редакции, но не по службе в таинственном доме на Лубянке, поэтому большего мне знать не полагалось. Через много лет я узнал печальную историю шефа советской политической разведки, занимавшего эту должность с 1939 по 1946 год. Всю войну генерал Фитин руководил сложной службой. В фильме «Семнадцать мгновений весны» актер Петр Чернов играл безымянного начальника разведки, который принимал донесения и давал задания резидентам. Некая абстрактная фигура.
Любой человек, независимо от заслуг, незамедлительно утрачивал имя, как только его дело попадало в зловещую Комиссию партийного контроля (КПК). Кстати, в свое время в некоторых книгах и статьях даже маршала Жукова именовали уполномоченным Ставки, без упоминания фамилии.
Да и сегодня многие историки, когда пишут о том, что наша разведка переиграла СД и абвер, фамилию Фитина не называют. Видимо, потому, что он был чужим человеком в органах. Многие асы нашей разведки не считали его профессионалом. До работы в спецслужбе он был очень неплохим журналистом, и на всю жизнь в нем осталась некая богемность.
Его роман со знаменитой конькобежкой Риммой Жуковой долго обсуждали в номенклатурных салонах. Как же? Генерал – и вдруг такое!
Но те, кто с ним работал, отзывались о нем как о порядочном и добром человеке, на какой бы должности он ни находился после войны, продолжая работать в органах.
Однако мне все же трудно представить, что нашей разведкой в самое тяжелое время руководил малопрофессиональный человек. Судьба Фитина похожа на судьбы многих людей, работавших в то время в секретной службе.
Никита Хрущев боялся собственной спецслужбы и не любил ее: ему все время казалось, что именно там некие люди собирают на него компромат.
Летом 1953 года, после ареста Берии, состоялся партактив управления разведки МВД. Министром был назначен генерал-полковник Сергей Круглов, фигура временная, так как у Хрущева были с ним свои счеты.
И вот на партийный актив разведки в клуб Дзержинского прибыл новый руководитель страны и партии. Приехал он не для того, чтобы узнать, как работают разведчики, обеспечивающие безопасность руководимого им государства, а для того, чтобы разобраться с «бериевскими последышами».
О том, что творилось на этом партактиве, рассказывал мне бывший председатель КГБ генерал Серов, в те дни служивший замминистра МВД.
Не успел тогдашний начальник разведки Савченко начать свой доклад, как Хрущев оборвал его и предложил генералу рассказать о его связях с Берией. Затем партийный вождь стал разбираться с другими руководителями этой службы.
Люди поднимались на трибуну в одной должности, а спускались с нее в лучшем случае заместителями начальников УВД в отдаленных областях.
Профессионалов разведки отправляли руководить паспортной службой, борьбой с малолетними преступниками и даже брандмейстерами. И это еще было для них удачей. Лучше тушить пожары и командовать детскими комнатами милиции, чем сидеть в тюрьме. Но многие не избежали и этой участи. Генералы Судоплатов, Эйтингон, Райхман и другие были отправлены во Владимирскую спецтюрьму. А вот Фитину «повезло». Его просто уволили из органов.
Он был генерал-лейтенантом, но это никак не отразилось на его дальнейшей жизни. Полной выслуги у него не было, поэтому пенсию ему положили копеечную, из служебной квартиры, естественно, выселили и дали комнату в коммуналке в районе Чистопрудного бульвара. С огромным трудом ему удалось устроиться на «руководящую» работу. Он стал заведующим фотоателье в Доме дружбы с зарубежными странами.
А его спутник тоже был чекист-расстрига. Я часто потом встречал его в «Национале» и Доме журналиста. Все считали его писателем, а он работал в управлении кадров Московского треста столовых и ресторанов.
Стало ясно, почему его так уважали в кафе на бульваре.
В знаменитом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре все подвалы и чердаки были отданы под мастерские художников. В них ютилось талантливое, шумное, бородатое племя графиков, живописцев, театральных декораторов. Вполне естественно, что любимым их местом была описываемая мной терраса.
Они вваливались туда шумной компанией, и вместе с ними вливался дух свободы. В отличие от нас, журналистов, над которыми незримо витала тень МК и ЦК ВЛКСМ, что делало нас, к сожалению, осторожными и осмотрительными, художники были некоей вольницей. Они уже тогда не ставили ни в грош любое начальство, рисовали что хотели, а для денег выполняли заказные работы.
Уже тогда их картинами интересовались любители живописи, иностранцы и через подставных лиц скупали их работы.
Художники боялись только одного – лишиться мастерской, полученной от МОСХа, но такие меры начали принимать лишь во времена борьбы Андропова с диссидентами.
Душой этой веселой компании был мой старинный приятель Леша Соболевский, который славился любовью к розыгрышам. Высокий блондин с красивым русским лицом, он был очень похож на знаменитого певца Сергея Лемешева.
Надо сказать, что такого количества поклонниц, так называемых «сырих», как у русского тенора, не было ни у одного артиста. Жил Сергей Яковлевич на улице Горького, в кооперативном доме Большого театра. В подъезде сидели строгие вахтерши, которые нещадно гоняли бедных поклонниц.
Не знаю, как Леша, тогда студент театрального училища, где он, следуя семейной традиции, обучался на художника-декоратора, смог договориться с этими суровыми дамами. Но факт остается фактом. Именно они шепнули «сырихам», что Лешка – сын самого Лемешева.
С той поры он появлялся на московском Бродвее в окружении прелестных девушек. Поклонницы его знаменитого «папы» были готовы на все, в любую минуту и где угодно.
И вот после долгого перерыва мы увиделись на террасе над прудом. Лешка рассказал мне, что путем мытарств его семейству удалось выменять огромную коммуналку в доходном доме в Кривоколенном переулке и что скоро я буду зван на новоселье.
Но попал я в эту квартиру значительно раньше, чем семейство театральных декораторов привело ее в порядок. Лешка позвонил мне в редакцию и радостно сообщил, что в квартире найден клад.
Я немедленно с фотокором Валькой Ивановым прибыл на место происшествия. В одной из комнат, разрушенной ремонтными работами, в фанерной насыпной стене оказался квадратный тайник, в котором находилась жестяная коробка с надписью «Шоколад Галла-Петер», а рядом лежали забандероленные пачки советских денег образца 1918 года.
На полу стояли весы, которые Лешка приволок из соседнего магазина.
– Зачем весы? – спросил я.
– Деньги взвешивать будем. Взвесили, получилось около двух кило. Так родился заголовок заметки – «Два килограмма денег».
Валька отснял все, что нужно, я быстро написал заметку и поволок ее к ответственному секретарю. Тот прочитал и сказал равнодушно:
– Ну и что?
– Клад все-таки.
– Не пойдет. Если мы будем писать обо всем старом дерь ме, которое находят после ремонта, в газете места не хватит. Ты же репортер, вот и узнай, чьи это деньги, как они по пали в тайник. Возможно, за ними интересная история.
И я начал копать архив. В домоуправлении хранились домовые книги до 1945 года. Я сидел в городском архиве, читал старые книги, просматривал корешки ордеров. Квартира эта сменила несколько десятков жильцов, но все данные кончались на 1923 годе.
Тогда я ничего не нашел, но много лет возвращался к этой истории и все-таки выяснил, кому принадлежали несколько миллионов первых советских рублей. И помогли мне в этом документы московской уголовно-разыскной милиции.
Квартира в Кривоколенном, куда вселился мой веселый товарищ, принадлежала помощнику присяжного поверенного Дергунову. Он был одним из платных агентов Московского охранного отделения и после Февральской революции, когда деятельностью охранки занялась особая комиссия, бесследно исчез из Москвы.
В квартиру под видом двоюродной сестры заселилась его бывшая любовница Елена Радель. Женщина она была предприимчивая и решила организовать доходное дело: создать дом свиданий для измученных душой богатеньких московских мужиков.
Человек, уставший от уличной стрельбы, революционных лозунгов и бытовой неустроенности, находил в квартире на третьем этаже дома по Кривоколенному переулку женскую ласку, шустовский коньяк и хорошего партнера за ломберным столом.
Придраться к хозяйке, мадам Радель, было практически невозможно. Милиция, в то время часто приходившая с проверкой, заставала в ее квартире нескольких гостей, документы которых были в образцовом порядке.
Дело мадам Радель процветало. Советские деньги она практически не брала. Не вызывали доверия у бывшей любовницы агента охранки плохо отпечатанные бумажки. Клиенты рассчитывались золотыми империалами, валютой и царскими деньгами.
Мадам никогда не заводила романов с клиентами, тем более что у нее появился любовник, человек смелый и решительный, звали его Константин.
Дом свиданий в Кривоколенном посещали люди денежные, в милых беседах хозяйка салона ненавязчиво выясняла их финансовые секреты, а потом ее нежный друг с двумя приятелями под видом комиссаров МЧК появлялись в квартирах и проводили реквизицию ценностей. Причем делали это по своим правилам, с подобающими документами, так что подозрений не возникало.
Эти операции приносили мадам Радель и ее любовнику совсем неплохой доход. Но они были людьми осторожными и, вовремя забрав деньги и драгоценности, подались из Москвы в Питер, где за хорошую плату можно было уйти через финскую границу.
Квартиру Константин оставил одному из своих подельников, некоему Лебедеву.
На станции Ожерелье ночью был ограблен почтовый вагон поезда Москва – Тамбов. Шестеро бандитов, поставив под ствол охранника и двух почтовиков, забрали баул. В нем находилось девять миллионов рублей, отправленных Совнаркомом для выдачи зарплаты рабочим Тамбова.
Делом этим занялся комиссар милиции Карл Розенталь. Впоследствии он станет начальником Центророзыска, то есть всей сыскной службы страны. Московским сыщикам повезло, что первичный осмотр проводил опытный сотрудник уголовно-разыскной милиции. Он нашел на месте преступления квитанцию об отправке посылки в Ярославль. Именно эта квитанция привела московских сыщиков к организатору налета Петру Суханову. Его взяли в городе Рыбинске, при нем нашли часть похищенных денег, его опознали охранник и почтовики. Он раскололся и сдал подельников.
Дольше всех искали Лебедева, того самого, что поселился в квартире по Кривоколенному переулку.
В наследство от уехавших хозяев ему остались не только ковры, мебель и посуда, но и тайник в стене, куда он спрятал свою долю – два кило бумажных денег.