Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы Марчуков Андрей
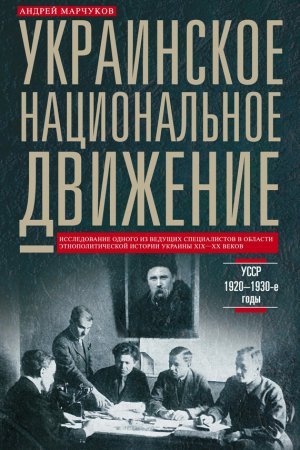
Светлой памяти моего отца Марчукова Владислава Григорьевича посвящается эта книга
© Марчуков А. В., текст, 2015
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
Предисловие ко второму изданию[1]
Книга, которую вы держите в руках, уже издавалась в 2006 году. Называлась она так же: «Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы. Цели, методы, результаты». Книга прошла принятую в таких случаях процедуру: рукопись была обсуждена на ученом совете Института российской истории РАН, утверждена к печати и выпущена в свет издательством «Наука». Таким образом, это – второе издание.
Поначалу планировалось дать ей другое название («Как создавали Украину»), но затем было решено оставить все как есть, поскольку первоначальное название верно отражает содержание книги. Она посвящена украинскому национализму и деятельности украинских националистов (или, другими словами, адептов украинской идеи). А если посмотреть на проблему более широко, проблеме формирования (или создания) национальных коллективов (наций) на территории современных России, Украины, Белоруссии и Новороссии. То есть на том этническом пространстве, которое изначально обозначалось как «русское» (русское в широком и потому наиболее верном и исторически обоснованном пони мании этого термина), но начиная с XX в. и до дней сегодняшних стыдливо или «политкорректно» именуется «восточнославянским».
Под такой понятийно-терминологической «стыдливостью» и «политкорректностью» на самом деле скрываются далеко не объективные причины, а вполне узнаваемые русофобские установки и основанные на них национальные проекты, рассматривающие это огромное пространство как принципиально «не-русское». Ведь терминология и понятийная сфера – это одна из базовых основ индивидуального и коллективного сознания.
Действительно, «восточных славян» (да и, строго говоря, «славян» вообще) нет уже тысячу лет. Нет именно как политической, этно-национальной и культурной общности, а не просто как подгруппы славянской языковой группы индоевропейской семьи языков. Уже во времена Руси, которую мы условно именуем «Древней» (таковой она предстает с нашей точки зрения, но не с точки зрения ее жителей) или «Киевской» (по названию столицы – Киева), восточнославянские племена слились и переплавились в новую общность – русский народ (с позиций современности именуемый древнерусским). Народ, обладавший одной верой, единообразной духовной и материальной культурой, одной политической системой и правящей династией, одним языком (литературным и разговорным), ментальностью и, что крайне важно, этническим обликом и самосознанием. Едиными для всей территории страны, вне зависимости от того, в каком уголке Руси, а позже – княжестве жил русич/русин/русский человек: в Киеве ли, в Галиче, Полоцке, Новгороде, Владимире-на-Клязьме, Смоленске, Чернигове или Пинске. Разумеется, местные отличия при этом имелись, но они носили характер именно что региональных различий внутри одной и той же этнической общности.
Дальнейший ход развития и трансформации этой общности оставим за скобками. Отметим лишь, что, несмотря на все последующие исторические перипетии, в которые оказалось втянуто это пространство, и политические события, менявшие его облик, оно продолжало пониматься как «русское» и его народом, и, что не менее важно, иноэтничными соседями. Опять-таки, вне зависимости от того, как пролегали по нему внутренние границы, и того, в какой части Русской земли жил человек. Понятно, что жители, скажем, Великой (Восточной) в Малой (Юго-Западной) Руси в силу тех самых перипетий и событий стали сильнее отличаться друг от друга по языку, этническому облику, социальным устоям. И если понятие (древне)русский народ применительно к общности, населявшей Русь веках в XII–XV, было категорией этнической, то понятие русского народа применительно ко всем частям Русской земли в XVI–XVII вв. приобрело характер, скорее, суперэтнический, занимающий более высокую ступень сознания (идентичности, в том числе этно-национальные, по своей структуре иерархичны). Конечно, и житель Великой, и житель Малой Руси к «русским» относил прежде всего себя и «своих», а потом уже «тех». Но главным оставалось то, что в коллективном сознании и одних, и других продолжало сохраняться восприятие друг друга как «Руси», как родных частей Русской земли (говоря современным языком, Русского мира).
Дальнейшая национальная трансформация этого общерусского этнического, языкового и культурного пространства как раз и строится вокруг того, как оно понималось и его населением, и соседями; какие идентичности, мировоззрения, системы ценностей складывались и творились там; как коллективным и индивидуальным сознанием воспринималось собственное этническое и национальное «я». И каким его стремились видеть в будущем. Поэтому стремление одних изъять слово «русский» из обозначения этого историко-политического и национально-культурного пространства, и «боязнь» других лишний раз его употребить, является одним из проявлений тех процессов в национальной и ментальной сферах, которые здесь шли в XIX–XX вв. и продолжают идти по сей день.
Исследованию некоторых из них как раз и посвящена эта книга. Ведь формирование украинской нации и «Украины» как национально-политического организма является одной из их важнейших составляющих.
После событий 2014 г. это стало ясно многим. Действительно, теперь тема «Украины», украинского национализма, общерусского единства, а теперь еще и «Новороссии» на слуху, к ним приковано общественное внимание. Не так было, когда эта книга вышла впервые. Да, уже прошла так называемая «Оранжевая революция», ставшая, как выяснилось, генеральной репетицией к февральскому государственному перевороту 2014 г., но тогда к этому «звоночку» еще мало кто прислушался. На Украину и вообще все, что с ней связано, в том числе на набиравший силу украинский национализм, на политику дерусификации, на антироссийский курс и насаждаемую в этом государстве русофобию взирали сквозь «розовые очки». Рассуждали о «стратегическом партнерстве», сводя все к проблеме поставок газа, отмахиваясь от неугодных фактов и «объясняя» их «детскими болезнями» роста «молодой государственности».
Одни так говорили потому, что не понимали, что собой представляет Украина (не знали историю), продолжая смотреть на нее как на «братскую советскую республику». Другие же хорошо понимали, что эта «молодая» государственность построена на «старой» идеологии украинства, которая придала ей уж очень специфический облик. Но их такое развитие событий вполне устраивало: они «делали бизнес» (в том числе политический) и берегли status quo 1991 г. Даже теперь, когда «тайное» уже для многих стало явным, эти очень влиятельные люди предпочитают сохранить Украину и «сдать» так мешающую им Новороссию.
Тогда, в начале двухтысячных, в поле зрения был, скорее, Кавказ, а не Украина. Гром не грянет, мужик не перекрестится – вот уж верно подмечено. Ну, кому в России может быть интересно читать про украинский национализм и прочие «украинские» сюжеты? Да это вообще «зарубежная история». Так рассуждало немало людей. Фатальное заблуждение! Россия и Украина, русская и украинская национальные идентичности, русская и украинская нации – это сообщающиеся сосуды, ибо действуют они на одном и том же поле, среди одного и того же населения. И если в одном месте сколько-то убудет, в другом на столько же и прибудет. Естественные законы применимы и в национальной сфере.
Конечно, были энтузиасты, которые понимали, что главной проблемой – и на долгие годы – будет не Кавказ или что-то другое, а именно Украина. Они пытались привлечь внимание к проблеме, издавали книги. Но этих людей было мало, говорили они «не то», что хотели слышать «вершители политики», и их голос был почти что тем самым гласом вопиющего в пустыне. (Хотя, если вдуматься, в 2014 г. мало что изменилось…) Вот и первое издание вышло маленьким тиражом – всего 400 экземпляров, отчего книга сразу стала библиографической редкостью. Впрочем, так теперь издаются очень многие научные книги: «черные» советские времена с их многотысячными тиражами и заботой о науке и образовании остались в прошлом.
Тем не менее ее заметили на Украине: как друзья (спасибо им за это), так и недоброжелатели из числа адептов украинства (будь то «традиционные» украинские националисты или сориентированные за последние четверть века на Запад «интеллектуалы-гуманитарии»). Появление книги вызвало у последних негативную реакцию (способы ее выражения были разными – от критики и обвинений в «великодержавности» до простого, но проверенного замалчивания). Это и неудивительно: она не вписывается в ту концепцию истории, которую несет украинство и тиражирует основанное на его идеологии государство, и потому расценивается его адептами как «подрывающая устои». И уж совсем неприемлемым для этой публики оказался взгляд на историю формирования «Украины» с позиций общерусскости (пусть даже там он был обозначен пунктирно). Они приемлют лишь один подход – украиноцентричный, «дерусифицирующий» историю Русского мира. Впрочем, такая реакция как раз и свидетельствует в пользу работы. За что автор выражает этим людям признательность.
Но то, что раньше кому-то казалось временным и несущественным, оказалось вещами основополагающими и определяющими развитие Украины и саму ее сущность. Но почему вышло именно так? Почему Украина – такая и как она вообще появилась на исторической арене? Эти вопросы требуют ответа, потому что объяснять все происками внешних сил – это значит пусть и ненамеренно, но упрощать проблему. Несомненно, вклад внешних игроков (иностранных государств, иных национальных движений или наднациональных структур) в движение украинское и становление «Украины» велик. Но все же главная роль принадлежит тут внутренним причинам и, как ни покажется странным, России – в лице ее общества (прежде всего леволиберального) и государства (которое на разных этапах представало то как Российская империя, то как СССР, то как постсоветская Российская Федерация). Выяснению именно внутренних механизмов процесса формирования украинской нации и посвящена эта книга.
При переиздании было решено не вносить изменения в ее текст. Это законченное исследование, и любое вмешательство в него не только отложило бы ее переиздание, но и в конечном счете привело бы к появлению новой книги. Тогда как эта ничуть не «устарела» и не «опровергнута» какими-то «новыми, вновь открывшимися обстоятельствами». Конечно, всегда можно что-то исправить, уточнить, дополнить. Это можно сказать о любой книге, даже только что законченной. Не успеет автор поставить последнюю точку, как обязательно обнаружится документ, статья или книга, которые настоятельно «попросят» автора их учесть или упомянуть. Ведь жизнь и наука не стоят на месте.
Так и сейчас. Какие-то моменты можно было бы изложить более сжато и акцентированно. Или можно было бы чем-то дополнить книгу, уточнить какие-то моменты. Например, рассказать об авторстве политического памфлета «История Русов», ставшего важным событием в зарождении и эволюции украинофильства. Или подробнее остановиться на перипетиях Гражданской войны, на деятельности самостийнических и советских украинских правительств, и их оппонентов – скажем, представителей Донецко-Криворожской советской республики, желавших сохранить этот огромный регион в составе России и не считавших себя «Украиной». Можно было бы подробней осветить такой важнейший фактор в создании Украины и украинской нации, как политика большевиков и советской власти вообще. Ведь в конечном счете (речь в книге об этом идет) именно большевики и Советское государство, а вовсе не украинское движение, стали главными строителями Украины. Точно так же, как советская партийная номенклатура (а опять же, не украинские националисты и диаспора) стала творцами независимости Украины в 1991 г.
Можно больше внимания уделить не только украинскому движению, но и его конкурентам, прежде всего общерусскому национальному проекту. Который хотя и был насильственно устранен (большевиками) как реальность, но, имея глубокие исторические корни, сумел пережить украинизацию советского и постсоветского периодов, возродился в начале XXI в. и продемонстрировал, что не является каким-то пережитком, а имеет хорошие шансы на будущность. Именно его возрождение стало таким неприятным сюрпризом и для адептов украинства на Украине, и для их союзников-покровителей в России.
Впрочем, об общерусской идее, о базовых постулатах и фигурах общерусского национального проекта, а также о начальном периоде национальной трансформации малороссийского общества в целом шла речь в другой моей книге, вышедшей в самый канун 2012 г. в издательстве Regnum (2011 г.). Называется она «Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время», снабжена красочными иллюстрациями и уникальными картами. Ее еще можно достать или прочесть в свободном доступе в Интернете (http://www.iarex.ru/books_sort4/page5.html).
Что касается внесенных изменений, то они крайне незначительны и касаются отдельных слов. Из крупных надо отметить одно: разделы, рассказывающие об историографии вопроса и источниковой базе исследования, были вынесены из вступления в отдельный блок, помещенный в виде приложения после основного текста. Сделано это было для облегчения чтения: после введения (важного для понимания последующего материала) сразу начинается основной текст. А те, кто заинтересуется источниками и историографией, смогут прочесть о них отдельно.
Но, повторю, все это – детали, не влияющие на содержание книги, подходы к рассматриваемому материалу и полученные выводы. Все это не только не устарело и не было опровергнуто (как того кое-кому хотелось бы), но наоборот, еще раз подтвердилось – самой жизнью. Потому текст и переиздается без изменений.
…В свое время английский философ и политический деятель Фрэнсис Бэкон (1561–1626) в своем трактате «Нравственные и политические очерки» (1597 г.) бросил фразу, ставшую крылатой (по крайней мере, в нашей стране, где даже издается одноименный научно-популярный журнал), сказав: «Знание – сила». По-латински фраза звучит как «Scientia est potentia», по-английски – «Knowledge is power», что можно перевести и как «Знание – власть (могущество)». Нюансы в данном случае не важны: знание о каком-то явлении и понимание его сути и движущих механизмов – это и сила, и способ овладеть ситуацией, дать ответ на брошенный вызов и победить, а в конечном счете власть и могущество (это уже помимо чисто научного интереса к проблеме).
Все это применимо и к истории формирования «Украины» как национально-политического организма, создания украинской нации, феномену украинского национализма. И процессам национальной трансформации общерусского культурного, этнического и политического пространства. Будем надеяться, что книга, второе издание которой вы держите в руках, хотя бы частично поможет разобраться в этих вопросах и найти на них должный ответ.
Ноябрь 2014 г., Москва
Введение
Кризис исторической России и «украинский вопрос»
В 1991 г. прекратил свое существование СССР. Чем дальше отодвигается от нас это событие, тем яснее становятся его поистине планетарные масштабы и последствия, тем отчетливее проступает его знаковый характер. По своему влиянию на развитие политических, идеологических, культурных процессов в современном мире, по степени воздействия на дальнейший ход истории всего человечества гибель Советского Союза можно со всеми основаниями считать рубежом, подводящим черту под Новейшим временем и открывающим собой постновейшую эпоху.
Политические изменения и сам распад СССР стали зримым проявлением глубоких внутренних деструктивных процессов, похоронивших советское общество и продолжающих разъедать общество постсоветское. При всех своих идеологических и прочих особенностях СССР был тем не менее «исторической Россией», занял ее «историческую нишу», стал ее геополитическим и цивилизационным продолжением. Несмотря на суровые потрясения и чувствительные эксперименты, советское общество продолжало оставаться носителем традиционных моральных и этических установок, несовместимых с протестантской этикой и либеральной системой ценностей, на которых замешена идеология западной модели единого мира.
Превращение России в буржуазную страну – часть западной капиталистической системы с откровенно классовым обществом, подчас напоминающим кастовое, породило невиданный духовный кризис. При этом кризис этот так и не выдвинул из своих недр ни одной позитивной, отрицающей его идеи и идеологии, способной мобилизовать дезориентированное постсоветское общество и вдохнуть в него энергию созидания, вернуть этому обществу Смысл и Цель жизни. Трудно не согласиться с Н. А. Нарочницкой, утверждающей, что результатом последних лет стало не просто обнищание или ослабление России, а крушение всей русской истории, «уничтожение российского великодержавия[2] во всех его духовных и геополитических определениях, устранение равновеликой всему совокупному Западу материальной силы и русской, всегда самостоятельной исторической личности с собственным поиском универсального смысла вселенского бытия»[3].
Сокрушение самостоятельной русской исторической личности оказалось возможным в результате измены советского и российского общества самому себе, сознанию своей правоты (причем не просто в конкретно-политическом, а и в философско-историческом аспекте), своему праву на собственный исторический путь. Оно стало результатом отрешения от традиционных моральных устоев и норм, критериев оценки Добра и зла, потери веры в далекие, недосягаемые идеалы, служащие бесконечной целью бесконечного же приближения к ним. А это уже оказалось следствием пересмотра прошлого России-СССР, дегероизации истории, переоценки всего и вся.
Внутренний кризис и пересмотр прошлого породили многие негативные явления. В частности, его следствием стал всплеск национальных проблем, сыгравших далеко не последнюю роль в судьбе СССР. Ломка социально-экономического уклада, отказ от своего пути и «поклонение чужим богам» подтачивали духовное единство страны и населяющих ее народов, ставили под сомнение общность их целей и исторической судьбы, отношение к СССР-России как к своей Родине и тем самым провоцировали развитие центробежных тенденций, появление национальных и сепаратистских движений и рост этнократизма. С распадом Союза деструктивное действие национального фактора на постсоветском пространстве не прекратилось. Центробежные тенденции, явные и подспудно тлеющие конфликты продолжают ощущаться в некоторых регионах России и ряде бывших союзных республик и поныне.
Дело не только и не столько в «окраинных национализмах» и в межэтнических конфликтах на Кавказе и в ряде других горячих точек бывшего Союза. Главная проблема заключается в духовном и физическом самочувствии основателя и главного строителя российской государственности, ее стержня, носителя «генетического кода» России – русского народа. Именно он в наибольшей степени пострадал от революции 1989–1993 гг., именно он был насильно расчленен и подвергнут в ряде бывших советских республик национальной дискриминации. Именно его ценности и тысячелетний духовный опыт оказались не востребованы в постновейшем мире и постсоветской России. Именно внутреннее национальное единство Русского мира вновь оказалось поставлено под сомнение старыми и новыми течениями, отрицающими это единство.
Поясним, что под Русским миром в данном случае понимается определенный цивилизационный, культурно-психологический, религиозно-этнический и хозяйственный организм – сообщество, к которому принадлежат не только русские в современном понимании этого слова (или, по-старому, великороссы), но также белорусы и восточные украинцы. В силу множества факторов (о которых пойдет речь впереди) большинство этих людей продолжает сознавать (или ощущать подсознательно) свою принадлежность к этому миру и поэтому их социальное поведение и реакция на кризис конца XX в. во многом одинаковы[4].
В этом контексте на первый план выступает так называемый «украинский вопрос». В свете означенных событий абсолютно правильной представляется оценка, данная ему еще в период между двумя мировыми войнами виднейшим идеологом украинского национализма Д. Донцовым: «Как комета появляется… украинский вопрос на политическом небе Европы всякий раз, когда для России наступает критический момент»[5]. В настоящее время, после возникновения на мировой арене Республики Украины, этот вопрос как бы перешел во внешнеполитическую сферу. Однако это лишь видимая сторона проблемы. Хотя Украина стала самостоятельным государством, этот вопрос остается и будет оставаться в зримой перспективе внутринациональной проблемой этого Русского мира. Причем проблемой не сугубо «украинской» или сугубо «российской», а именно общей, поскольку от того или иного варианта ее развития будет напрямую зависеть облик и внутренний мир и России, и Украины, и русской, и украинской общностей. Более того, кризис России – это и кризис Украины. И преодоление этого кризиса возможно только одновременно и вместе друг с другом.
Не менее важным последствием воздействия национального фактора стал психологический синдром от крушения многонациональной сверхдержавы. Относительная легкость, с которой произошел политический «развод» республик, свидетельствует о том, что государственное единство страны в том виде, в котором оно существовало на момент ее распада, претерпело сильную эрозию и было подточено процессами, происходившими в СССР в последние годы его существования. Вместе с тем довольно продолжительное и непростое привыкание населения бывшего СССР к новым реалиям служит подтверждением того, что в Советском Союзе происходило складывание (хотя и не доведенное до своего завершения) некоей надэтнической национальной общности, разрушение которой оказалось более болезненным, нежели распад государственного организма. Впрочем, сознание сопричастности к этой общности не исчезло бесследно и продолжает сохраняться у довольно широких слоев населения как России, так и некоторых бывших союзных республик.
Советский Союз не был однородным образованием. Его регионы и республики отличались друг от друга в языковом, культурном, ментальном, цивилизационном отношении. Поэтому и степень ощущения сопричастности своей судьбы с судьбой СССР-России, осознания принадлежности к советской надэтнической общности в разных республиках и среди разных народов была неодинаковой. Прочнее всего это сознание утвердилось среди славянских народов, которые составляли ядро Русского государства и ядро советской общности, – у русских, украинцев и белорусов. Поэтому дезинтеграционные процессы наиболее болезненно воспринимаются именно этими народами. Несмотря на то что со времени крушения Советского Союза прошло уже более десяти лет и люди свыклись с новыми реалиями (а новое поколение вообще выросло в иных условиях), разрыв между Россией и Украиной остается чувствительным как для российского общества (которое, по существу, так и не примирилось с этим фактом), так и, во многом, для украинского[6].
Другой причиной, по которой современное состояние российско-украинских отношений беспокоит здравомыслящую российскую (и не только российскую) общественность, являются языковые, культурные, политические процессы, которые имеют место на современной Украине, и та политика, которую проводит в этих сферах украинское руководство. Надо открыто признать тот очевидный факт, что на протяжении вот уже более десяти лет мы являемся свидетелями постепенного, но последовательного, методичного и ясно ощущаемого дрейфа Украины в сторону прочь от России[7]. Конечно, на Украине изменили бы акценты и преподнесли это как исторически и политически закономерный поворот Украины в сторону Европы и США и олицетворяемых ими западных ценностей, как «нормальный» курс самостоятельного и независимого государства. Однако в силу объективных и субъективных причин (например, ментальности населения страны и ее политической и хозяйственной элиты), а также истории становления «Украины» (о чем и пойдет ниже речь), осуществлявшейся на отрицательной, а не положительной доминанте (здесь речь идет не о нравственной оценке, а о способе мироощущения и поведенческих нормах, которыми руководствуется какой-либо общественный коллектив), это движение является не движением «к чему-либо», а движением «от чего-либо».
Этот дрейф воспринимается широкими массами населения в России и даже на Украине с неподдельным удивлением и оборачивается не только непониманием причин, его побуждающих, но и отрицанием самого факта удаления Украины от России или, в лучшем случае, его неприятием. Истинное положение дел, зачастую весьма неприглядное, замалчивается и подменяется приятными на слух разговорами о дружбе и вечной преданности, обращениями к истории, где два брата – русский и украинский народы – вместе жили, строили, воевали, побеждали и т. д. Что самое интересное, все это имеет под собой неоспоримые исторические основания, ибо является правдой. Но подобный подход страдает одним существенным недостатком: он не позволяет трезво оценить современное состояние российско-украинских отношений и определить причины этого состояния. Елейные речи, заверения, экскурсы в прошлое, равно как и нежелание смотреть правде в глаза, призваны доказать (иногда другим, иногда самим себе), что в украинско-русских отношениях все хорошо, а негативные моменты, возникающие время от времени между Украиной и Россией, – дело временное и поверхностное, своеобразные игры политиков.
Оставим за скобками политиков России и Украины, их цели, тактику и стратегию (в том случае, если она есть), равно как и ответ на вопрос, насколько их курс отвечает интересам наших народов и в чем эти интересы состоят. Это особая тема, требующая серьезного осмысления. Но ради справедливости посмотрим на проблему с другой стороны. Понятно, что познания широких слоев общественности в отечественной истории весьма поверхностны и шаблонны. Здесь речь идет, конечно, не об элементарной исторической неграмотности или о заведомо фальсифицированном освещении прошлого. В самом факте шаблонности нет ничего дурного. Среднестатистический обыватель знает и должен знать своеобразный «краткий курс» из основных фактов, причинно-следственных связей и оценок, которые обязательно должны соответствовать государственной и общественной идеологии (в последнем случае речь идет о тех странах, где историческая роль государства не столь ярко выражена, как в России), служить ей историческим фундаментом и способствовать политической мобилизации населения. В соответствии с этой исторической мифологией (в данном случае этот термин употреблен без негативного смыслового оттенка) находила свое изображение и история Украины, отложившаяся затем в общественном сознании.
Однако прочность и жизнеспособность этой идеологии может быть достигнута в том случае, когда она опирается на реальный исторический опыт того социально-политического организма, который она обслуживает, когда ее основы, ключевые положения корнями уходят в прошлое и соответствуют историческому пути народа и его историческому сознанию. И здесь важно подчеркнуть, что официальная советская идеология и народное восприятие многих исторических сюжетов, например имеющих отношение к Украине и к украинско-русским связям, в целом взаимно дополняли друг друга. Поэтому провозглашаемая идеология дружбы и братства русского и украинского народов, несмотря на известную долю присущей ей патетичности и официозности, не была тем не менее чем-то искусственно сконструированным и навязанным. Иными словами, она не была «мифом» (уже во вполне традиционном толковании этого слова), ибо в ее основе лежал взгляд на историю и культуру, позволявший представителям этих этносов видеть друг в друге «своих», пусть немного отличающихся, но «своих».
В связи с этим неурядицы во взаимоотношениях между нашими странами и отдаление Украины от России в последнее десятилетие в народном сознании представляются делом рук «петлюровцев», «бандеровцев» и украинских националистов вообще. Именно этими же причинами продиктовано и настороженное отношение к Западной Украине, где наиболее широко распространены антироссийские и антирусские настроения. Однако сводить все прошлые и современные проблемы русско-украинских отношений лишь к делу рук петлюровцев и бандеровцев было бы непростительным упрощением. К тому же такой взгляд не позволяет глубже разобраться даже в причинах появления этих последних на исторической арене.
К постановке проблемы исследования
Проблемы происхождения и сущности украинского национализма, истории становления украинской национальной общности и прочие вопросы, связанные с национальным развитием Украины, весьма сложны и многообразны. Обращение к ним требует от исследователя вдумчивого и комплексного подхода и внимательного изучения прошлого, как далекого, так и относительно близкого. Стоит хотя бы отметить, что развитие «Украины»[8] как национального организма началось и набирало силу не на Западной Украине (в ту пору еще таковой не являвшейся и называвшейся Галицией, или, по-славянски, Галичиной), а на землях, входивших сначала в состав Российской империи, а затем – СССР. Именно Малороссия, или, как ее называли деятели украинского движения, Надднепрянщина, стала той территорией, на которой зарождались национальные идеи, которая была поставщиком кадров для этого движения и главным центром приложения его сил.
Интерес к истории вполне естествен и легко объясним. Дело в том, что многие процессы, имеющие место на современной Украине, не являются чем-то новым. Их корни уходят в конец XIX – первую треть XX в. Именно в тот период возникает украинская идентичность, активно идет формирование украинской национальной общности и украинского национального самосознания. Поэтому без обращения к не столь уж далекому прошлому, без изучения национального развития русского и украинского народов не разобраться в историческом пути России и Украины и не уяснить то положение, в котором они оказались на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий. И это надо делать беспристрастно, отбрасывая старые и вновь создаваемые политико-идеологические штампы и мифы.
Особо стоит отметить, что исследования в данной области имеют не только научно-историческое, но и общественно-политическое значение. Оно заключается в том, что изучение национальных процессов и движений открывает возможности для более глубокого понимания и всестороннего анализа культурной, языковой, национальной и политической ситуации не только в Украинском государстве, но и на постсоветском пространстве, в Восточной Европе и мире в целом. А это, несомненно, поможет поиску более действенных средств, направленных на устранение и нейтрализацию деструктивного действия национального фактора или же его более полное использование, но уже в национальных и государственных интересах России.
Любая политика, в том числе национальная, имеет две основные составляющие. С одной стороны, это курс властных структур, который предполагает достижение определенных целей, стоящих перед обществом и государством. С другой – этот курс всегда обусловлен существующей действительностью и во многом ею корректируется. Она же определяет приоритеты государства в том или ином вопросе. В нашем случае существующая действительность – это состояние общества, его отношение к национальному вопросу, уровень национального сознания широких масс населения, их готовность быть нацией, деятельность общественных кругов и организаций, так или иначе трактующих национальный вопрос и старающихся реализовать свои задачи в этой сфере.
Действительность и политика государства в национальном вопросе связаны между собой теснейшим образом, по сути являясь сторонами одного и того же процесса. Несмотря на это, в исследованиях, посвященных национальному вопросу, по крайней мере в отечественной историографии, приоритет отдавался лишь одной стороне – национальной политике, а причины и контекст того или иного мероприятия власти объяснялся лишь отчасти. Естественно, что вне поля зрения исследователя оставалось само общество, которое в таком случае представало в виде некоего статиста, в то время как оно являлось (и является), особенно после крупных войн и революций, весьма активным творцом исторического процесса, определяющим ту или иную расстановку сил на политической арене. Изучение жизни общества дает возможность получить более точную картину исторической действительности, позволяет лучше разобраться и в политике государства, и в выборе путей развития нашей страны. Все это, безусловно, относится также и к сфере национальных отношений.
Данное исследование посвящено формированию и развитию Украины как национального организма. Отметим, что речь идет не о советской национальной политике, хотя близкие сюжеты в той или иной степени в ней присутствуют. Внимание сосредоточено на другой стороне проблемы: на истории украинского национального движения на Советской Украине в 1920–1930-х гг. Это позволит создать более полную картину истории становления украинского национального самосознания, формирования украинской национальной общности и появления на свет «Украины» как национально-политического феномена.
Что такое украинское национальное движение? Существовало ли оно в указанный период, а если существовало, то в каких формах? Какие цели и задачи оно перед собой ставило и чем они были обусловлены? Какова степень его воздействия на те или иные классы и социальные группы, насколько среди них была популярна украинская идеология, а также распространены украинская национальная идентичность и самосознание? Какие организационные формы принимало движение? Каковы его особенности и специфика, обусловленные советской действительностью? Какова его судьба? Эти и другие вопросы встают перед исследователем при обращении к проблеме.
Конечно, данная работа не претендует на полное освещение проблем формирования украинской нации и истории украинского национального движения. Эта тема настолько обширна и многогранна, что заслуживает дальнейшего изучения. При этом внимание историков может быть сосредоточено и на изучении движения как такового, и на отдельных его сторонах: деятельности политических партий, общественных организаций, церкви, развитии национальной культуры, истории высшей и общеобразовательной школы, органов власти и т. д. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. В данном исследовании был избран первый подход, подразумевающий общий взгляд на движение как на некую целостность. При таком подходе не все частные вопросы могут быть освещены достаточно полно и в равной степени и могут остаться за рамками исследования. Внимание было сосредоточено лишь на отдельных, наиболее крупных и главных его сегментах. Свою роль сыграла новизна тематики и подходов к ней. Дальнейшее изучение данной области позволит восполнить возможные недоработки и упущения, которые неизбежны при изучении любой новой проблемы.
История украинского национального движения в границах УССР доведена до 1939 г., то есть до присоединения Западной Украины. История восточных и западных регионов современной Украины, несколько сот лет находившихся в составе разных государств, сильно отличается по своему характеру, внутренней логике и проявлениям. Политические режимы СССР и межвоенной Польши также весьма не похожи друг на друга. Соответственно, совершенно различными были и судьбы украинского национального движения в УССР и на Западной Украине. Поэтому имеет смысл вынести за скобки деятельность националистов вне территории Советской Украины, а также процессы, протекавшие в среде украинской эмиграции. Естественно, при более глубоком и всестороннем подходе к этой безграничной теме было бы весьма желательным осуществить комплексное исследование, которое включало бы в себя изучение истории национального движения в Галиции, Подкарпатской Руси (Закарпатье) и на Буковине, в украинской эмиграции, и их взаимодействия на идейном и организационном уровне с национальным движением в УССР. Но это – тема последующих работ в данной области.
Выбор 1939 г. как верхнего хронологического рубежа очевиден – это начало Второй мировой войны, коренным образом изменившей историю человечества; это присоединение к УССР Западной Украины. Хотя нижняя граница принципиальной роли не играет, она требует некоторых пояснений. Конечно, ее можно специально не оговаривать, представив в виде переходного периода (таковой характер она и имела). Все же посмотрим, с чего можно вести отсчет «1920-х».
Привычным рубежом мог бы стать 1920 или 1921 г., то есть окончание Гражданской войны и начало перехода к мирному времени. Однако нужно отметить, что единого мнения о сроках окончания Гражданской войны на Украине нет. Отсчет можно вести от завершения боевых действий против польских интервентов или разгрома белой армии генерала П. Н. Врангеля осенью 1920 г.; от момента заключения в марте 1921 г. Рижского мира между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей – с другой. За точку отсчета окончания Гражданской войны по всей стране можно принять X съезд РКП(б) (март 1921 г.), подведший зримую черту под военным временем и политикой, проводимой партией большевиков в этот период. Однако результаты этого курса стали заметны не сразу, да и обстановка на Украине была далека от мирной. Завершение военных действий можно также датировать разгромом отрядов петлюровского атамана Ю. Тютюнника, вторгшихся на территорию УССР в ноябре 1921 г., или ликвидацией повстанческой армии Н. И. Махно. Но при этом нельзя забывать, что вооруженная борьба на Украине не прекращалась: не был полностью уничтожен и на протяжении еще нескольких лет процветал бандитизм. А поскольку не последняя роль в нашем исследовании отводится изучению состояния народных масс, то искусственно разделять повстанчество и бандитизм, скажем, 1921 и 1922–1923 гг. было бы нежелательно, да и весьма проблематично. Таким образом, процессы, имевшие место в начале 1920-х гг., были неотделимы от предшествующих событий времен революции и Гражданской войны. Этим и продиктовано отсутствие четко очерченной нижней границы исследования.
В качестве условной даты может быть выбран 1922 г., когда произошло образование СССР, изменившее политическую обстановку на территории бывшей Российской империи. И хотя шедшие в обществе процессы в связи с этим событием не претерпели коренного изменения, власть и политика, которую та проводила, остались прежними, тем не менее 1922 г. стал определенным знаковым рубежом. Образование на месте осколков старой России союзного государства придало юридическое оформление взаимоотношениям между руководством Украинской республики и московским центром, определило их полномочия и в известной степени сняло возникавшее время от времени между ними напряжение. Вместе с тем тогда же были заложены семена будущих спорных моментов как между республиканским и центральным руководством, так и внутри самой украинской партийно-республиканской верхушки, которые заключались в соответствии или же несоответствии (в зависимости от позиций и взглядов наблюдателя) проводившейся политики тем принципам, на которых было основано новое государственное образование.
Все эти процессы оказали большое влияние на украинское национальное движение и близкие к нему течения в коммунистической партии, которые были, по сути, его идейными разновидностями. Кроме того, образование весьма необычного по своей организации союзного государства стало в то время (помимо реализации планов всемирной революции и организации мировой республики Советов) ответом на деятельность национальных движений, в частности украинского, символизируя определенный компромисс между центростремительными и центробежными тенденциями на одной шестой части суши. Таким образом, 1922 г. может считаться хотя и условным, но все же рубежом, с которого начался новый период в развитии нашей страны. Конечно, начинать отсчет с 1922 г., без анализа предшествующего развития движения, невозможно. Поэтому там, где это необходимо (например, при рассмотрении вопросов, касающихся повстанчества или связанных с уровнем развития национального сознания крестьянства), нижняя хронологическая граница будет сделана прозрачной.
Рассматриваемый период, в свою очередь, можно подразделить на два временных отрезка. Дело в том, что процессы, протекавшие в 1920-х и 1930-х гг., по своему содержанию и своей внутренней логике диаметрально противоположны. 1920-е гг. были временем выхода СССР из затяжных войн и разрухи, временем восстановления хозяйства и создания нового союзного государства, временем укрепления позиций большевиков. В области национальных отношений это десятилетие ознаменовалось «заигрыванием» коммунистов с национальными движениями, поддержкой из тактических соображений их целей и постепенным перехватыванием у них инициативы в руководстве национальным строительством.
1930-е гг. стали прямой противоположностью предыдущему десятилетию. Переход к форсированной социалистической модернизации экономики и социальной структуры общества не мог не затронуть и национальную сферу. Прежний курс на развитие «ранее угнетенных» (как в то время официально провозглашалось) народов за счет русских и за счет интересов единого государства, выражением чего, в частности, являлось терпимое отношение к национальным движениям, был заметно скорректирован и заменен идеологией советского патриотизма. Это не означало прекращения помощи национальным республикам, но их население уже не именовалось «ранее угнетенным», а их национальное развитие уже не осуществлялось только за счет РСФСР. Принятие руководством страны на вооружение модернизационной идеологии советского патриотизма означало переход к развитию СССР как единого социально-политического организма и формированию в нем новой надэтнической национальной общности – советского народа, а также отказ от той политики по отношению к национальным движениям, которая проводилась в прежнее десятилетие. Последние были ликвидированы не только на уровне движений или идейных течений, но и на личностном уровне. Перипетии этих двух разных, но взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов отразились на судьбе украинского национального движения самым непосредственным образом.
К вопросу о национальном движении
Но что же такое национальное движение? Каковы его функции? Какой смысл мы вкладываем в понятия национальное строительство и формирование национальной общности? На этих вопросах необходимо остановиться подробнее, раскрыть их, не вдаваясь, однако, в теоретические тонкости. Они рано или поздно заканчиваются риторическими вопросами: что такое нация, чем она отличается от этноса; является она феноменом этническим, политическим или культурным; а также что такое национализм, национальное самосознание и прочие категории, так или иначе связанные с проблемами осмысления нации. Все эти вопросы выходят за рамки настоящего исследования. Здесь же следует хотя бы вкратце обрисовать методологические подходы к указанным проблемам.
Концепций и теорий нации и национализма, пожалуй, столько же, сколько и авторов этих концепций, и единого мнения о сущности этих феноменов, по сути, нет. Также нет и единой точки зрения, что такое украинская нация и что она собой представляет[9]. Более того, создание универсальной теории национализма представляется невозможным, ибо свести все многообразие человечества к неким единым для всех лекалам весьма затруднительно. Впрочем, нации и национализмы в этом «не виноваты»: не меньшие трудности возникают и при попытке создать некие единые стандарты социально-экономического развития разных обществ. И наконец, надо помнить, что все систематизирующие построения – это в известной мере абстракции, результат работы человеческого разума. Выдающийся русский химик академик А. М. Бутлеров, создавший и обосновавший теорию химического строения, повторял, что, как бы ни была совершенна теория, она только приближение к истине. Если сказанное применимо к естественным и точным наукам, то познание общества – сложной и тонкой системы, материальность которой отличается от материального в привычном понимании этого слова, и тем более его прошлого, оказывается задачей еще более трудной.
Мир нельзя познать. Его можно познавать, изучать, бесконечно приближаться к истине. Как в действительности складывались нации, что послужило толчком к их формированию, какие факторы стали при этом решающими? Что вообще является движущей силой общества, что наполняет его Жизнью? Как национальные ценности, категории нации, стали основополагающими ценностями второй половины XIX–XX в. и даже современности, общественно принятыми, объясняющими и активно творящими мир? Со стопроцентной уверенностью этого сказать не может никто. Остаются анализ фактического материала, построение теоретических схем, бесконечное приближение к истине. Все это, без сомнения, затрудняет подход к исследованию конкретных вопросов, имеющих выход на теоретические аспекты, так или иначе связанные с проблемами нации и национализма. Но это не значит, что надо отказаться от попыток понять и объяснить пути общественного развития. Ведь жизнь как раз и состоит в движении, в вечном приближении.
Существует два основных подхода к феномену нации. Первый, примордиалистский, или этногенетический, основан на положении, согласно которому нация в форме этноса и народа существует во все времена. Она не остается в одинаковом состоянии и проходит различные этапы своего развития. Так как в основе ее лежит этническое общество, обладающее набором специфических черт, то и развитие нации происходит не с нуля, а состоит в последовательной смене стадий развития этноса в народ и нацию[10]. Приверженцы этого подхода, перенося его на украинскую почву, утверждают, что украинцы существовали с древних времен. Уже в Киевской Руси была создана украинская этнокультурная или даже этнополитическая общность. Попытки этой национальной общности перерасти в национально-государственную (Запорожская Сечь, княжество Русское, создание которого предполагалось по Зборовскому договору 1649 г.) были предприняты в XVI–XVII вв. После того как эти попытки окончились неудачей, данная общность продолжала существовать в латентном состоянии, находясь в составе Российской и Австрийской империй. В XIX в. она пережила период национального возрождения и приобрела черты современной украинской нации. Затем национальная общность снова вступила в борьбу за национально-государственный статус. В советское время она существовала уже в полулатентном виде (ведь и украинская нация, и украинская государственность были общепризнаны и зафиксированы), а на рубеже 1980–1990-х гг. снова претерпела возрождение и добилась-таки действительного превращения в национально-государственную общность.
Данный подход (конечно, не такой схематичный и более вариативный) является преобладающим в современной украинской исторической науке и обществоведении[11]. Он имеет как сильные, так и слабые стороны, но, главное, страдает прямолинейностью и ограниченностью, препятствующими пониманию истории во всей ее полноте и многогранности. Оставив в стороне критику этого подхода, заметим, что согласно ему украинская нация возникла именно потому, что должна была возникнуть, а формирование нации предстает в виде процесса, генетически запрограммированного заранее и развивающегося вопреки всем преградам только благодаря самому факту существования этноса[12].
Есть и другой, конструктивистский подход к проблеме. Он заключается в точке зрения на нацию как на продукт современной индустриальной эпохи[13]. Согласно этому подходу нижняя хронологическая граница сложения наций отодвигается к концу XVIII – началу XIX в., то есть к началу эпохи капиталистических отношений, менявших базис общества и его структуру, и ко времени Французской революции, секуляризовавшей человеческое сознание и выдвинувшей идею народного суверенитета и формально-правовую теорию национального государства. Главные отличия национальных общностей от донациональных состоят в общественных связях, изменившихся под воздействием нового способа производства. Так, известный специалист в данной области, австрийский историк А. Каппелер к чертам обществ нового типа относит их массовый характер, связанный с участием широких масс населения в политике. Такие коллективы формируются «по вертикали», что делает их социально мобильными, в отличие от донациональных сословных обществ, организованных «по горизонтали». Каппелер также подчеркивает, что в национальных сообществах национальная идея приобретает значение важнейшей составляющей государственных (и иных) идеологий и общественного сознания, оттесняя или отменяя такие ранее господствовавшие формы, как религиозное, сословное, династическое, территориальное сознание[14].
Такие особенности приобретаются только в условиях индустриального хозяйства, урбанизационного перехода от общества сельского к обществу городскому, развития народного образования, средств сообщения и связи, иных коммуникативных возможностей. С одной стороны, эти факторы являются двигателями общественного переустройства, а с другой – следствиями и признаками этой трансформации, создающей новые способы видения окружающего мира. Порождением эпохи Просвещения и рационалистической революции (как предтечи и непременного условия социально-экономических изменений внутри европейских стран) стал отказ Западной (особенно протестантской) Европы от религиозно-христианского миропонимания и миротолкования. Иными словами, отказ от сознания, что мир является Богосотворенным и развивается по неведомому для человеческого разума, но открытому для понимания через веру Божественному Замыслу и Провидению. Новый способ миротолкования был антропоцентричным: творцом вместо Бога оказывался человек, который и становился центром нерелигиозной картины мира. Отказ от христианского мировоззрения потребовал создания нового социокультурного пространства, утверждения иных ценностей, которые придали бы легитимность общественному развитию и служили ему философией. Одним из таковых стал националистический дискурс.
Несомненно, что на западе Европы социально-экономические и идеологические перемены начались и осуществились раньше, чем на востоке и в Российской империи, где промышленная революция произошла позже. Но проникновение рожденных на Западе теорий и способа мышления категориями национального на просторы Восточной Европы, в том числе в малороссийские губернии России, началось несколько раньше, чем там сложились социально-экономические условия для становления национальных коллективов. Впрочем, реальную возможность влиять на широкие массы населения эти теории получили лишь тогда, когда в обществе началась структурная перестройка. Именно тогда национальные формы мышления стали реальностью, до тех пор оставаясь идейными течениями, к тому же весьма узкими и маргинальными.
Конструктивистский подход подразумевает, что национальная идентичность, национальные черты – плод более высокого и сложного уровня развития общественного сознания. Они не бывают врожденными, изначально данными признаками этнического коллектива, а приобретаются с течением времени и под воздействием определенных объективных и субъективных факторов. По словам британского исследователя Э. Геллнера, «нации являются созданием человеческих убеждений, верности и солидарности», причем «национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует»[15]. Хотя точнее (и сам Геллнер, кстати, именно это имеет в виду) говорить так: еще не существует и именно в виде таковой. Более мягко тот же принцип «нации делает человек» толкуют другие нациологи. Так, американский ученый Б. Андерсон считает нацию воображаемым сообществом, то есть таким, члены которого не знают и не могут знать лично или понаслышке большинство других его членов, одна ко имеют представление о таком сообществе и его образе[16]. Иными словами, нация может быть воображена (ее образ будет сформирован), а затем она развивается – модулируется, видоизменяется, приспосабливается к меняющимся условиям и отвечает на вызовы времени.
По-новому взглянуть на ход формирования национальных коллективов позволяет синергетический подход к истории. В основе его лежит представление о нелинейности, неустойчивости, непредопределенности и альтернативности развития. Этот подход позволяет не обходить молчанием, а, наоборот, учитывать и оценивать влияние на ход того или иного процесса множества различных случайностей, воздействий, кризисных и переломных моментов, открывающих возможность для качественного изменения этого процесса и использования иных, альтернативных путей его развития. Иными словами, синергетический подход предполагает отношение к историческому процессу как к многовариантному и непредопределенному.
На основании конструктивистского и синергетического подходов, а также анализа фактического материала (в конкретном случае украинского) можно прийти к следующему заключению. Становление национальной общности не является линейным и внутренне предопределенным, а потому безальтернативным развитием (наподобие, скажем, превращения личинки в куколку, а куколки в бабочку). Оно предстает в виде нациотворения, строительства нации – непредопределенного процесса создания у данного этнического коллектива специфических черт и национальных признаков, осознаваемых его членами в качестве неких символических ценностей, и выработки на их основе национальной идентичности и самосознания. Поскольку облик будущей национальной общности не предопределен внутренней логикой развития этого коллектива, которому еще только предстоит превратиться в нее, не предопределенным является и сам конечный результат этого процесса. Образно говоря, личинка не обязательно должна стать куколкой, но, даже став ею, может превратиться в какой-нибудь другой вид бабочки[17]. Следовательно, усилия по утверждению того или иного варианта национальной идентичности могут увенчаться как успехом, так и неудачей (естественно, с точки зрения участников национального движения), причем даже в случае «удачного» завершения национального строительства его конечный результат может отличаться от того идеального образа, который имелся изначально.
Таким образом, можно предложить следующую формулировку: нациостроительство – это совокупность культурных, политических, психологических процессов, направленных на выработку специфических национальных черт и признаков, присущих национальной общности – человеческому коллективу, находящемуся на определенной социально-экономической и политической ступени развития, и преобразование данного коллектива в соответствии с выработанным национальным типом.
Нациостроительство не идет само по себе. Его берет на себя национальное движение. Оно является формой, в которой осуществляются процессы нациостроительства, способом существования и жизнедеятельности этой совокупности процессов. Известно, что историю делают люди и без них нет истории. Поэтому национальное движение (как и любые другие движения) – это, прежде всего, какое-то число единомышленников, людей, разделяющих определенные ценности и убеждения, верующих в них и в свое дело. Но при исследовании исторического процесса, при изучении человеческого общества исследователь вынужден прибегать к обобщениям и систематизации. Так на свет появляются семьи, роды, племена, классы, социальные группы, профессиональные коллективы, партии, движения, нации и прочие единицы систематизации, созданные умозрительно, но имеющие под собой вполне определенные материальные основания. При этом «пропадают» люди – непосредственные участники и творцы истории, но зато открываются более широкие возможности для анализа и обобщений. Такой подход применим и к национальным движениям.
Конечно, объектом любого исследования являются люди, в данном случае – адепты движения, но все вместе, на сознательном и подсознательном уровне объединенные общей целью и верой, единым способом видения мира, они представляют собой некую целостность, систему, единство противоположностей, форму социального движения материи, «ответственную» за развитие процессов формирования национальной общности и служащую той средой, где эти процессы развиваются.
Национальное движение – процесс не линейный и не единонаправленный. Сравнить его можно с уличным движением, где все его участники – пешеходы или транспортные средства – действуют самостоятельно, движутся по своим делам, преследуют свои цели и задачи, но при этом все вместе являются составными частями одного общего процесса, подчиняются его законам и действуют в одном направлении, сознательно или неосознанно выполняя главную задачу движения – перевозку грузов и пассажиров. Аналогичная ситуация и с движением национальным. Это упорядоченная сумма разнонаправленных составляющих. При таком подходе, когда национальное движение рассматривается именно как система, как форма воплощения нациотворческих процессов (и, естественно, не забывается, что за ней стоят конкретные люди), открываются широкие возможности для изучения истории Украины.
Сформулируем это более сжато. Итак, национальное движение – это многовекторная деятельность групп людей, вместе представляющих сложную систему, ответственную за осуществление процессов формирования нации и служащую средой, в которой эти процессы нациостроительства развиваются.
Такова основная цель национального движения. Все прочие, более конкретные (в сфере ли культуры, политики, образования и т. д.) – лишь частные ее проявления. Как любая система, национальное движение включает направления, которые выполняют свои задачи, развиваются и действуют независимо друг от друга, а порой и конкурируя друг с другом, как, например, конкурируют друг с другом политические партии. Но при этом, сознательно или неосознанно, они являются частями единого процесса, направленного на формирование и развитие национальной идентичности и становление национальной общности. Скажем, можно выделить светское и церковное (церковные организации) крыло национального движения. Первое включает различные области общественной деятельности, например науку, прежде всего гуманитарные дисциплины, ответственные за создание теоретических и идеологических учений (история, философия и т. д.). К нему относится система образования, а также культура: литература, музыка и в меньшей степени живопись и скульптура (так как последние не обладают такой силой общественного и эмоционального воздействия, какая присуща художественному слову и музыкальному произведению). Направления, в свою очередь, подразделяются на более мелкие сегменты. Например, в области науки – научные общества, институты, кафедры, клубы, вокруг которых группируются адепты национального движения и через которые они ведут свою работу. В сфере культуры такими сегментами являются творческие союзы и группы, литературные объединения и т. п.
Национальное движение может быть структурировано в общества и организации, в нашем случае, например, в церковные структуры или культурно-просветительские общества, а может и не иметь собственных организационных форм и действовать через структуры, которые не являются плодом усилий этого движения (скажем, государственные школы и прочие учебные заведения, научные учреждения). Национальное движение может развиваться и действовать вокруг учреждений культуры – литературных обществ, творческих союзов и иных организаций, а может иметь свои сценические, хоровые, художественные коллективы, образованные ради развития и пропаганды «национальной» культуры. Национальное движение может иметь четкое политическое оформление, не в смысле выдвигаемых требований, а в смысле структурированности в политические организации – партии, а может и не иметь его, оставаясь на уровне идей и настроений определенных кругов общества.
Адепты национального движения могут придерживаться каких угодно политических взглядов, разделять любые системы ценностей, от консервативных до либеральных и социалистических. Общей платформой для них является отношение к национальному фактору (который лежит в иной плоскости, нежели социальный, экономический и политический) как к жизнеопределяющему. Различия в подходе к общественному устройству не мешают этим людям считаться националистами и быть ими. Здесь под националистами понимаются такие люди, которые принимают, а также стараются интерпретировать категории национальных интересов и нации как символические ценности. Для них национальное является первоочередным и главным, определяющим и направляющим их мировоззрение и социальное поведение, хотя, в то же время, их понимание конкретного выражения этого национального может различаться. Надо сказать, что данный подход – новый для российской общественности, относящейся к национализму подсознательно настороженно и воспринимающей его в публицистических и идеологическо-оценочных категориях[18].
За годы своей монополии коммунистическая идеология утвердила в общественном сознании штамп о несовместимости национализма и социализма (вернее, коммунизма), связывая последний лишь с интернационализмом. Не вдаваясь в тот смысл, который вкладывался в эти понятия, заметим, что данный штамп был не более чем отголоском идейно-политической борьбы большевиков за утверждение своего подхода к пониманию национального и социально-политического устройства общества, а также его практического воплощения. История, и в том числе отечественная, свидетельствует, что национализм и социализм/коммунизм нередко выступали вместе, а то и сливались. Особенно ярко это было видно на примере национальных республик, и в том числе Украины, где наблюдался такой феномен, как «национал-коммунизм», имевший тенденцию превратиться в антитезу «интернационального коммунизма», под которым националисты, а часто и «национал-коммунисты» понимали российский великодержавный национализм. Просто люди, разделявшие левые и даже коммунистические взгляды и считавшие себя коммунистами, мыслили национальными категориями и видели в них некие символические ценности. На практике это становилось заметно хотя бы потому, что, называя себя коммунистами, они непременно добавляли прилагательное – украинский, грузинский и т. д. Поэтому левореволюционное движение или коммунистическая партия вполне могли стать и становились полем деятельности для националистически мыслящих людей, а «национал-коммунизм» вполне можно считать одной из составляющих национального движения.
Но все сказанное выше о структуре национального движения относится, прежде всего, к украинскому движению и не является какой-то характеристикой для прочих движений, например славянских народов Европы. Напротив, последние невозможно представить без четкой организации в общества и партии, которые были показателем политической зрелости движения и знаменовали наступление очередного этапа в его жизни[19]. Однако реалии России, а затем СССР, в которых приходилось действовать украинскому движению, а главное, особенности самого движения придавали ему неповторимую специфику. Поэтому отсутствие каких-то составляющих элементов или неполная структурированность для украинского национального движения не является чем-то необычным. Становление каждого национального коллектива – явление неповторимое, имеющее сходство с аналогичными процессами у других народов лишь в основополагающих принципах своего развития. Объединяет все секторы, направления, сегменты национального движения, придает им общий фундамент и вектор развития и, собственно, делает их таковым национальный фактор, который для участников движения является символической ценностью, определяющей и мотивирующей их сознание и поведение.
Общепринятой является подтвержденная фактическим материалом точка зрения, что у истока национальных движений стоят небольшие группы активистов – их идеологи и организаторы. Они могут стать культурной и политической элитой общества, но лишь в том случае, если это общество будет ими создано. Кроме того, за этот довольно продолжительный период может смениться несколько поколений адептов движения. В момент же становления национального движения, с точки зрения того коллектива, в котором оно начало свою деятельность, участники движения являются маргинальной группой. Роль адептов движения состоит в том, что они вырабатывают умозрительные черты будущего национального коллектива, его идеальный образ, который можно условно назвать национальным фантомом. Они конструируют то пространство, которое должно соответствовать его идеальному образу (российский исследователь А. И. Миллер называет это пространство идеальным Отечеством). Этот идеальный, пока еще умозрительный национальный фантом и призван стать той целью, к которой следует стремиться и в соответствии с которой вырабатывать реальные отличительные особенности этого коллектива, формировать его национальную идентичность и утверждать национальное самосознание. Между тем моментом, когда образ национального фантома возникает, и тем моментом, когда соответствующая ему национальная идентичность получает осязаемое оформление и проникает в сознание большинства членов этого сообщества, проходит значительное время, в которое и осуществляется многовариантный и непредопределенный процесс национального строительства. Иными словами, его можно сравнить с реализацией того или иного проекта национального сообщества.
В мире вообще и человеческом обществе в частности нет ничего постоянного, ничего окончательно определенного. Жизнь – это развитие, постоянное изменение, преобразование. Нации не составляют исключения. Это живая материя, отражение бытия и продукт общественного сознания. Нация находится в движении и развивается, она существует, пока в ее членах поддерживается живой огонь сознания ее реальности, сознания своей сопричастности с ней, нераздельности своей судьбы с ее судьбой. И все же говорить, что нация создана и стала реальностью, можно. Она может считаться таковой, когда ее образ, черты станут символическими ценностями для всего или для большей части данного коллектива, когда его члены будут позиционировать себя в окружающем мире исходя из сознания своей принадлежности к ней. Ее реальность не только объективна, но и субъективна и заключается еще и в том, насколько конечный результат соответствует идеальному образу нации и насколько ее строители считают этот результат соответствующим изначальному идеалу.
Следует пояснить, что в данном случае понимается под проектами национального строительства. Это создание группой интеллектуалов умозрительной конструкции национальной общности – национального фантома, и «привязка» его к конкретным условиям – субъективным факторам: этническим, культурным, социальным, экономическим особенностям того населения, у которого предполагается сформировать определенную национальную идентичность[20]. Этим условиям надлежит стать «плотью» для умозрительных национальных фантомов и превратить их в живые национальные организмы.
Указанные факторы часто называют объективными признаками национальной общности. И действительно, и язык, и территория, и социокультурный, психологический тип, и хозяйственные особенности (общность экономической жизни), взятые как признак, являются чертами данного коллектива, делают его отличным от других[21]. Но в то же время ни один из этих «объективных» признаков, ни даже все они вместе сами по себе не играют решающей роли в становлении национальной идентичности. Язык, этническое происхождение, вероисповедание, культура и территория становятся действительно объективными признаками данной общности лишь тогда, когда в сознании отдельного человека, в сознании групп населения и общества в целом превращаются в субъективные символические ценности[22]. Когда, скажем, украинский язык представляется чем-то большим, нежели средством коммуникации; борщ и сало воспринимаются не как еда, а как ценностные атрибуты определенной общности; а гопак рассматривается не как народный танец, а как некая национальная философия, заключенная в символический набор телодвижений и жестов, причем философия боевая, направленная на борьбу с внешним (инонациональным) врагом. То, как культура может стать такой ценностью и превратиться в объективный признак, наглядно демонстрирует судьба поэзии Т. Шевченко и культ самого поэта. Таким образом, «объективные» признаки становятся таковыми в ходе их трансформации в символические ценности, то есть в процессе формирования национальной идентичности.
Поскольку преобразование этнических коллективов было характерно для всех европейских стран, нациотворение той или иной общности реализовывалось в тесном взаимо– и противодействии с другими проектами, которые, в свою очередь, стремились утвердить среди того же населения свои ценности и свою национальную идентичность[23]. В случае с национальным развитием «Украины» альтернативой украинскому выступали Общерусский проект (или проект Большой русской нации) и польский проект. Вернее сказать, именно украинский национальный проект выступал в качестве альтернативы двум другим, как имевшим более глубокие исторические корни.
Оба проекта подразумевали включение в развитие собственной национальной идентичности того восточнославянского населения, которое сторонниками украинского проекта трактовалось как украинское, русского – как малорусское, а польского – как русинское. Борьба велась за население и территории, на которых это население проживало. Наиболее яркий пример – столкновение общерусского и украинского проектов, претендовавших (и продолжающих претендовать) на одно и то же население и территорию, на одни и те же святыни, на одно и то же прошлое и, естественно, взаимно отрицающих друг друга и альтернативную идентичность для «подконтрольного» населения.
О проектах нациотворения речь еще будет идти. Здесь же, для лучшего понимания состояния общества и стоящих перед украинским движением задач, стоит привести еще одну модернистскую версию украинского нациогенеза, предложенную американским исследователем украинского происхождения Р. Шпорлюком. Он исходит из тех позиций, что Украина была «окраиной» России и Польши. Когда под влиянием индустриально-капиталистической модернизации начинается трансформация русского и польского обществ в общества современного типа, в которых национальная идентификация и идеология стали приобретать ведущее значение, украинцы оказались в непростом положении. Дилемма состояла в том, станут ли они из «полуфабриката» и «окраинного общества» частью русской или польской наций (к тому времени для российской Украины актуальность сохранял лишь общерусский вариант) или сами превратятся в особую, такую же современную нацию. И далее Р. Шпорлюк указывает, что в силу определенных традиций (культурных, исторических, государственных) и стремления «украинцев» непосредственно войти в мировое сообщество был выбран второй путь и начато создание «Украины» как особого национально-культурного и политического сообщества. Этот же процесс означал отказ от иной идентичности и удар по русскому и польскому проектам[24].
Подход Р. Шпорлюка к проблеме появления «Украины» как национального организма заслуживает внимания, но после того как будет пересмотрена его основная посылка, а именно: положение о наличии «украинцев». Такая посылка является широко распространенной, причем не только среди сторонников этногенетического подхода. Это считается как бы само собой разумеющимся, поэтому стереотипы мышления ведут и к одинаковым выводам. Но вот существовал ли «украинский народ» как некий вполне оформленный самодостаточный организм, осознающий себя таковым? Факты свидетельствуют об обратном.
Было бы некорректно утверждать, что украинцы оказались перед каким-то выбором. Перед выбором оказались деятели национального движения. Ведь «украинцев» еще предстояло создать, еще предстояло внушить населению Малороссии, Новороссии, Волыни, Подолья, Слобожанщины, Приазовья украинское национальное сознание, распространить украинскую идентичность. Можно сказать, что национальную идентификацию пришлось выбирать именно тем группам образованного малороссийского общества (и в том числе самим активистам национального движения), которые были готовы к восприятию такого рода вопросов. Украинский проект (термин, кстати, был введен в употребление Р. Шпорлюком) не был ответом малороссийского общества на дилемму, которую во второй половине XIX в. поставило перед ним общественно-политическое и социально-экономическое развитие Европы и Российской империи. Он был лишь одним из нескольких возможных вариантов его трансформации, и ему только предстояло утвердиться в качестве такового. В отличие от позднейших историков деятели украинского движения вполне отдавали себе отчет, что «украинцев» как нации нет и их только предстоит создать. Именно так, как целенаправленное распространение малочисленными группами «украинцев» национальной украинской идентичности на широкие этнографические массы и превращение этих масс из «малороссов» и «русинов» в украинскую нацию, излагал суть украинского движения его виднейший деятель и руководитель М. С. Грушевский[25].
Вкратце ознакомимся с тем, что представляли собой эти проекты. Согласно польскому проекту, идеальным отечеством поляков была Польша в границах 1772 г. В этих же границах виделась и польская нация, которая включала бы три «братских» народа: собственно поляков, русинов (в современной терминологии – украинцев) и литвинов (белорусов). При этом не учитывалось, что поляки – народ западнославянский, не имеющий с остальными «братьями» близкородственных культурных связей. Да и их отношения были далеки от «братских» (что отразилось в народной памяти).
Если об украинском проекте еще пойдет речь, то содержание общерусского проекта стоит пояснить. Не вдаваясь глубоко в проблематику нациогенеза русских (хотя она весьма интересна, но при том слабоизучена (!) и к тому же имеет непосредственное отношение к украинскому нациогенезу), укажем лишь на следующие моменты. Вхождение в середине XVII в. части южнорусских земель (Левобережья с Киевом) в состав Российского государства имело огромное значение и для малороссов, и для великороссов. Оказало оно влияние и на дальнейшую судьбу самой России. Народное восстание, возглавленное Богданом Хмельницким, и Переяславская рада, открывшая собой воссоединение обеих частей Руси и интеграцию Малороссии в состав России, стали настоящей точкой бифуркации. Иными словами, точкой ветвления исторического процесса, в которой накопившиеся качественные изменения ситуации переламывают прежний ход развития (в данном случае и западнорусских земель, и России, и Польши, и Турции с Крымом), направляя его в новое эволюционное русло.
Не будет преувеличением сказать, что становление России как империи и последующее превращение в сверхдержаву явилось результатом совместного труда великороссов и малороссов, их совместным детищем. Точно так же, как и культура XVIII–XIX вв. (и XX тоже), которую мы сейчас называем русской, не была «русской» в современном понимании этого слова, а была плодом творчества Великой, Малой и Белой Руси. В русском общественном сознании «русскость» чаще всего рассматривалась как нечто более широкое, чем «великорусскость». Она распространялась на малороссов и белорусов, то есть на то русское (восточнославянское) православное население, которое имело общие этнические и культурные корни и составляло ядро русского идеального Отечества, в границы которого входила территория всей Древней Руси. И велико-, и мало-, и бело– и карпаторуссы (жители Восточных Карпат) считались русскими, неразрывными частями единой большой общности. Естественно, ни о какой дискриминации на личностном уровне мало– и белорусов не было и речи: представителям этих народностей был открыт доступ ко всем карьерным возможностям, вплоть до самых высших постов в государстве. При этом им не приходилось ломать себя, переходя в совершенно иную общность и навсегда порывая с «отеческими гробами», как это приходилось делать малоруссам при интеграции в Польское государство и общество.
Было бы неверно полагать, что триединая русская нация существовала в виде устоявшегося современного организма. Она еще оставалась на уровне проекта и так же, как и украинская, являлась одним из возможных вариантов национальной трансформации российского (и малороссийского) общества. И этот проект тоже нуждался в претворении в жизнь, то есть подразумевал интеграцию нескольких русских «племен» (по терминологии того времени) в национальную общность. Но при этом образ Большой русской нации (формировавшийся, кстати, и в Киеве, и во Львове) присутствовал в сознании подавляющей части российской и малороссийской общественности и значительной части правящих кругов, а среди простого народа – на уровне чувства общности.
Триединый русский народ составлял этнический центр Российского государства и занимал самую высокую ступеньку в этнической иерархии империи. Хотя, наверное, правильнее и логичнее будет вслед за А. Каппелером сравнить эту иерархию не с лестницей, а со сферическими кругами, расходящимися от культурно-этнического ядра, которым был русский народ (великороссы, белоруссы и малороссы, этнические границы между которыми были весьма нечеткими)[26]. При этом местные этнические и культурные отличия не воспринимались как что-то вредное и противоестественное (за исключением разве что церковной практики[27]) и даже считались колоритным вариантом общей русской души. Толерантное и даже заинтересованное отношение российского общества к местной специфике (немыслимое, скажем, во Франции) совсем не подразумевало ликвидацию местной малорусской идентичности. Но такое отношение сохранялось лишь при условии, когда эти отличия не превращались в слагаемые этнического фундамента для конструирования новых национальных общностей, отрицающих общерусскую идентичность и потому вступающих с ней в непримиримую борьбу.
Неприятие украинского национального движения было вызвано опасением разложения русского идеального Отечества, за которым ясно виделось и разложение Отечества вполне реального, политического. Как совершенно справедливо замечает А. И. Миллер, восприятие русским общественным мнением украинского (и белорусского) национального движения в корне отличалось от восприятия других национальных движений в империи. Дело в том, что борьба с ним означала не только борьбу за сохранение государственного единства страны, но и непосредственно касалась еще и вопроса о целостности русского народа или о том, какие территории еще предстоит консолидировать в единую русскую нацию[28]. Разложение этой целостности имело бы гораздо более серьезные последствия, и прежде всего для единства страны, поскольку непременно поставило бы под сомнение и его. Если сравнить отношение к украинству российской общественности и ту государственную политику, которая проводилась в отношении его, с его целями и деятельностью, то нетрудно заметить, что они все же далеко не соответствовали той опасности, которую украинский проект представлял для национального и государственного единства Российской империи.
Не будем останавливаться на ходе противоборства украинского и русского проектов. Отметим только, что в силу ряда причин проект, основанный на великорусском, малорусском и белорусском этническом компонентах триединой русской нации, не был реализован в том объеме, который позволял бы говорить о существовании таковой как нации современного типа[29]. Одновременно с этим украинский проект сумел утвердиться и достичь определенных результатов. В начале XX в. взгляд на проблему, признающий особую украинскую идентичность, становится в России все более распространенным, особенно среди либерально настроенной интеллигенции. Признавая очевидность этого, хочется в то же время остановиться на ряде моментов, которые имеют к нашему исследованию непосредственное отношение и которые до настоящего времени не получили должного внимания.
Несомненно, что к началу XX в., и особенно к 1917 г., украинское движение достигло определенных результатов в деле формирования основополагающих принципов национальной идентичности и даже ее утверждения среди народных масс. Национальное самосознание малорусского населения стало формироваться в его украинском варианте. Но вот здесь и возникает вопрос: насколько же эта идентичность была выработана и оформлена идеологами и активистами украинского движения, насколько глубоко она проникла в массы народа и насколько широко охватывала ту территорию, которая входила в украинское «идеальное Отечество»?
На наш взгляд, к 1917 г. процессы строительства украинской нации были далеки от своего завершения, несмотря на то что основной соперник украинского проекта – проект общерусской нации – сошел «с дистанции». Украинская идентичность и украинское национальное самосознание только начали проникать в массы. Строительство нации в организационно-структурном отношении тоже не было доведено до логического завершения. Не успело национальное движение и сформировать ряд общественных институтов (школу, научные учреждения и организации и т. д.), без которых национальная общность как особый организм не может существовать, не говоря уже о независимом государстве. Собственно, и вузы, и средняя школа, и церковь существовали, но они были институтами Российской империи, проводили ее политику и отражали ее идеологию. Украинофилы имелись и там, но представляли собой небольшие группы людей «по интересам». Использовать эти структуры сторонники украинского движения могли лишь в случае полного или частичного овладения ими, или придания им своей идеологии. Был и другой путь: создание своих, параллельных структур, но таковые, как только что было сказано, отсутствовали.
Главным было то, что социальная структура российского общества и его неразрывной части – общества малороссийского – была ближе к обществам традиционным, донациональным, чем к обществам современного типа. Его превращение из аграрно-индустриального в индустриально-аграрное, а затем и в индустриальное произошло уже после революции. В советское время (в основном, конечно, в межвоенный период) изменилась социальная структура общества. Другими стали коммуникативные возможности, средства массовой информации и связи, транспорт, система образования, уровень грамотности населения, то есть все то, что не успела обеспечить русскому национальному проекту для его утверждения дореволюционная Россия. Именно при советской власти сложились социально-экономические условия, при которых формирование национальной общности оказалось возможным. Необходимо отметить одно важное следствие этих процессов: в то время вместе с украинской советской государственностью возникает украинская партийная и государственная бюрократия, которая могла использовать и использовала национальный вопрос и украинскую идентичность для удовлетворения собственных политических амбиций.
По нашему мнению, решающим периодом в формировании у малорусского населения украинского национального самосознания и в становлении украинской нации вообще стала первая половина XX в., а особенно 1920-е и, как ни покажется странным, зная содержание этого десятилетия, 1930-е гг. Последние, быть может, имели для становления национального сознания и утверждения идентичности даже большее значение. Важнейшим рубежом, зафиксировавшим самосознание украинского населения и сложение украинской нации, стали Вторая мировая и Великая Отечественная войны.
Нельзя также забывать, что даже после того, как проект большой русской нации отошел в прошлое, украинский проект национального строительства не остался «в одиночестве». Есть все основания считать, что конкуренция этих проектов продолжилась и после, но уже в иных условиях, на основе иных субъективных факторов и на качественно новом уровне. Общим оставался лишь модернизационный вызов, вновь вставший перед страной к концу первого десятилетия советской власти. Таким образом, почва для нациостроительства продолжала оставаться и в условиях Советской Украины.
Здесь надо остановиться на одном немаловажном вопросе: а имелось ли украинское национальное движение в УССР после окончания Гражданской войны? Как-то негласно утвердилось представление, что таковое существовало лишь до революции, ибо тогда оно было структурировано в политические партии, парламентские группы, общественные организации с национальной окрашенностью, имело собственную прессу и выдвигало национальные требования в политической и культурной сферах. По тем же причинам не отрицается его наличие и в межвоенной Западной Украине. А к востоку от советско-польской границы движения якобы как такового и не было: существовала украинская государственность со всеми присущими ей атрибутами, проводилась политика украинизации-коренизации государственного и партийного аппарата, шел процесс создания украинской интеллигенции и рабочего класса, широкую поддержку получило развитие украинской культуры, существовал однопартийный режим и т. д.
На наш взгляд, отрицать наличие украинского движения в указанный период на Советской Украине было бы безосновательным. Отчасти об этом уже говорилось. Во-первых, нации без государственности быть не может, так как нация – феномен скорее социально-политический, нежели чисто этнический (даже в случае с более-менее моноэтническим составом населения), а вот государства без нации – явление не такое уж редкое. Как справедливо указывает М. Грох, достижение независимости и создание собственного государства не означает завершения формирования нации[30]. Она должна еще стать ею, то есть обладать полнотой классовой структуры, соответствующей обществу индустриального, а не традиционного типа, и достичь такого уровня, когда сознание сопричастности с судьбой данного национального коллектива войдет в сознание широких слоев населения и утвердится там в качестве символических ценностей. Отметим, утверждение этих национальных ценностей происходит тем быстрее, чем выше в обществе социальная мобильность, грамотность и т. д., которые возрастают по мере его трансформации из традиционного общества в индустриальное.
Во-вторых, советскую коммунистическую государственность многие представители украинского движения считали фальшивой, искусственной, не отвечающей интересам украинского народа (в том виде, как они их понимали), что вынуждало их бороться за ту форму государственности, которую они считали более подходящей для нормального развития украинцев. При этом борьба велась как силовыми, так и иными методами. В-третьих, многие цели, которые были актуальными для движения накануне и во время революции (особенно в культурно-национальной сфере), продолжали оставаться на повестке дня и после установления советской власти и перехода к восстановительному периоду. В-четвертых, политика большевиков в национальном вопросе тоже не всегда встречала поддержку со стороны деятелей движения, имевших свое видение перспектив национального развития Украины, поскольку созданный ранее движением идеальный образ украинской нации существенно корректировался всей советской действительностью, а это вызывало неприятие большинства украинских националистов.
Наконец, в УССР существовали некоторые общественные организации, партии и объединения, которые действовали в годы революции и Гражданской войны и даже задолго до них и которые в новых условиях продолжили свою прежнюю работу. И, кроме того, на Советской Украине оставались многие активисты и участники национального движения, не собиравшиеся менять свое мировоззрение и отношение к национальным проблемам. Их многогранной деятельности во многом способствовала и политика большевиков в национальном вопросе. Все вышеизложенное позволяет предположить, что в указанный период в УССР сохранялись предпосылки, условия и возможности для деятельности украинского национального движения.
Итак, к революции 1917 г. и даже ко времени окончания Гражданской войны украинское национальное движение не смогло полностью реализовать тот национально-политический проект, который оно воплощало в жизнь. Поэтому строительство украинской нации продолжилось на Советской Украине в условиях власти большевиков. Соответственно, никуда не исчезло и украинское национальное движение – выразитель и носитель этого процесса. Подробнее о развитии украинского движения, о его формах и методах деятельности, его сильных и слабых сторонах и пойдет речь.
С источниковой базой исследования и историографией вопроса заинтересованный читатель может ознакомиться, открыв Приложение, а к рассмотрению поставленных вопросов можно приступить прямо сейчас.
Глава 1
Зарождение и развитие украинского национального движения. XIX – начало XX в.
Украинское движение до 1914 г.
Истоки
Прежде чем приступить к рассмотрению деятельности украинского национального движения в советский период, необходимо сделать хотя бы краткий обзор его предыдущей истории. В первой половине XIX столетия под влиянием идей романтизма, популярных в Европе и оттуда попавших в Россию, среди образованных кругов малорусского общества все большее распространение получало увлечение прошлым края, этнографией и культурой простого народа. Энтузиасты занялись собиранием народного творчества, записывали фольклор: песни, сказки, обряды и т. д. Дальше увлечения культурой общественное внимание не заходило. Это была вполне понятная любовь к своему краю, лишенная какой бы то ни было политической окраски.
Кстати, интерес к этнографии и истории региона проявляли не только представители малорусских образованных слоев, но также великороссы и поляки, причем и те и другие в малорусской культурной специфике усматривали одно из проявлений культуры соответственно русского и польского народов. У поляков к этому еще примешивалась ностальгическая память о временах Речи Посполитой, к неотъемлемой части которой они относили и «восточные кресы» (то есть бывшие древнерусские территории, попавшие затем под власть Польши). Именно в польской среде начали возникать политические мотивы, связанные с «Украиной».
Малороссия стала полем идейной борьбы поляков против России и русскости. Они считали южнорусские земли своими и видели их в составе будущей Польши, за восстановление которой боролись. Со временем все большее число поляков начало понимать нереальность восстановления Польши в границах 1772 г. (до разделов) и ассимиляции малороссов в польскую нацию. Тогда на вооружение была взята идея политического сепаратизма Южной Руси, добиваться которого следовало, прививая малороссийскому населению особую «украинскую» идентичность. Край этот потерян для Польши, но надо сделать так, чтобы он был потерян и для России[31], – таковой стала генеральная линия польских националистов в «малорусском вопросе». Питательной почвой для этого могли послужить воспоминания о запорожской автономии, гетманщине, антимосковских фрондах казачьей верхушки. Однако после инкорпорации этой последней в российское правящее сословие, получения ею вожделенного дворянского статуса и помещичьих привилегий казачьи мятежи, фронда и вызванные ими сепаратистские тенденции сошли на нет. Малороссийское дворянство стало опорой порядка, а простой народ доказал верность своему выбору в пользу Москвы еще во время Б. Хмельницкого и бесчисленных казачьих смут XVII – начала XVIII в. Вдохнуть силы в идею сепаратизма, посеять рознь между Северной и Южной Русью предполагалось путем постепенной, но настойчивой пропаганды их различия и национальной обособленности, путем идейного воспитания малорусской молодежи. А польское культурное влияние в крае было весьма сильным.
Культивированию сепаратизма должна была способствовать даже терминология. Поляки стали употреблять термины Украина для обозначения всех южнорусских земель (а не части территории Среднего Поднепровья, за которым это название закрепилось исторически) и украинцы для обозначения православных малороссов, вкладывая в эти слова политический смысл. «Украину» стали изображать землей, духовно близкой Польше. При этом акцент делался на ее противопоставлении России, что отразилось и в терминологии (польские националисты еще называли ее «Русью», в противовес «Московщине», то есть России, которая, по их убеждению, Русью не являлась). Тогда же некоторые польские националисты стали выдвигать идею об этнической близости поляков и русинов (по современной терминологии – украинцев), опять же подчеркивая сильные культурные и этнические различия между последними и великороссами. Из авторов подобных концепций можно упомянуть, например, Франциска Духинского. В частности, он считал Русь, то есть галицких русинов и малороссов, ветвью польского народа, а их язык – диалектом польского языка. «Москали»[32] же, по его утверждению, присвоили себе это имя вместе с территорией, на которой проживали малороссы. Сами «москали» – народ не арийского, а туранского происхождения, народ азиатский (финско-монгольский), лишь слегка ославянившийся. Соответственно, рассуждал Духинский, их культура и нравственность были жалкими и ничтожными и ни в какое сравнение не могли идти с европейскими (куда, естественно, входила культура поляков и «руси»)[33].
Идейный, а позднее и организационный вклад поляков в украинское движение позволил его противникам усматривать в нем «польскую интригу», своеобразный тихий реванш за потерю государственности и неудачу антироссийских восстаний 1830–1831 и 1863 гг.
Зарождение украинского движения, то есть такого, которое приступило к конструированию национального фантома и созданию идеального Отечества и начало воплощать их в жизнь, следует отнести к самому концу первой половины XIX в., к созданному в 1845 г. Кирилло-Мефодиевскому обществу. В этом обществе состояли историк Н. И. Костомаров, писатель П. А. Кулиш, поэт Т. Г. Шевченко и еще несколько представителей общественности Малороссии. Ими была выработана программа идеального устройства России, которое виделось в виде федерации славянских народов, построенной на началах политической свободы и социального равенства[34]. Члены общества впервые заговорили об «Украине» как об особом политическом организме: в составе федерации она должна была стать отдельной политической единицей. Николаем Ивановичем Костомаровым, впоследствии видным историком и украинофилом, была написана «Книга бытия украинского народа», ставшая не только своеобразным манифестом Кирилло-Мефодиевского общества, но и первой серьезной и сознательной программой украинского движения[35]. В ней заведомо давалась «идеальная», далекая от действительности история Украины. Она представала в виде самостоятельного субъекта, ведущего самостоятельную политику, но насильно разделенного Польшей (которая, впрочем, была названа автором «сестрой» Украины) и Москвой[36].
Развитие политической мысли в малорусских землях Российской империи имело место и в XVII, и в XVIII, и в начале XIX в. Можно упомянуть ряд публицистических произведений. Так, «Разговор Великороссии с Малороссиею» К. Дивовича (1762 г.) написан как спор противников отмены Гетманщины со сторонниками усиления центростремительных процессов. Нельзя не упомянуть и «Историю Русов», проникнутую местническим духом и на долгие годы ставшую основой для исторических сочинений украинофильского содержания. Мотивы некоторого противопоставления Малороссии и Великороссии как проявление местничества встречались в литературе и позже[37]. Но содержащие их литературные и публицистические произведения были все же отголоском старой эпохи. Их авторы рассуждали в привычной им системе феодального вассалитета и хотя и вспоминали о прежней гетманской автономии, но не подвергали сомнению целесообразность нахождения Малороссии в Российском государстве. Утверждать, что в литературе того периода имелось осознание себя в историческом развитии как нации, было бы явной натяжкой.
В этих произведениях даже сильнее чувствуется желание высших слоев малороссийского общества лучше, то есть с большими для себя правами и выгодами, «вписаться» в существующую самодержавную российскую государственность, нежели стремление предложить ей свою альтернативу. Выше сожаления о потере части (опять же, собственных, а не «украинских») полномочий авторы этих произведений не поднимались. И самое главное, новый положительный идеал, расположенный в будущем, а не в прошлом, они не формулировали. О национальном фантоме под названием «Украина» речи еще не было. Впервые в этом качестве такой идеал появляется в программе Кирилло-Мефодиевского общества, деятельность которого и становится отправной точкой в истории движения. Но в 1847 г. общество было разгромлено властями, и до второй половины 1850-х гг. украинское движение ничем себя не проявляло.
Император Николай I и его ближайшее окружение сознательно засекретили истинные цели Кирилло-Мефодиевского общества, хотя верно оценивали их как попытку формирования программы украинского национального движения. Вместо этого (как бы сказали некоторые историки, если бы вели речь о советском периоде) была «сфабрикована» версия, гласившая, что его члены стремились объединить славянские народы под скипетром российского самодержца. Сделано это было для того, чтобы не допустить проникновения подобных антиправительственных настроений, к тому же спаянных с регионально-национальными (украинскими) устремлениями, в массы малорусского, прежде всего образованного, населения[38].
Огромный вклад в становление движения, в конструирование идеального образа «Украины» и придание ему романтического ореола внесло творчество одного из членов Кирилло-Мефодиевского общества, Тараса Григорьевича Шевченко. Несмотря на неоднозначность личности Шевченко и его творчества, нельзя не отметить, что во многом благодаря его поэзии «украинская» тематика не только нашла свое выражение, но и со временем стала достоянием широкой общественности. Не будет преувеличением сказать, что Шевченко стал духовным отцом движения, во многом определившим его дальнейшее развитие и мировоззрение. Шевченко не был идеологом в чистом смысле этого слова. Он формулировал идеи не в четком политическом виде, а в образах и литературных формах. Он дал тот эмоциональный толчок, тот иррациональный импульс развития, в котором нуждается и с которого начинается всякое национальное движение. Он определил его ценностные ориентации и пути воплощения национальных идеалов.
Поэзия Шевченко уже не покоилась на позициях чистого романтизма, хотя и была насквозь проникнута духом былой казацкой вольницы, которую Шевченко так любил и воспевал. Впрочем, трактовал прошлое он весьма вольно, чаще придумывая его самостоятельно или слепо доверяя лукавым памфлетам времен казачьих фронд и польским «учителям», так как, по словам знавших его людей, историю «знал очень поверхностно, общих выводов из нее делать не мог; многие ясные и общеизвестные факты или отрицал, или не желал принимать во внимание», да и вообще чтение не жаловал[39]. Но получилось так, что заложенные Шевченко эмоциональные оценки истории – вхождения Украины в состав России, деятельности Богдана Хмельницкого, Переяславской рады, отношения к российской власти и государственности вообще и т. д. – оказали сильнейшее влияние на мышление и определение своего места в мире последующих поколений сторонников украинского движения[40].
Высказался Кобзарь и о своем видении путей «возрождения» Украины. Выход, считал он, настанет лишь тогда, когда будет отброшено наследие Хмельницкого. Это наследие было им образно названо «церковью-домовиной», той «церковью Богдановой», где гетман «молился» о равенстве и братстве «козака» и «москаля». Лишь когда она будет разрушена, полагал Шевченко, Украина освободится из неволи:
- Церков – домовина
- Розвалиться… і з-під неї
- Встане Україна.
- І розвіє тьму неволі,
- Світ правди засвітить,
- І помоляться на волі
- Невольничі діти!..[41]
Именно поэтическая форма выражения украинской идеи облегчала ее вживление не только в образованные слои общества, но и в народные массы. Творчество Кобзаря было насквозь проникнуто национальными мотивами, порой граничащими с ксенофобией. Эмоциональные, яркие, а зачастую дико-кровожадные сюжеты, центральное место в которых занимали темы о разгульной запорожской вольнице, гайдамаках, «козаченьках» и «вороженьках», «крови врагов постылых», замученной «Матери-Украине», «москалях», разрывающих ее «могилы», откладывались в подсознание и формировали некие идеальные образы и штампы с привязкой их к политическому контексту современности и этническому окружению.
Впрочем, появление поэтических творений Кобзаря еще не означало их немедленного использования и усвоения народом. Известный украинофил М. П. Драгоманов вспоминал, что опыты чтения крестьянам стихов Т. Шевченко оканчивались, как правило, неудачно: мужики оставались равнодушными[42]. Но для дальнейшей судьбы украинского движения важен был сам факт существования поэзии Шевченко, которая со временем стала одним из мощнейших источников его подпитки. В его стихах находили или учились находить кладезь мудрости, духовной силы и ответы на возникающие вопросы. По мере развития движения они становились чем-то вроде гимна, клятвы членов этого национального «ордена». Культ Шевченко начал складываться уже после его смерти. Сначала он создавался националистами, а после революции – большевиками, вступившими с националистами в борьбу за «своего» Шевченко, но уже не национального, а революционно-демократического поэта. Это, кстати, свидетельствует о том, что его творчество успело стать оружием в руках украинского движения. Шевченко был превращен в своеобразный символ легитимизации для сторонников той или иной идеи, боровшихся на «украинском» политическом поле[43]. Но все это придет потом.
Активизация украинского национального движения произошла во второй половине 1850-х гг. и была обусловлена общей либерализацией внутриполитической жизни России. Бывшим членам Кирилло-Мефодиевского общества было разрешено вести общественную работу, в которой они и преуспели. В центре внимания украинофилов оказались вопросы создания украинского литературного языка. В настоящее время существование украинского литературного языка воспринимается как нечто очевидное, как данность, как объективная реальность. Более того, на Украине активно культивируется представление о его древности. Любые попытки создать непредвзятую, политически не ангажированную историю украинского языка наталкиваются на плотную стену околонаучной мифологии и уже знакомой идеологии. А между тем все, что в настоящий момент считается реальностью, не является чем-то заданным и определенным изначально. Она производна, творима и становится объективной лишь в результате практической деятельности предыдущих поколений. Точно так же наши потомки будут действовать исходя из той реальности, которую как результат нашей деятельности оставим им мы.
В середине XIX в. существование украинского языка вовсе не было реальностью, и это прекрасно понимали как противники его создания, так и сторонники. На народной малорусской речи возник ряд литературных произведений «изящной словестности», но язык, на котором они были написаны, был далек от того, чтобы называться (и являться) особым литературным языком. Российские образованные круги и власти страны считали язык малорусского крестьянства местным наречием большого русского языка и не препятствовали изданию на нем литературных работ и книг для народа, но только при условии, что они будут написаны русскими буквами, без примеси латинской графики[44]. Деятелей украинского движения это не устраивало. Они стремились к созданию отдельного языка, с помощью которого было бы легко очертить четкие границы формируемой общности. А существование подобного возможно при наличии особых норм и правил фонетики, грамматики, синтаксиса, лексики и орфографии. Поэтому энергия деятелей движения была направлена на закрепление существующих отличий народных малорусских говоров от русского литературного языка и на их искусственное создание.
Среди них особо выделялся Пантелеймон Александрович Кулиш, наиболее последовательный националист из всех украинофилов его поколения. Так, в письме к С. Т. Аксакову (1858 г.) он открыто заявлял, что для него и его единомышленников-украинофилов (горсточки, по его собственному признанию) Россия и русская культура – чужие. По его словам, именно эта «горсточка», невзирая на политику правительства и, главное, отношение к ним малороссийской общественности («земляков-недоумков», как в бессильной злобе называл их Кулиш), хранит «завет свободы нашего самостоятельного развития» и «веру в свою будущность», которая, по их мнению, не могла быть одинаковой с будущностью остальной Руси[45]. Под старость, увидев, куда идет движение, у истоков которого стоял он сам, и поняв, чего желают его адепты, Кулиш станет открещиваться от своих прежних сепаратистских идеалов и начнет ратовать за единство Великой и Малой Руси, велико– и малорусской ветвей русского народа. Но сделанного уже воротить будет нельзя[46].
Именно П. Кулиш всерьез занялся созданием особого украинского языка. О том, что таковой украинцам необходимо не только иметь, но еще и создать, он говорил прямо. Им была написана украинская «Грамматика», начато создание алфавита (прозванного «кулишовкой»), лежащего в основе современного украинского алфавита, сочинялась научная (например, юридическая) терминология. Для придания украинскому языку видимых отличий от русского он удалил букву «ы». Ее звук стал обозначаться буквой «и». Но дело было даже не в личном вкладе Кулиша в создание особого украинского алфавита. Им была заложена методика, по которой стали действовать его последователи – создатели и конструкторы украинского языка в XIX–XX вв. Их трудами вслед за «ы» из украинской азбуки были изъяты буквы «ё» (ее звук стали передавать через сочетание согласной с мягким знаком), «ъ» (заменен апострофом). Были введены некоторые новые буквы, например «ї» или «є», а также заменен ряд русских букв на другие. Так, буква «э» была заменена на «е». Но главное, в основу нового языка был положен не этимологический принцип, на котором основан русский язык (когда написание слов не всегда совпадает с их произношением), а фонетический (при котором все как слышится, так и пишется).
Этимологическое письмо для малорусской речи, на которое, кстати, российские власти смотрели вполне благожелательно, не устраивало строителей украинской идентичности: различия между местными наречиями и литературным русским языком оказывались несущественными (отличия региональных великорусских говоров от принятой литературной нормы были не меньшими). И это бросалось в глаза. Создание языка на фонетическом принципе открывало широкие возможности: можно было фиксировать любые, даже самые незначительные отличия малорусских говоров от великорусских и закреплять их при помощи нового алфавита[47].
Вопрос о языках во второй половине XIX в. оставался открытым, и вариантов его решения было множество. Наравне с теми, кто выступал за эмансипацию украинского языка, были сторонники создания на основе местных «мов» особых «волынского», «литвинского», «подольского» и ряда других языков. А это подразумевало бы оформление «волынской», «литвинской», «подольской», а также «галицкой» общностей. Выбор путей развития нациотворческих процессов был широк, причем они могли развиваться не только на малорусской и белорусской почве. Известно, что Л. Н. Толстой хотел написать азбуку на «тульском» наречии для «удобства» овладения грамотой детьми Тульской губернии (именно такими же образовательными причинами мотивировали свою борьбу за украиноязычную школу и сторонники украинского движения). Повторим, что различия в говорах жителей разных великорусских губерний (скажем, Поморья, Юга, Центра) были весьма заметными. Вполне возможно, что при желании определенных представителей образованных кругов, соответствующих действиях и конечно же благоприятной внутренней и внешней конъюнктуре в настоящее время мы вполне могли бы иметь как данность «волынян», «подольцев», «туляков» с «поморами» или даже «Волынию», «Подолию», а то и вовсе «Туляндию» как государственные образования.
Официальная точка зрения на вопрос об украинском языке не являлась препятствием для выхода в свет и «Грамматики», и различных букварей, переводов произведений зарубежных и древних авторов и прочей литературы, в том числе учебной, на местном наречии. Помимо работы на филологической ниве, в начале 1860-х гг. участники национального движения приступают к объединению «украинских» сил в кружках («громады»). Тогда же, в 1861 г., начинает издаваться журнал «Основа». Журнал был посвящен проблемам истории, культуры, языка Украины, то есть вопросам формирования украинской национальной идентичности[48], которая со временем должна была превратить национальный фантом «Украина» в особое национально-политическое целое. Так, Н. Костомаров в 1860 г. писал, что в будущем славянском союзе «наша Южная Русь должна составить отдельное гражданское целое на всем просторе, где народ говорит на южнорусском языке». По его словам, единство народов и частей Российского государства должно сохраняться, но не на основе «губительной умертвляющей централизации, а на четком осознании равноправности и своих собственных выгод»[49]. Несмотря на то что первый опыт издания общественно-политического органа национального движения оказался неудачным (попросту не нашлось достаточного числа подписчиков), он положил начало публичной работе украинофилов, в частности обсуждению вопроса об украинском языке как решающем факторе в национальной идентификации «украинцев».
К этому же времени относятся первые попытки перевода на новый язык Священного Писания. Опять-таки, дело заключалось не в желании скорейшего перевода богослужения на украинский ради удовлетворения религиозных потребностей народа. Будучи частью российской интеллигенции, украинофилы религиозными и церковными вопросами интересовались мало, оценивая действительность с точки зрения перспектив украинского национального строительства. Конечно, в то время в стремлении перевести Писание на украинский язык усматривать желание скорейшего превращения Русской православной церкви в «украинскую» нет оснований. Дело в другом. Перевод Священного Писания, как и прочих религиозных текстов, на какой-либо язык, особенно находящийся на стадии формирования, наглядно показывал степень развития и богатства языка данной нации и свидетельствовал о наличии одного из главных признаков национального коллектива. Впервые украинский перевод Евангелия был выполнен в 1860 г. инспектором Каменецкой гимназии Ф. С. Морачевским. Позже появились переводы отдельных частей Писания, выполненные П. Кулишом, И. С. Нечуем-Левицким, галицийцем доктором Пулюем[50].
После долгих обсуждений в Святейшем синоде и Императорской Академии наук целесообразности перевода Евангелия на украинский язык на издание был наложен запрет. Против перевода выступили многие малороссы – противники создания украинской идентичности. В этом шаге они усматривали путь к подрыву государственных устоев России и расколу внутреннего культурного единства страны. По их мнению, «существование отдельной малороссийской литературы, разрешение на которую вытекает из разрешения Святого Писания на малороссийском языке» (имеется в виду украинский. – А. М.), привело бы «к ослаблению связи Малороссии с Россией»[51].
Вопрос об украиноязычном Писании вновь всплыл лишь в начале XX в. В 1903 г. в Европе Британским библейским обществом издается «Святе Письмо Старого й Нового Завіту». Это событие, а также революция 1905 г., активизировавшая движение, заставили Синод и Академию наук вернуться к отложенному вопросу. После совместной работы комиссии, созданной Академией наук (куда вошли филологи А. А. Шахматов, П. И. Житецкий и др.), и членов Синода было принято решение издать Евангелие на украинском языке в переводе Ф. Морачевского. В 1906 г. издание увидело свет. По выражению работавших с переводом еще в XIX в. И. И. Срезневского, А. В. Никитченко, А. И. Востокова (Остенека), «малороссийское наречие оказалось способно на степень литературного развития, к выражению тех божественных и величайших истин, какие содержит в себе Евангелие»[52]. Хотя перевод был еще «сырой» и основная переводческая деятельность велась уже после революции, это означало, что украинский язык все больше превращался в реальность. Но это стало возможным не само по себе, а благодаря работе нескольких поколений украинофилов, закладывавших основы литературного языка, работавших над его грамматикой, лексикой.
Уделяли украинофилы внимание и народному образованию на украинском языке, добиваясь введения в школах малороссийских губерний преподавания на местном наречии, на свои средства открывая частные и воскресные школы, издавая буквари и прочие учебные пособия[53]. Шло становление украинской литературы, появляется целый ряд писателей (М. Вовчок, П. Мирный, И. Нечуй-Левицкий, О. Пчёлка, А. Барвинок и др.), не только украиноязычных, но и пишущих об «Украине» и для «Украины». На протяжении всей второй половины XIX в. культурно-национальный вопрос занимал в украинской литературе одно из центральных мест. При этом в поле зрения украинских писателей оказывались как чисто культурно-просветительские, так и социальные вопросы (например, о жизни крестьян), которые, впрочем, также ставились ими в контексте пробуждения любви к украинскому слову, обычаям, прошлому Украины[54]. Но ряды украинских литераторов пополняло и множество людей, не имевших писательских способностей. В работе на литературном поприще, в сочинении поддельных и тенденциозных, выдаваемых за подлинные «дум» о временах казаччины они видели сугубо конкретную цель: возможность проявить свои патриотические чувства к «Украине» и внести свой вклад в дело ее «возрождения» и, что не менее характерно, «освобождения» от Москвы. И таковых среди «пишущих патриотов» было большинство.
Однако развернувшаяся деятельность украинофилов была на некоторое время приостановлена. Отчасти это произошло из-за внутренней слабости движения (об этом говорилось выше), а отчасти этому способствовал изданный 18 июля 1863 г. циркуляр министра внутренних дел П. А. Валуева. В циркуляре подчеркивалось, что создание малороссийской литературы на малороссийском языке начинает выходить за рамки собственно литературных вопросов и приобретать политическое звучание. Оно заключалось в том, что «приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную» и «под предлогом распространения грамотности» начали издавать книги для народа – буквари, грамматики и другую литературу. Эти лица обвинялись в идейных и организационных связях с поляками и в сепаратистских устремлениях, «враждебных для России и губительных для Малороссии». Циркуляр отрицал наличие «особенного малороссийского языка», относя его к простонародному наречию литературного русского языка, «испорченного влиянием на него Польши». Им также запрещалось издание книг духовного содержания, учебников и книг для народа на украинском, за исключением сочинений «изящной литературы»[55].
Видную роль в появлении этого циркуляра сыграло само малороссийское общество, а именно весьма многочисленные сторонники общерусского единства и противники особой украинской идентичности. Именно на их негативное отношение к попыткам украинофилов изобретать «так называемый украинский язык» и вести на нем пропаганду и ссылался П. Валуев: эти люди «весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может»[56]. Последние слова украинскими националистами обычно вырываются из контекста, и получается, что министр не констатировал наличие в малороссийском обществе противоположных подходов к проблеме, а выступал от своего имени, олицетворяя антиукраинскую политику империи.
Появление на свет Валуевского циркуляра, который украинские националисты считали и считают гонениями на украинскую культуру, было вызвано реакцией на Польское восстание 1863 г., а кроме того, опасением украинского сепаратизма и его возможного использования поляками в своих целях. Польские корни украинофильства, особенно его политических проявлений, о чем мы уже упоминали, были ясно различимы. Еще «Книга бытия украинского народа» провозглашала «сестринские» отношения Украины и Польши («как будто ничего не было между ними плохого») и даже заверяла, что Украина «разбудит Польшу»[57]. Правда, истинными будителями были как раз поляки, стремившиеся сделать из малороссов союзников в борьбе за воссоздание независимой Польши или, по крайней мере, противников России и потому идейно и организационно взращивавшие политическое украинство.
В том, насколько украинское движение было ориентировано на «польского учителя», можно убедиться из опубликованного в 1863 г. стихотворения «Ще не вмерла Украина» видного этнографа и украинофила П. П. Чубинского. Бросается в глаза прямое подражание польскому гимну «Еще Польска не сгинела». В стихотворении содержится горячий призыв к потомкам «козацького роду» восстать, «волю добывать» и «запанувать в своей сторонке». Призыв к восстанию Чубинский объяснял просто:
- Наші браття Славяне вже за зброю взялись;
- Не діжде ніхто, щобъ ми по-заду зістались.
- Поєднаймось разомъ всі братчики – Славяне:
- Нехай гинуть вороги, най воля настане!
Кто враг украинцев-казаков и их «братьев» поляков – ясно: это Россия и москали. Украину гнетет наследие Хмельницкого:
- Ой, Богдане, Богдане, славний нашъ гетьмане!
- Нащо віддав Україну москалям поганимъ?!
- Щобъ вернути її честь ляжем головами,
- Назовемся України вірними синами![58]
Характерно, что этот стихотворный призыв к восстанию появился именно в 1863 г. Но особенно символично то, что стихотворение стало настоящим гимном украинского движения, вдохновляя последующие поколения его адептов (и в том числе в XX в.) на борьбу за воплощение в жизнь национальных идеалов.
Рассчитывали польские мятежники и поднять крестьянское восстание. Но эти планы провалились: малорусское крестьянство не только не поддержало поляков, но и помогало русской армии подавлять восстание. Тем не менее угроза проникновения на село антиправительственной пропаганды через деятельность активистов украинского движения была ненадуманной. Другой причиной запрещения издания книг для народа, помимо его национальной составляющей, стала боязнь распространения среди крестьянства социалистических народнических идей[59].
Если посмотреть на проблему несколько шире, то можно заметить, что Валуевский циркуляр, последующие правительственные меры в отношении украинского движения, как и «антиукраинская» настроенность русских властей и их политика «русификации» Украины, имели своей целью сохранение и укрепление целостности русского общества и формирующейся в его недрах русской нации, частью которой считались малороссы[60]. Надо отметить и то, что «антиукраинскими» этот и некоторые последующие шаги были, с точки зрения адептов национального движения, узкой и маргинальной в то время политической группы, и того проекта, который она воплощала в жизнь, а вовсе не с точки зрения современного понимания термина «антиукраинский» в значении «антинародный».
В этот же период происходит осмысление российским обществом украинского движения как движения национального, направленного на создание особой национальной общности. При этом в ее создании стала усматриваться прямая угроза национальной и государственной целостности России. В том, что создание украинской национальной общности рано или поздно поставит под вопрос целостность государства, были убеждены многие противники украинского движения. Сами украинофилы отрицали наличие каких бы то ни было планов по отделению от России. Историк и учитель одного из отцов украинского движения М. С. Грушевского, В. Б. Антонович, называл упреки в сепаратизме или желании «сепаратизма государственного» бессмысленной и наивнейшей клеветой, но тут же пояснял, что совсем другое дело, «когда под словом сепаратизм понимают желание развить южнорусский язык и южнорусскую литературу»[61].
Понятно, что развитие последних как самостоятельных единиц рано или поздно, пусть даже вопреки желанию деятелей движения, поставило бы вопрос и о политических формах связи Украины и России. В XIX в. подавляющее большинство украинофилов были убежденными сторонниками государственного единства двух русских народностей. Другой известный деятель движения, Михаил Петрович Драгоманов, говорил об этом еще конкретнее: «Отделение украинского населения от других областей России в особое государство – есть вещь… вовсе ненужная для каких бы то ни было интересов украинского народа». Своих социальных и национальных свобод, считал Драгоманов, народ сможет быстрее достичь не путем сепаратизма, а в рамках преобразованной России. А о своих соратниках он отзывался следующим образом: «…люди, посвятившие себя освобождению украинского народа, будут самыми горячими сторонниками преобразования всей России на началах наиболее благоприятных для свободы развития всех ее народов»[62].
Украинофилы вполне могли быть искренними, говоря, что не ставят перед собой политических целей и не желают отделяться от России. Но тогда сделать это было невозможно хотя бы потому, что надо было ясно обосновать, кто, зачем и почему собирается отделяться, и обосновать это прежде всего перед своими земляками, и не только перед крестьянами, но и образованными слоями общества. А среди последних имелось немало активных противников украинской идентичности, считавших себя русскими, русскими-малороссами. Таким образом, украинскому движению еще только предстояло создать основу для политических устремлений. Все внимание было уделено вопросам строительства украинской общности – созданию языка, национальной культуры, литературы и т. п. Оградительными мерами правительство сумело приостановить развитие движения на несколько лет. Его новый подъем стал возможен в начале 1870-х гг. и был вызван, опять же, оживлением общественной жизни в России.
Украинское национальное движение, особенно на своих ранних этапах, да и на протяжении XIX в. вообще, очень многим обязано тому, что в советские времена называлось российским «освободительным» и «революционно-демократическим» движением. Соединение воспоминаний о Запорожье и казачьей автономии (причем подчас далеких от реально-исторических и превращенных в своеобразный глянцевый агитационный проспект, изобилующий бунчуками, радами и шароварами) с российским либеральным и революционным движением придало украинству живительную силу. По словам исследователя идеологии украинского сепаратизма Н. И. Ульянова, «украинофильство XIX века… представляет причудливую амальгаму настроений и чаяний эпохи гетманщины с революционными программами тогдашней интеллигенции». Оно «сделалось обязательным признаком русского освободительного движения» и шло вместе с ним, получая от него идейную, духовную, а часто и материальную поддержку[63].
На пореформенный период приходится начало активной деятельности нового поколения украинофилов, поколения более политизированного, к тому же не дворянского, а интеллигентско-разночинского происхождения. Украинофильство начинает активнее проникать в образованное общество, прежде всего в среду студенческой молодежи. «Украинские» кружки появляются в университетах, игравших важную роль в становлении и утверждении национальной идентичности. Например, в 1860–1864 гг. до 70 % активистов национального движения составляли студенты Киевского и Харьковского университетов[64]. Все больше внимания деятели украинского движения стали уделять развитию научной, культурной, издательской деятельности, которую взяли на себя Киевский (Юго-Западный) отдел Русского императорского географического общества (РГО) и журнал «Киевская старина». По-прежнему издавалась учебная и народная литература по разным отраслям знаний[65].
Валуевский циркуляр соблюдался не всегда. Кстати, мягкость «репрессий» признавали и сами украинофилы. М. Драгоманов позднее указывал, что ограничения 1863 г. были весьма избирательными. Так, они запрещали Костомарову «печатать в России по-украински Библию и популярные педагогические книги, но не запрещали ему печатать по-украински “Богдана Хмельницкого”, “Мазепы” и тому подобные произведения»[66]. Это обстоятельство на фоне активизации украинского движения, оформления идейных принципов национального строительства, развития украиноведческих дисциплин, языка и литературы вновь вызвало опасения у противников украинофильства в Малороссии и у российских властей и привело к появлению указа, подписанного императором Александром II 18 мая 1876 г. в германском городе Эмс.
Деятельность украинофилов в нем признавалась опасной в государственном отношении. Вводился запрет на ввоз из-за границы книг на украинском языке, равно как и на издание таковых в России (кроме исторических памятников, которые должны были печататься при помощи русской, а не украинской орфографии). Запрет налагался на украиноязычные сценические постановки, публичные чтения, преподавание на украинском. Указ настаивал на более тщательном подборе преподавательских кадров в школах и прочих учебных заведениях. Киевский отдел РГО был закрыт, а его активные члены – М. Драгоманов и П. Чубинский – высланы за пределы малороссийских губерний[67]. Формально указ действовал до 1905 г., хотя на практике не стал сколько-нибудь серьезной преградой на пути развития украинского движения. Репрессии, и то весьма либеральные, коснулись узкого круга лиц. Деятельность украинофилов на культурной и языковой ниве также существенно не пострадала. Они перешли к так называемой органической работе, то есть подчеркнуто дистанцированным от политики занятиям в области истории и культуры. Даже последствия указа в издательской сфере не были такими суровыми, как можно было предположить. Скажем, в конце 1870-х гг. из общего числа рукописей, представленных на цензуру, 20 % были запрещены к печати, еще в 10 % случаев делались изъятия. В 1896–1900 гг. Киевским цензурным комитетом ежегодно запрещалось около 15 % украинских изданий. Соответственно, 85 % к печати допускалось[68].
Но Эмсский указ имел и иные последствия. Во-первых, он усилил недовольство у вполне лояльных, но украинофильски настроенных групп общественности. Но главное, он активизировал перенесение украинской культурной жизни из Малороссии в населенную русинами австро-венгерскую Галицию. Цензурные ограничения спровоцировали то, что должно было произойти по законам внутренней логики развития движения. Пребывание части русских (в широком смысле слова) этнических земель в составе другого государства, с более либеральным политическим режимом, которое к тому же использовало украинское движение в отношениях с Россией и «своими» поляками в собственных интересах, рано или поздно должно было привлечь внимание деятелей украинского движения. Кроме того, среди русинского населения Галиции наблюдались процессы, имевшие параллели с теми, что происходили в России. Постепенно в Галицию переносится «украинская» литературная, издательская и научная деятельность, а сама она превращается в центр национального движения, что позволило украинофилам по аналогии с процессом объединения Италии окрестить ее «украинским Пьемонтом»[69]. Перенесение центра тяжести движения в Галичину и его поддержка австрийскими властями способствовали тому, что местное культурное возрождение русинов, начавшееся в середине XIX в. как общерусское, под знаменем единства со всем русским народом, все больше начало развиваться в направлении формирования украинской идентичности.
Как показало будущее, это имело для судьбы украинского движения далекоидущие последствия. Тесный контакт с галицкими деятелями вызвал к жизни теорию «соборности», подразумевавшую, что русская и австрийская части «Украины» являются единым целым, идеальным Отечеством единого «украинского» народа. В дальнейшем, когда украинское движение вступило в фазу своей политической зрелости и начало выдвигать политические требования, именно это представление легло в основу всей украинской идеологии. Другим не менее важным последствием перенесения центра тяжести «украинской» жизни в Австро-Венгрию стало сильное культурное и политическое влияние, которое это движение испытало со стороны галицийского «этнического материала». Например, теперь создавать украинский литературный язык приходилось исходя из теории «соборной Украины» и с учетом особенностей разговорной речи галицких русинов, нередко очень существенных.
Не меньшее воздействие испытала и психология движения, которая закладывалась в основу психологии создаваемой национальной общности. К изначальным идейным установкам украинского движения, к антироссийской и антирусской пропаганде, которая велась поляками, а затем и австрийскими властями, добавилось неприятие политического строя России и политики российских властей, затруднявших работу по созданию украинской нации. Озлобление у адептов украинства вызывало также отношение большей части российского общества, не признававшей отдельную украинскую идентичность и не желавшей ее признавать. Постепенно у многих представителей движения, особенно галицийцев, все это слилось воедино и переросло в неприятие России, русских и русской культуры как главного препятствия на пути создания особой украинской культуры, на пути становления «Украины». Все больше становилось людей, считавших Россию «чужой», и все меньше тех, кто в украинофильстве видел пути прогрессивного преобразования России. Галиция стала подходящей почвой для выработки основной черты психологии движения – его антироссийской и антирусской направленности, когда Россия воспринималась как нечто чужое, внешнее, непонятное и враждебное.
Немалую роль в формировании образа России играли религиозные различия малороссов и галичан (православие-униатство). Австрийское правительство и польская общественность Галиции поддерживали те круги галицийских русинов, которые заявляли о своей украинской идентичности, и враждебно относились к галичанам, считавшим себя частью единого русского народа. Поддержка Петербургом местных русофилов в силу разных причин была непоследовательной и непланомерной. И, как результат, уже к концу XIX в. украинская партия (называвшаяся народовской) начала приобретать превалирующее положение среди образованного населения Галиции. Она берет в свои руки инициативу по «воспитанию» простого народа, среди которого все активнее начинает распространять украинскую национальную идентичность. Во многом этому способствовало созданное в 1868 г. общество «Просвита», со временем «покрывшее» всю Галичину сетью своих организаций, читален, библиотек, связанных с ней кооперативных и спортивных обществ[70]. Постепенная, методичная работа украинских организаций, особенно в экономической сфере, поддержка ими крестьянских хозяйств вырабатывали у галицийских крестьян отношение к ним как к «своим» и тем самым способствовали закреплению украинской идентичности.
Наряду с начавшимся перенесением украинских идей в народные массы в Галичине украинское движение активно занималось идеологическим и научным оформлением украинского «фантома». Неоценимый вклад в эту работу внесло созданное в 1873 г. силами российских украинофилов Общество имени Шевченко, которое с 1892 г. стало называться Научным обществом (Товариством) имени Шевченко (НТШ). Оно занималось научной, культурной, издательской деятельностью. Немало работ, вышедших во Львове, было написано «украинцами», проживавшими в России, а также теми, кто оттуда эмигрировал. Значительная часть средств, за счет которых жило Общество, поступала из России (от сочувствующих украинскому делу), а также от австрийского правительства. Общество состояло из исторической, филологической и естественно-научной секций. Вклад НТШ в дело развития украинского движения значителен. Им были выпущены 118 томов «Научных записок», посвященных украинской истории, этнографии, литературе, 35 томов «Этнографического сборника», 14 томов опубликованных источников по истории, многочисленные литературные произведения и, реже, естественно-научные труды[71]. Работа по созданию «украинской» науки, научному обоснованию целей и идеалов движения, сложению национальной концепции истории особенно активизировалась после того, как в 1898 г. НТШ возглавил историк и общественный деятель из российской Украины Михаил Сергеевич Грушевский.
Роль М. Грушевского в деле создания украинской нации поистине огромна. Его научная и общественная деятельность была во много раз весомее его непосредственного участия в политике. Он создал главный труд – многотомную «Историю Украины-Руси», в которой сформулировал национальную концепцию истории Украины, определил место формируемой общности в прошлом и настоящем. Собственно, об «украинском народе» как о субъекте истории стало возможно говорить лишь после выхода его трудов. Он собрал истории земель, входивших в «идеальное украинское отечество», до этого составлявших историю других государств и народов, и создал из них историю «украинского» народа.
Следует кратко охарактеризовать идейную основу национальной концепции истории «Украины». Поскольку официально считалось, что все части православной Руси являются единым целым, имеющим общую этническую, культурную и государственную традицию, восходящую к Древней Руси, а противники украинства отрицали наличие особой украинской идентичности, ссылаясь на отсутствие сколько-нибудь серьезных различий между великороссами и малороссами, то сторонники украинского движения все усилия сосредоточили на доказательстве обратного. Так, одним из краеугольных положений работ М. Грушевского стало отрицание этого единства в прошлом и настоящем. Украина объявлялась единственной преемницей древнерусского (или, по введенной им терминологии, «древнеукраинского») наследия: религии, культуры, государственности. Одним из главных постулатов стало утверждение, что различия между русскими и украинцами носили существенный характер и зародились очень давно, еще в эпоху расселения славян. Племена, входившие в состав Древней Руси, так и не составили единого народа, так как политическое объединение было верхушечным и не затронуло широкие слои населения, различавшиеся по языку, по жизненному типу, бытовому укладу. После распада Киевской Руси южная и северная ветви восточного славянства продолжали идти каждая по своему собственному пути, а лишенный государственности украинский народ попал под чужеземную (в том числе российскую) власть и боролся за свое национальное существование[72].
По сути, Грушевский подхватил и развил тезис, выдвинутый еще Н. Костомаровым в работе «Две русские народности» (1861 г.). В ней известный украинофил озвучил теорию о существовании не только двух русских языков, но и двух русских (пока еще) народностей, различающихся всей своей сущностью (языком, историей, характером, антропологией) и сведенных воедино только ходом истории. Со временем «вторую» народность перестали называть «русской».
Но создание самостийной истории Украины началось задолго до Грушевского и даже Костомарова. Корни самой схемы уходят к уже упоминавшейся «Истории Русов», представляющей собой историю Южной Руси, написанную на основе поддельных казачьих летописей, легенд и сознательно искаженных фактов. «История» играла роль своеобразного манифеста гетманского автономизма, должна была служить «доказательством» древности и благородства казачьих родов и их равноправности (если не больше) с русским дворянством, а следовательно, средством борьбы за сословные права и привилегии. Именно в ней содержались основные положения украинской идеологии: изначальная обособленность малоруссов, различная судьба Малой и Великой Руси, обвинения России «в кривде» и угнетении Малороссии, прославление Мазепы как борца за украинскую независимость и т. д. «История Русов» была популярна в образованных кругах, долго не воспринималась критически и принималась на веру. Оказала она и сильнейшее влияние на зарождение украинофильства.
Грушевский представил эту известную схему в виде научной концепции, нанизав на нее огромный фактический материал и придав ей тем самым внешнюю убедительность и солидность (хотя сами приводимые факты часто существуют вне схемы и вовсе не обязательно свидетельствуют в ее пользу, а порой могут быть истолкованы с прямо противоположной стороны). Но главное, он положил в ее основу не сословные интересы и привилегии казачьей верхушки, а национальный фактор, сделав субъектом истории «украинский народ». Поэтому Грушевский и имеет право считаться создателем схемы украинской истории.
В дальнейшем этот подход, как и этноцентризм концепции, лег в основу украинской исторической науки и разнообразных политических доктрин. Аналогичные идеи были представлены и в других гуманитарных областях. Так, украинская литература выводилась из древнерусской литературы (естественно, она именовалась «украинской»), но разделялась с русской. Как утверждали авторы этих схем, еще памятники XII–XIII вв., созданные в Южной Руси, отличались по языку от тех, что были созданы в Руси Северной. В последующие столетия произведения, вышедшие с территории Украины, по языку все больше сближались с народной речью. Этот процесс был прерван в XVII–XIX вв. насильственным запрещением «живой разговорной речи» и введением русского языка во все сферы общественной жизни. Вопрос о языке и здесь был одним из основных. При этом желание создать свой язык приводило к настойчивым попыткам отгородиться не только от русского, но и от церковнославянского языка. Так, один из основателей украинского литературоведения, Е. Огоновский, признавал литературу Киевской Руси хоть и украинской, но «мертвой», «ненародной», ибо писалась она не на народном разговорном языке, а на старославянском. Он также отделял украинскую литературу от «московской», руководствуясь территориальным принципом происхождения произведения[73].
М. Грушевский продолжал работу по созданию украинского языка, терминологии, фонетического правописания. Научное общество также переводило на украинский язык труды русских ученых малорусского происхождения, прежде всего историков и филологов. Механическое «возвращение» трудов «блудных сынов» в лоно «украинской» науки (зачастую посмертное), позволило адептам движения вскоре утверждать о существовании таковой.
После перенесения центра тяжести украинского движения в Галичину деятельность украинофилов в России сосредоточилась на сфере культуры и просвещения. В 1882 г. в Киеве был основан журнал «Киевская старина». Вскоре были разрешены украиноязычные театральные постановки, издание словарей и текстов к нотам. Надо сказать, что украинофилы придавали театру большое значение, считая его трибуной, с которой не только звучала украинская речь, но и распространялись украинские идеи[74]. Будучи широко доступным и зрелищным, театр способствовал усвоению политических и социальных идей, формированию самосознания, в том числе национального. Продолжали существовать и малочисленные кружки интеллигенции, деятельность которых не выходила за рамки культурно-просветительской работы.
Таким образом, к началу XX в. украинское национальное движение подошло с частично разработанным литературным языком, национальной концепцией истории, художественной литературой, некоторыми общественными формами движения. Национальные идеи начали транслироваться в народные массы. Но все это, особенно общественная деятельность, имело место в основном в Галиции. В России движение развивалось не столь явно, сосредоточивая усилия в основном на литературной и некоторых формах общественной работы. Легальных украинских организаций, помимо кружков, в России не существовало. Но движение набирало силу и здесь, украинские идеи находили все больше приверженцев среди образованных слоев населения, начинали просачиваться в народ.
Активизации этих процессов способствовало развитие промышленности, путей сообщения и связи, которые приводили к значительным изменениям в социальной сфере. Крестьянство втягивалось в товарно-денежные отношения, происходила урбанизация и связанные с этим миграции населения, которые изменяли этнический облик территорий, развивалось образование. Все явственнее стали ощущаться пока еще постепенные изменения в массовом сознании, размывание рамок старого, привычного мира. Индустриальные преобразования постоянно увеличивали спрос на образованных людей, соответственно количественно росли ряды интеллигенции. Противоречия российского капитализма, при которых сохранялись многочисленные экономические и политические пережитки, приводили к тому, что в обществе стали накапливаться и обостряться социальные противоречия. В них оказались вплетены проблемы национальные. До поры до времени они находились как бы в латентном состоянии и не воспринимались населением как самоценные. Но по мере изменений социально-экономического уклада общество постепенно подготавливалось к их восприятию.
Украинское движение возникло не как естественная реакция на радикальные социально-экономические преобразования и их следствие (подобно европейским национальным движениям), а, прежде всего, как идейное течение, пользующееся собственными легендами и заимствованными в Европе и пересаженными на российскую почву идеями. Но если раньше эти последние оставались на уровне идейных течений, то теперь, используя складывающуюся конъюнктуру, они получали возможность привиться и приобрести осязаемое наполнение. Накопленные силы, идейный, научный, лингвистический багаж позволили украинскому движению в новых условиях приступить к более четкому и ясному самоосмыслению и к формулированию своих требований и задач уже на организационном уровне.
Рубеж XIX–XX вв. Политизация движения
Новый этап в жизни украинского движения, получивший название «младоукраинского», начался с 1890-х гг. и заключался в переходе к организационно-политической фазе развития и отказе его адептов от традиционного культурно-просветительского украинофильства. Сам термин Молодая Украина был введен публицистом Т. Зиньковским и подхвачен галицким писателем и активным деятелем движения Иваном Франко, а вслед за ним и другими его активистами. В этот период в «украинство» вливается новое поколение участников (по преимуществу молодежь – студенты, гимназисты), которое создает свои кружки, устанавливает более тесные связи с народовскими громадами и социалистическими течениями Галиции, формирует новую идеологию. Происходит резкая политизация требований и настроений.
Но одной из важнейших задач, доставшихся «младоукраинцам» по наследству от старого поколения украинофилов, оставалось сплочение «украинских» сил и самоубеждение в справедливости дела. Материалы Киевского жандармского управления содержат весьма показательные примеры подобной деятельности. Так, в 1898 г. студент Киевского университета В. Доманицкий, в будущем ставший историком-популяризатором и кооперативным деятелем, занимался тем, что рассылал конспиративные письма (под псевдонимом Диваковский) студентам высших учебных заведений России, симпатизировавшим украинскому движению. В них помимо прочего (например, предложений о поставке украинской литературы, в том числе галицийской) он убеждал своих единомышленников, что «украинское возрождение является не химерой и пустой мечтой, а потребностью народных масс»[75].
В Петербурге несколько студентов создали нелегальный кружок социалистов-федералистов[76]. Основной задачей кружка его члены считали национальное развитие украинской нации, а в политической сфере – полную автономию Украины[77]. В 1891 г. в Каневе несколькими молодыми людьми создается тайное Братство тарасовцев. В качестве своей цели братчики добивались достижения самостийности и автономии Украины, ее развития и укрепления как национальной единицы (языка – «органа духа и проявления психологии народной», культуры и т. п.). Они не сомневались, что «Украина была, есть и всегда будет отдельной нацией, и как каждая нация… потребует своей национальной воли для своей работы и прогресса». Тарасовцами были впервые сформулированы обязанности человека – члена нации перед всей нацией. Исходя из них, каждый украинец в общественной и частной жизни должен быть последовательным и делать все, что требует идея «возрождения» Украины[78].
Идеология прочих младоукраинских кружков и обществ была аналогична тарасовской. Показательна не только политизация движения, произошедшая под воздействием как внутренних механизмов, так и внешних факторов, обусловленных социально-экономическим развитием России, Галиции, становлением мирового социалистического движения, но и его «национализация». Новое поколение окончательно сформулировало свою национальную украинскую идентичность, превратило украинство из культурной и культурно-этнической категории в категорию национальную, установило связь между украинской нацией в целом и отдельным «украинцем» – членом этой нации. Оно порвало с двойной идентичностью, причем даже не только с «малорусско-русской», но и «украинофильско-малорусской», которая была распространена среди многих украинофилов старшего поколения. Стоит сказать, что новое поколение отвергало даже сам термин украинофилы, называя себя «національно свідомими» (национально сознательными) украинцами[79]. То есть такими, которые были «украинцами» не только по происхождению или даже не только по сознательному использованию «украинского» языка, но и по глубокому убеждению, посвятившими свою жизнь служению «украинскому» народу. Писатель и учитель Б. Д. Гринченко, как раз «національно свідомий», это служение своих единомышленников выразил следующим образом: «Свободы! Свободы украинскому народу, как самостоятельной национальной единице, думать, верить, говорить, писать, трудиться и в своем крае управлять так, как он сам того хочет»[80].
Национальные процессы по-прежнему активно развивались главным образом в Галиции. Там продолжается формирование украинской культуры, истории, языка, возникают первые политические организации, ведется идеологическая работа, обсуждаются, в том числе в прессе, проблемы национального и государственного развития Украины. Все большее распространение получает концепция соборности, утверждающая единство всего украинского народа вне зависимости от государственных границ. Начинается увязывание национальных и социалистических идей, причем происходит это не только в Австро-Венгрии, но и в Малороссии, куда эти идеи проникали в том числе стараниями украинских националистов из Галиции. Например, в Киеве появился интеллигентский кружок «Украинская социал-демократия», созданный в 1896 г. И. Стешенко и Л. Косач-Квиткой (Леся Украинка).
Благодаря давним народническим и либеральным традициям отечественной интеллигенции новое течение все активнее утверждается и в России. Кружки, связанные с социалистическим учением, возникают не только в Киеве, но и в других городах. Появление в Галиции и Малороссии партий и обществ с политической окраской и политическими требованиями было предвестником того, что украинское движение стоит на пороге организационно-политического оформления и уже начало эволюционировать в этом направлении. И в феврале 1900 г. в Харькове возникает Революционная украинская партия (РУП), ставшая тем корнем, из которого впоследствии выросло большинство украинских партий. Она была создана представителями народнически (Б. Ярошевский), социалистически (Л. Украинка, Д. Антонович, М. Русов) и крайне националистически (Н. Михновский) настроенных кружков[81]. Общей платформой для людей со столь разным на первый взгляд мировоззрением был национальный вопрос.
Поскольку все эти люди мыслили национальными категориями и определяющим для них был именно национальный фактор, то всех их, вне зависимости от позиции по социально-экономическим вопросам и разной степени интерпретации национальных проблем, можно считать украинскими националистами. Национальная направленность имелась у всех украинских партий. Именно благодаря этому они и существовали как «украинские». Те представители социально активных кругов малороссийского общества, кто не разделял украинскую идеологию или был равнодушен к «украинскому вопросу», а таковых было очень и очень много, вливались в общероссийский политический процесс и пополняли ряды общероссийских партий, в том числе революционных. Такие люди, по горьким замечаниям «национально сознательных украинцев», были навсегда потеряны для украинского движения и тем самым значительно ослабляли дело национального становления Украины[82].
Национализм можно считать чем-то единым только при широком взгляде на него, когда нужно установить его суть, его основное положение, а именно определенный способ видения и понимания окружающего мира и продиктованную этим способом видения социальную практику. При более пристальном взгляде обнаруживается, что в рамках этого способа существует множество оттенков и направлений, зависящих от самых различных факторов – происхождения, социального положения, воспитания, образования человека, его эмоциональности и темперамента, специфики жизненного пути, окружения и прочих внешних условий, от воздействия которых зависит, в какой форме и в какой степени эти категории национального будут определять мышление и социальное поведение человека. Таким образом, национализм как способ мышления и социальной практики является единством во множестве, феноменом сложным и многоликим.
Украинское движение имело под собой общий фундамент и общий вектор развития. Но в силу того, что в движении принимали участие люди разные, имевшие разное видение будущего Украины, оно не могло быть монолитным и не было таковым. Это наглядно продемонстрировала судьба РУП. Вначале, как уже было сказано, в нее вступила украински настроенная молодежь и интеллигенция различных направлений, от радикально-националистического до социалистического. Появилась у нее и идейная платформа. Ее по просьбе Д. Антоновича написал Н. И. Михновский – адвокат, названный впоследствии отцом украинского национализма. Его брошюра под названием «Самостийная Украина» ясно и недвусмысленно давала понять, что Украина – особый национальный организм, являвшийся таковым еще в XVII в., а затем насильно (в обход Переяславской конституции, якобы заключенной между Московским государством и Украинской «республикой») подчиненный Россией и угнетаемый ею. Поэтому, заключал автор «Самостийной Украины», «единая неделимая Россия для нас («украинцев». – А. М.) не существует»[83]. Поскольку эта брошюра, как и сама РУП, для которой она была написана, оказала серьезное влияние на дальнейшее развитие украинского движения и его идейные приоритеты, имеет смысл остановиться на ее содержании подробнее.
Н. Михновский исходил из того, что современный ему мир стал ареной великой борьбы наций, в том числе наций угнетаемых против наций угнетающих. К числу первых он относил украинцев, причем подчеркивал, что в условиях России им грозит политическое национальное и культурное вымирание. Сохранение национальности, считал Михновский, было возможно только в своем государстве (причем государстве этнократическом), поэтому государственную самостоятельность он считал главным условием существования нации, а государственную независимость – национальным идеалом в сфере межнациональных отношений[84]. Таким образом, борьба за нацию становилась борьбой за государственность, и наоборот.
Борьба предстояла со всеми противниками украинства, и в первую очередь с Россией. Михновский выстроил систему доказательств (весьма спорных с исторической и юридической точки зрения) того, что Россия владеет Украиной незаконно. Суть их сводилась к следующему: после Переяславской рады (договора «равного с равным») Украина сохранила свою независимость и права самостоятельного государства. А поскольку Россия нарушила этот «договор», поправ украинский суверенитет, он терял для Украины силу. Интересы русских и украинцев были, по его представлению, диаметрально противоположны. Как представитель «нового поколения», Михновский решительно порывал с украинофильством. «Времена вышитых сорочек, сермяг и горилки миновали и никогда уже не вернутся». Задача «сознательных украинцев» – возвращение отнятых прав и восстановление «одной, единой, неразделимой, вольной, самостийной Украины от Карпат и до Кавказа». Возвращение их будет возможно в жестокой, кровавой борьбе, потребность которой, с точки зрения Михновского, вытекает из факта национального существования украинцев[85].
Таким образом, устами харьковского адвоката украинское движение во всеуслышание заявило о своих целях и национально-политических приоритетах. По словам известного деятеля движения В. Дорошенко, РУП стала первой попыткой самостоятельного выхода украинской молодежи на политическую арену под знаменем независимой Украины[86]. Правда, экстремизм отца украинского национализма, его неприкрытую враждебность российской государственности и зацикленность лишь на национальной борьбе разделяли далеко не все активисты движения. Долгие годы им пришлось открещиваться от точки зрения Михновского и ряда ксенофобских положений брошюры – этого «первородного греха» украинского национализма. В 1903 г. РУП официально отмежевалась от взглядов Михновского, приняв принцип автономии Украины. Видный деятель украинского движения и член РУП Б. Н. Мартос позже объяснял это тем, что лозунг полной самостийности «не получил никакого отклика в массах»[87].
Нет оснований сомневаться в истинности этих слов. Основная масса адептов украинского движения придерживалась автономистско-федералистских идей (правда, эти понятия толковались весьма широко и по-разному), во всяком случае пока не думая всерьез о возможности и необходимости полного отделения. Однако вопрос о полной независимости был лишь вопросом времени, вопросом внутренней готовности и внешней возможности.
Ведь и к идее федерализма-автономизма большая часть деятелей украинства тоже пришла не сразу, десятки лет перед этим занимаясь вопросами культуры и идентичности, не переводя их в политическую плоскость. Собственно, переход был запрограммирован изначальной сущностью движения, возникшего как новая форма южнорусского сепаратизма. И даже если его адепты умом понимали нецелесообразность этого, логика движения подсказывала иное поведение. К тому же разум часто пасовал перед эмоциями.
То, что федералистские симпатии рано или поздно сменятся требованиями полной независимости, и то, что это надо будет сделать, для наиболее последовательных вождей украинства было делом решенным. «Мы признаем федеративные формы наиболее совершенным способом сочетания государственного союза с интересами свободного и нестесненного развития национальной жизни», – писал в 1907 г. М. Грушевский. И тут же оговаривался, что в условиях настоящего момента приходится настаивать «на осуществлении принципа национально-территориальной автономии как одного из оснований нового государственного устройства». Однако «отец» украинского движения откровенно утверждал, что «последовательным и логическим завершением запросов национального развития и самоопределения всякой народности» является «полная самостоятельность и независимость»[88]. О том, что идеалом украинского движения является «независимая Русь-Украина», в которой соединятся воедино «все части нашей нации», Грушевский и его галицийские коллеги публично высказывались еще в 1899 г.[89] Становилось понятно, почему уверения представителей национальных движений в том, что они дорожат единством России и не помышляют об отделении, по словам того же Грушевского, не имели «ни для кого особой убедительности»[90]. Дальнейшие события развивались именно по такому сценарию.
Возвращаясь к брошюре «Самостийная Украина», отметим, что, несмотря на временное неприятие ряда утверждений, ее краеугольные положения, например об украинцах как особой нации, о Переяславской раде как договоре «равного с равным», о «несправедливом» подчинении Москве и необходимости борьбы за национальную эмансипацию Украины, принимались безоговорочно. А само появление «Самостийной Украины» стало поистине знаковым событием в истории украинского движения, так как в ней ясно говорилось не о сиюминутных задачах, а о стратегических целях движения, о том, что рано или поздно встало бы на повестку дня.
Члены РУП, по преимуществу студенты, учителя и прочие представители интеллигенции, создавали ячейки во многих городах Малороссии. Весной 1902 г. на волне стихийных крестьянских беспорядков в Полтавской и Харьковской губерниях, вызванных прошлогодней засухой и недородом, были предприняты попытки ведения агитации на селе. Но влияние РУП там было слабым[91]. Вскоре дали о себе знать различия в подходах к социально-экономическим вопросам. В 1902 г. из РУП вышли радикальные националисты, создавшие свою Народную украинскую партию, с 1917 г. получившую название Украинской партии социалистов-самостийников. За ними из РУП вышли народнически настроенные группы[92]. Покинули ее и те, кто больше тяготел к общероссийской работе (это течение в дальнейшем влилось в РСДРП). Те же, кто остался, эволюционировали в сторону социал-демократии. Основные принципы в национальном вопросе были подтверждены, но при этом «манифест» РУП был подвергнут критике за отсутствие социалистического мировоззрения. Эволюция этой группы руповцев завершилась в декабре 1905 г., когда она приняла название Украинской социал-демократической рабочей партии и окончательно перешла на социал-демократические позиции[93]. Этой партии, из которой вышли многие виднейшие представители украинского движения (В. Винниченко, С. Петлюра, Н. Порш, В. Чеховской), было суждено сыграть заметную роль в развитии украинского движения до 1917 г. и во время Гражданской войны. Именно она способствовала его политическому и идеологическому оформлению.
Революция 1905 г. вдохнула новые силы в украинское движение. Окончательно отошли в прошлое ограничения 1876 г. Высочайший манифест 17 октября, даровавший политические свободы (слова, собраний и т. п.), открывал возможности для легального существования общественных и политических организаций, в том числе созданных по национальному признаку. Таковые начали появляться на Украине еще до начала революции. Возникают новые и легализуются возникшие ранее партии. Одновременно с этим началась организация украинской прессы. Увидели свет газеты «Рада», «Село», «Засів», «Рідний край», журнал «Світло», ряд местных периодических изданий. Своей целью они провозглашали борьбу за право украинского народа на самостоятельное национально-политическое существование, которое могла обеспечить автономия Украины.
По-прежнему основной задачей движения оставалось всестороннее развитие украинской национальной общности и трансляция ее черт «вниз», в народные массы, формирование у них украинского самосознания и идентичности. Эту задачу весьма конкретно сформулировал И. Франко/ «Перед украинской интеллигенцией, – писал он, – открывается теперь, при более свободных формах жизни в России, огромная действенная задача – создать из громадной этнической массы украинского народа украинскую нацию, цельный культурный организм, способный к самостоятельной культурной и политической жизни»[94]. Воплощение этой задачи взяли на себя украинские клубы, кружки, музыкальные общества и коллективы («Кобзарь», «Боян» и др.). Появляются и «просвиты» – аналоги галицийских обществ, работавшие в направлении образования и просвещения (в первую очередь в национальном духе) сельских и городских масс. Быстро развиваются украиноязычные книгоиздательства, особенно педагогической литературы (например, издательства «Дзвин», «Украинский учитель», «Криница»), появляются книги для народа. В Киеве начинает функционировать Научное общество, выходит редактируемый М. Грушевским «Литературно-науковый вісник». Ведется агитация за открытие в университетах украинских кафедр, преподавание украинской литературы, истории.
Кроме того, получают развитие организованные коммерческие общества на паях (естественно, с национальной окраской), сочетавшие экономическую и «украинскую» деятельность. Так, киевская фирма «Крамница Час» занималась торговлей украинской литературой и изделиями кустарей. Аналогичную работу, только уже среди крестьян, вело общество «Добробут» и еще ряд кооперативов. Последние редко имели украинскую национальную окрашенность, занимаясь по преимуществу чисто экономической деятельностью. Но трудившиеся в них представители сельской интеллигенции, среди которых увеличивалась численность «сознательных украинцев», могли проводить соответствующую идейно-воспитательную работу среди крестьянства и по личной инициативе[95].
Наступившая вслед за окончанием революции реакция частично приостановила бурное развитие движения. Так, циркуляром Министерства внутренних дел от 20 января 1910 г. губернаторам предписывалось не допускать регистрации украинских (как и еврейских) организаций, возникших на почве сугубо национальных интересов[96]. Закрытыми оказались многие «просвиты» и украинские газеты. Издание ряда газет и журналов было запрещено правительством, некоторые же закрывались сами по причине отсутствия средств и подписчиков. Но «украинская» жизнь не прекращается. К этому времени движение достигло такого состояния, которое одними бюрократическими методами ликвидировать было невозможно. Остались и печатные издания, в том числе на украинском языке, сохранились украинские библиотеки, продолжала выходить и книжная продукция, сочинения по украинской истории, литературе, географии. Например, в «Короткой географии Украины» С. Рудницкого были очерчены границы «идеальной Украины», на востоке упиравшиеся в Каспий и Большой Кавказский хребет с Эльбрусом.
В годы первой российской революции происходит не только политическое оформление национального движения. Изменения коснулись и других сфер его существования. Оно укрепляется идейно и опирается на уже определенные достижения. К числу его наиболее крупных успехов надо отнести признание комиссией Императорской Академии наук украинского языка самостоятельным, а не малороссийским наречием единого русского языка (правда, профессиональный состав комиссии оставлял большие сомнения в научной аргументированности данного решения). В то же время комиссия признавала его «сырое» состояние – отсутствие четких, единых литературных норм, единого правописания[97].
Несомненно, что на такое решение оказали влияние дух свободы, принесенный революцией, и оживление либерально настроенных слоев российского общества, которые в официальной позиции по украинской проблеме и, в частности, по языковому вопросу усматривали проявление «самодержавно-консервативной» сущности власти. В этом контексте признание украинского языка отдельным языком смотрелось как «восстановление» попранных бюрократическим государством общественных прав и свобод. Однако такое решение было бы невозможно без предшествующей работы поколений украинофилов и «сознательных украинцев», создававших на базе народной крестьянской речи (которая действительно вполне может быть отнесена к наречию большого русского языка) особый литературный язык.
Однако тогда решение Академии наук, потешив самолюбие «украинцев», осталось почти незамеченным: противники украинской идентичности своей точки зрения на вопрос не изменили, а сторонники давно считали украинский язык самостоятельным. К началу XX в. проблема литературного языка еще не была решена: к этому времени были заложены его основы. Несмотря на выход в 1907–1909 гг. в свет «Словаря украинскаго языка» Б. Гринченко и ряда других словарей, создание и стандартизация единого языка, одинаково близкого для всех территорий и социальных групп населения, были далеки от своего завершения. Продолжали сохраняться серьезные различия между разговорным и письменным языком российских и галицийских «украинцев». Огромные пласты технической и естественно-научной лексики, имевших важное значение для всестороннего становления языка, оставались пока вне поля зрения его разработчиков. Более-менее были проработаны художественная и общественно-политическая лексика. Да и там не наблюдалось строгого единства, как не было его и в отношении правописания.
Газеты на Украине и в Галиции выходили при помощи множества орфографий (как различных фонетических, так и этимологической). У разных писателей и журналистов украинский язык также сильно отличался по словарному составу и написанию. Огромное количество польских заимствований и новоделов, призванных доказать непохожесть украинского языка на русский, создавали невообразимый хаос. Немудрено, что народная аудитория – простые малороссы, по сообщениям самой украинской прессы, не понимала предлагаемого им «родного» языка. Как будет видно из дальнейшего, не всегда понимала она его и в 1920-х гг. М. Грушевский, один из инициаторов языковой политики, был вынужден публично признать, что даже читатели украинской прессы и литературы (то есть его единомышленники) были недовольны состоянием «ридной мовы» (как можно называть «родным» тот язык, который незнаком и малопонятен?!) и резко критиковали его эксперименты[98].
Все это серьезно затрудняло кодификацию украинского языка. Его фактическое отсутствие отмечали сами деятели движения, естественно не в апелляциях к властям (там как раз говорилось обратное), а между собой. Это ставило под сомнение возможность и целесообразность организации школьной сети с украинским языком преподавания, которой они добивались всеми силами. На это обстоятельство как раз и обращали внимание противники украинства, говоря, что нельзя обучать детей на том языке, которого фактически нет. Но это не смущало деятелей украинского движения. Разработка стандартизированной литературной речи была завершена только к концу первой трети XX в.[99]
Еще одним важным результатом 1905–1907 гг., имевшим несомненное значение для активизации, политизации и политического оформления движения, равно как и для становления украинской нации, стал первый опыт российского парламентаризма. Украинское движение использовало появившуюся Государственную думу для публичного изложения своих требований и поиска союзников. В 1-й и 2-й Думах имелись украинские громады, члены которых состояли в различных левых фракциях. В 3-й и 4-й Думах особых украинских объединений не было. Далеко не все делегаты, избранные от малороссийских губерний, в том числе крестьяне, входили в состав украинских громад. По оценке М. Грушевского, из 62 депутатов от украинских губерний 1-й Думы большинство были малороссы, то есть люди, придерживавшиеся общерусской, а не украинской идентичности[100]. Понятно, что они были противниками украинства.
Депутаты-«украинцы» выступали за предоставление Украине национальной и территориальной автономии и изменение статуса украинского языка. Позиция украинских громад и депутатов была крайне нерешительной, они постоянно оглядывались на действия польского кола (фракции) и ход обсуждения польского вопроса[101]. Чаще инициативу в украинском вопросе проявляли их российские коллеги-депутаты. Но вне зависимости от того, кто «эксплуатировал» украинский вопрос, с парламентской трибуны на весь мир было заявлено о существовании особой национальной общности – украинского народа, имеющего свои интересы и добивающегося национальных прав.
Заметно эволюционировало в отношении к украинскому вопросу и российское общественное мнение. Прежде всего это касалось либеральной и левой общественности, настроенной оппозиционно к власти (да и, как оказалось, к России вообще). Именно она первой отказалась от концепции триединой русской нации, встав на точку зрения украинского движения и в целом признав его требования законными и правомерными. В украинском движении они видели союзника против правительства, а украинский вопрос использовали как повод к очередному фрондерству, дискредитации власти и обвинению ее в косности и недемократизме.
Весьма деятельными защитниками политического украинства были представители Конституционно-демократической партии, озвучивавшие с думской трибуны позицию движения и поддерживавшие украинский вопрос на слуху. Так, лидер партии П. Н. Милюков отстаивал право преподавания в школах Малороссии и Белоруссии на украинском и белорусском языках, употребление украинского в местной администрации[102]. И в целом он поддерживал цели украинского движения по эмансипации народных масс в нацию. Еще радикальнее были левые. К примеру, на состоявшейся в 1912 г. конференции Трудовой партии украинцы и белорусы были объявлены самостоятельными народностями[103].
Сдвиг в общественном мнении был налицо. И все же значительная часть образованного общества и даже тех либералов, для которых интересы демократии и свободы не означали необходимости сокрушения основ России, продолжала мыслить в категориях общерусского единства. Даже если они и признавали наличие украинского народа, они не считали, что его существование обязательно должно означать разрыв с русской культурой и т. п., что опять же было проявлением подсознательного восприятия единства и русскости украинцев.
Социальный состав и численность движения






