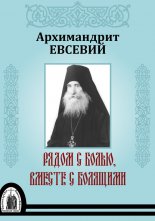Литература. 8 класс. Часть 1 Колокольцев Евгений

Теоретическое осмысление такого сложнейшего явления, как русская литература XX века, очевидно, ещё впереди. Однако обращение к реалистическим произведениям и к произведениям писателей и поэтов других направлений несёт в нашу жизнь стремление сделать её совершеннее, расширяет возможности познания мира, обогащает мир чувств читателя.
Вопросы и задания
2. Какое литературное направление является ведущим в русской литературе XX века?
3. Сопоставьте известные вам произведения XIX и XX веков. Определите их темы.
Иван Алексеевич Бунин
(1870–1953)
И. А. Бунин
- Канарейку из-за моря
- Привезли, и вот она
- Золотая стала с горя,
- Тесной клеткой пленена.
- Птицей вольной, изумрудной
- Уж не будешь, – как ни пой
- Про далекий остров чудный
- Над трактирною толпой!
«Казалось, что Бунин имел в жизни всё, что человек на земле может желать: долголетие, талант, красоту, славу… и, имея всё это, смиряясь и не сдаваясь, оставался он вместе с нами, в нашей нищете и изгнании.
Он много знал, много страдал и многое возлюбил.
Был он Поэт и, пытаясь возвышать и преображать жизнь, платил за всё дорогою ценой» – такие слова прозвучали в Париже в ноябре 1953 года, когда друзья и родные провожали в последний путь замечательного русского поэта и писателя.
Иван Бунин провёл детство в обедневшем родовом имении на хуторе Бутырки Орловской губернии среди «моря хлебов, трав, цветов». Не окончив гимназии, Бунин отправляется на поиски своей судьбы: он работает корректором, библиотекарем, газетным репортёром… В 1891 году вышел первый сборник его стихов, за ним последовали другие. Поэзия Бунина – это песнь о родине, о её «бедных селеньях», необъятных лесах в «атласном блеске березняка». За сборник «Листопад», который был посвящён Горькому, поэт получил в 1901 году Пушкинскую премию.
В эти же годы Бунин создаёт прозаические произведения: рассказы «Антоновские яблоки», «Сосны», «Чернозём» и многие другие. Они производят на современников сильное впечатление, словно подтверждая это, Горький скажет: «…Он так стал писать прозу, что если скажут о нём: это лучший стилист современности – здесь не будет преувеличения». В 1909 году Академия наук избирает его почётным академиком.
Враждебно встретив революцию, Бунин в 1920 году эмигрировал во Францию. За рубежом творчество писателя не утратило своей яркости и неразрывной связи с Родиной. В эмиграции Бунин оставался одним из самых значительных и ярких русских писателей. В 1933 году ему была присуждена Нобелевская премия. В 1954 году, на Втором съезде писателей СССР, его, жившего за рубежами Родины, назвали «классиком рубежа двух столетий». Во Франции им были созданы сборники рассказов «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Под серпом и молотом», цикл портретов (Горький, Маяковский, Волошин)…
Бунин так и не узнал, что Лев Толстой, читая его раннюю прозу, сказал: «Идёт дождик, – и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Это суждение прозвучало в начале века, и годы только оттачивали мастерство. В 1915 году поэт напишет пророческие строки.
Слово
- Молчат гробницы, мумии и кости, —
- Лишь слову жизнь дана:
- Из древней тьмы, на мировом погосте,
- Звучат лишь Письмена.
- И нет у нас иного достоянья!
- Умейте же беречь
- Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
- Наш дар бессмертный – речь.
Теперь уже ясно: речь была сохранена, она возрождалась в стихах и прозе. Вот как в изгнании в последние годы жизни будет звучать русское слово.
Русская сказка
Ворон
- Ну что, бабушка, как спасаешься?
- У тебя ль не рай, у тебя ль не мёд?
Яга
- Ах, залётный гость! Издеваешься!
- Уж какой там мёд – шкуру пёс дерёт!
- Лес гудит, свистит, нагоняет сон,
- Ночь и день стоит над волной туман,
- Окружён со всех с четырёх сторон
- Тьмой да мглой сырой островок Буян.
- А ещё темней мой прогнивший сруб,
- Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
- А в окно глядит только голый дуб,
- Под каким яйцо закопал Кощей.
- Я состарилась, изболела вся,
- Сохраняючи чёртов тот ларец!
- Будь огонь в светце – я б погрелася,
- Будь капустный клок – похлебала б щец.
- Да огонь-то, вишь, в океане – весть,
- Да не то что щец – нету прелых лык!
Ворон
- Чёрт тебе велел к чёрту в слуги лезть,
- Дура старая, неразумный шлык!
Это конец 1921 года. Сказка это или притча – решать читателям.
Можно прочесть и прямой отклик на жизнь в изгнании. В наследии поэта есть такое стихотворение (1920).
Изгнание
- Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
- Поля и океан…
- Кто утолит в пустыне, на чужбине
- Боль крестных ран?
- Гляжу вперёд на чёрное распятье
- Среди дорог —
- И простирает скорбные объятья
- Почивший Бог.
Среди созданных в эмиграции произведений – замечательный автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1930 г., Париж; в Москве впервые издано в однотомнике 1961 г.).
Замысел романа жил в сознании писателя давно. В дневниковой записи от 7 мая 1940 года можно прочесть: «Жизнь Арсеньева» («Истоки дней») вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29.
Исследователи считают, что прототипы «Жизни Арсеньева» «прозрачны», узнаваемы. Некоторые прямо утверждают, что Алексей Арсеньев – сам Ваня Бунин, Александр Сергеевич Арсеньев – отец Бунина, Алексей Николаевич, Георгий – брат Юлий, Николай – брат Евгений. Родной хутор Бутырки Елецкого уезда, где «в вечной тишине» полей протекало детство писателя, назван в романе Каменка.
Жизнь Арсеньева. В сокращении
Книга первая
XI
Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму… Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.
Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в чёрных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлён и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и своё живое, осмысленное выраженье: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребёнок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему…
И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелёгкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретёнными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своём роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним своё ученье. Я перенёс первую тяжёлую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки… <…>
XIV
Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъёмные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклонённого юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века. И как у тебя бьётся сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своём веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребёнком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских кремлях и доныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошёл в костёл, хотя это был всего-навсего костёл в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в развёрстых небесах ангельские гласы…
А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому-то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – всё чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле неё в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! <…>
В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к её перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Всё это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющихся в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-жёлтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я всё, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, всё это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!
XV
Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:
- У лукоморья дуб зелёный,
- Златая цепь на дубе том…
Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во всё моё существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «учёный» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нём и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки, и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «учёный» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зелёный дуб, златая цепь), а потом – сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:
- Там лес и дол видений полны,
- Там о заре прихлынут волны
- На брег песчаный и пустой,
- И тридцать витязей прекрасных
- Чредой из волн выходят ясных,
- И с ними дядька их морской…
У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав». Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей…» А «Страшная месть»!
«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости…»
«Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, чёрным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но ещё больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец…»
И дальше:
«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла ещё далее в чащу сосен… Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: чёрные козацкие шапки набекрень, и под вёслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны…»
А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на её руках ребёнка: «На том платке были вышиты красным шёлком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дёргал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи…»
Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.
«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними ещё гора, а там уже и поле, а там хоть сто вёрст пройди, не сыщешь ни одного козака…»
Да, вот это было мне нужно!
«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид, как у простых козаков, и в ней одна светлица… Вокруг стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья… Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на верёвках, продетых в кольо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы…»
Несравненней всего – эпилог:
«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро…»
«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, – чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему…
XVI
Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряжённо жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной.
Подлинная жизнь была бедна.
Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь всё-таки только поле да небо видел я. <…>
XIX
<…> В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», – решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», – через мгновенье ещё решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я ещё не выдержу…»
Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили «чётко и красиво» написать: «Снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть: «Румяной зарёю покрылся восток…» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошёл до пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробужденье, и он поспешно сказал:
– Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь…
Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Всё вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, лёгкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!
Сказочная дорога в город, в котором я не был со времён моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трёхэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощёного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-чёрные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.
После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне даётся отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, – у меня ещё более. Всё вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рожденья до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! – точно этим трём неделям и конца не предвиделось.
– Ну-с, зайдём теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.
И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и всё что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из чёрного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и чёрной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец:
– И на чёрта ему эти амаликитяне? <…>
Книга вторая
V
Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был такой, что мнилось: всё кончено! Но, может, ещё ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Всё с иголочки, всё прочно, ловко, всё радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженых головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради… А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор её, сверкающие на солнце стёкла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким-то сугубым возбужденьем вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведёт и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумлённых глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой… Через несколько дней всё это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы…
Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделываясь своей способностью быстро всё схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казённо. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, тёмными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремлёнными глазами…
Что ещё сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Всё то же хождение в классы, всё то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, всё та же неотступная мечта о будущих каникулах, всё тот же счёт дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они! <…>
XV
Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной.
Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…
Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась ещё одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всём моём существе.
Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идёт в нём, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А ещё через некий срок внезапно лопаются почки – и чёрный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зелёные мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый тёплый ливень – и опять, ещё раз совершается диво: дерево стало уже так тёмно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь… Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни —
- Когда в таинственных долинах,
- Весной, при кликах лебединых,
- Близ вод, сиявших в тишине,
- Являться стала муза мне…
Ни лицейских садов, ни царскосельских озёр и лебедей, ничего этого мне, потомку «промотавшихся отцов» в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой – всё это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал» я, очень не походило на царскосельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, – те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали её! И не всё ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить!
XVI
Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих… Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу.
Как в старинных стихах:
- Мне возвращён был кров родимый,
- Дарован мир степной глуши,
- Привычный быт и круг любимый
- И жар восторженной души…
Почему я возвратился под этот кров, почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события?
Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура.
– Нет, – говорил он, – призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..
В самом деле, многое сложилось против моего казённого учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и моё призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино.
Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, – его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нём, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То, весьма, в сущности, неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но всё-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, – «нельзя жить плакучей ивой», что «жизнь всё-таки великолепная вещь», как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо-чудесное – словесное творчество. И в мою душу запало твёрдое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные. <…>
Книга третья
VIII
Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни.
Когда он вошёл в меня? Я слышал о нём с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал всё только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в её собственном девичьем альбоме… Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным.
Никак не отделим был от неё и Лермонтов:
- Немая степь синеет, и кольцом
- Серебряным Кавказ её объемлет,
- Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
- Как великан, склонившись над щитом,
- Рассказам волн кочующих внимая,
- А море Чёрное шумит, не умолкая…
Какой дивной юношеской тоске о далёких странствиях, какой страстной мечте о далёком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу! И всё-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!
Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:
- Ещё ты дремлешь, друг прелестный…
Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:
- Вопросами: тепло ль? утихла ли метель,
- Пороша есть иль нет? И можно ли постель
- Оставить для седла, иль лучше до обеда
- Возиться с старыми журналами соседа?
Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту:
- Спеши, моя краса,
- Звезда любви златая
- Взошла на небеса!
Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:
- Слыхали ль вы за рощей глас ночной
- Певца любви, певца своей печали?
Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою юношескую любовь или, вернее, жажду её – я или он?
- Морфей, до утра дай отраду
- Моей мучительной любви!
А там опять «роняет лес багряный свой убор», и «страждут озими от бешеной забавы» – той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:
- Как быстро в поле, вкруг открытом,
- Подкован вновь, мой конь бежит,
- Как звонко под его копытом
- Земля промёрзлая стучит!
Ночью же тихо всходит над нашим мёртвым чёрным садом большая мглисто-красная луна – и опять звучат во мне дивные слова:
- Как привидение, за рощею сосновой
- Луна туманная взошла, —
и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далёкой стране, идёт в этот тихий час -
- К брегам, потопленным шумящими волнами…
Вопросы и задания
2. Опишите приёмный экзамен в гимназию. Что спрашивали у Алёши? Знаете ли вы, кто такие амаликитяне? Как отнёсся к этому вопросу отец Алёши?
3. Опишите первый бал, на котором удалось побывать герою. Сочувствуете ли вы его переживаниям и понятны ли они вам?
2. Согласны ли вы с Алёшей Арсеньевым, что знакомые строки «У лукоморья дуб зелёный…» так хороши, что их заслуженно можно назвать «колдовскими»?
3. Как Алёше удаётся доказать, что «Страшная месть» Н. В. Гоголя утверждает торжество справедливости? Убедил ли он вас в этом?
4. Попробуйте дать собственный комментарий к стихотворениям Пушкина, о которых говорится в тексте. Используйте опыт рассуждений, которые вы нашли на страницах произведения Бунина.
5. Оцените Алёшу как читателя. Согласны ли вы с его оценками книг и авторов?
Максим Горький
(1868–1936)
Человека создаёт его сопротивление окружающей среде.
М. Горький
Как сложилась жизнь Алексея Пешкова, который впоследствии стал Максимом Горьким? Наиболее убедительно суждение писателя Евгения Замятина: «Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были похожи друг на друга и всё-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли в жизни рядом.
Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем „Пешков“ был тот самый, кто выбрал для себя псевдоним „Горький“».
В послереволюционные годы Максим Горький отдавал все силы для того, чтобы спасти лучших людей нации, её ум и совесть, он не только стремится спасти невиновных, он создаёт различные учреждения, которые, с одной стороны, показывали веру в возможность расцвета культуры, а с другой стороны, спасали от голодной смерти десятки людей: издательство «Всемирная литература», Комитет исторических пьес, Дом искусств, Дом учёных. Планы Горького походили на сооружение грандиозного здания, они были рассчитаны на десятки лет. В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы, эти затеи казались в лучшем случае утопическими. Но Горький в них верил («надо верить») и своей верой сумел заразить многих скептиков. «Мне приходилось, – пишет Е. Замятин, – встречаться с ним очень часто, и помню, я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулёзом, хватает сил на всё…»
Но времена менялись, сил становилось всё меньше. Глубокой осенью 1921 года Горький выехал за границу. Возвратиться на Родину хотелось как можно быстрее, однако мешали самые различные обстоятельства: сложные отношения с Л. Троцким, враждебные с Г. Зиновьевым…
В 1922 году Горький завершил работу над повестью «Мои университеты» – последней книгой автобиографической трилогии.
Прошли годы. Горький несколько раз приезжал в Россию – в 1928, 1929, 1931, 1932, 1933 годах – на несколько месяцев. Один из исследователей жизни писателя пишет: «Когда уехал Горький? Горький уехал при Ленине, уехал потому, что не мог оставаться. Когда вернулся Горький? Вернулся при Сталине. Вернулся потому, что не мог не вернуться». Горькому показали, как его любят на Родине и доказали, что он необходим России как организатор литературных сил.
Писатель поверил, он был убеждён, что новая Россия строит новую жизнь, и готов встать на её защиту. 15 ноября 1930 года появляется его статья под грозным заголовком «Если враг не сдаётся, его уничтожают», она одновременно появилась в газетах «Правда» и «Известия». Этот жестокий афоризм остался надолго в памяти людей.
9 мая 1933 года. Возвращение в СССР. Интенсивная литературная и издательская деятельность: серия «Библиотека поэта», альманах «Год шестнадцатый» и др. Подготовка к писательскому съезду.
1934 год. Работа над четвёртым томом романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина», публицистическими и критическими статьями. Проведение Первого Всесоюзного съезда писателей.
18 июня 1936 года Максим Горький умер.
Е. Замятин утверждал: «Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь – это книга, это увлекательный роман».
Мои университеты. В сокращении
Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.
Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».
– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.
Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казённую стипендию, и лет через пять я буду «учёным». Всё – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.
Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.
Провожая меня, бабушка советовала:
– Ты – не сердись на людей, ты сердишься всё, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а – что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не Бог людей судит, это – чёрту лестно! Прощай, ну…
И, отирая с бурых, дряблых щёк скупые слёзы, она сказала:
– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру…
За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.
Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой – концом старенькой шали – отирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.
И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами – обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.
Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровенных парней, не считая себя самоё?
Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадёжное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает – не вывезу, – а всё-таки везёт!
Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:
– Вы зачем приехали?
– Учиться, в университет.
Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:
– О, чёрт…
Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:
– Вы хорошо умеете чистить картофель.
Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:
– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?
В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.
Она вздохнула:
– Ах, Николай, Николай…
А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.
– Мама, хорошо бы пельмени сделать!
– Да, хорошо, – согласилась мать.
Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.
Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:
– Не в духе…
Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется – швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.
Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренне желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зёрна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.
Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.
Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.
Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:
– Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь – всё её достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт!
Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».
– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.
Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.
– Баба, баба! – выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на всё пойду. Для неё, как для чёрта, – нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!
Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространённая песня:
- Не красива я, бедна,
- Плохо я одета,
- Никто замуж не берёт
- Девушку за это…
Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.
– Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.
– Что значит – духовный?
– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство…
Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:
«Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свияжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у…
…И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. „Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя“. Знаю – врёт, а верю – правда! Умом – твёрдо знаю, сердцем – не верю, никак!»
Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.
Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.
Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:
– Этот царь в своём деле мастер!
Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.
Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под тёмным небом с тусклыми звёздами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в чёрную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колёс пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьёт молот по железу, заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.
И ещё грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своём, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.
– А вот со мной был случай, – говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.
Выслушав рассказ, люди соглашаются:
– Бывает и так, – всё бывает…
«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, – всё уже было, больше ничего не будет!
Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но всё-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьёзных книг – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем всё, что я видел.
И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнёв. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких чёрных точках, точно натёртым порохом, неугасимо весёлый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьём музыки, любя её, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.
Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.
Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьём; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.
Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:
– Хлеба!
В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:
– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!
Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:
– К чёрту! Вон!
Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:
– Эвклид – дурак! Дур-рак… Я докажу, что Бог умнее грека!
И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.
Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя от математики – доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.
Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места – по возрасту.
Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.
У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.
– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!
Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.
С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.
Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета. <…>
Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.
После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.
Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:
«Зачем всё это?»
Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скулатый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:
– Жив быть не хочу, а – разорю их вдребезги! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»