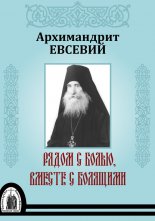Литература. 8 класс. Часть 1 Колокольцев Евгений

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
– Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:
– Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивлённо приподнял белёсые бровки.
– Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:
– Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнёшь – он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, – я три раза шагаю, так и идём с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине бредёт или леденику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. <…>
– Ты что же, всю войну за баранкой?
– Почти всю.
– На фронте?
– Да.
– Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.
Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. <…>
Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.
– Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В Гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни – хоть шаром покати, – нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, весёлая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть – не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней её, не было на свете и не будет! <…>
Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года ещё две девочки… Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.
В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…
Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!
За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе…
А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий – пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька и Олюшка. <…> Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся… мы с тобой… больше… на этом… свете…»
Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе…
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы…
– Не надо, друг, не вспоминай! – тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:
– До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!.. <…>
Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне – мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в памяти – мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз… По большей части такой я её и во сне всегда вижу… Зачем я её тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…
Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нём и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, всё в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что ещё можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. <…>
Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по лёгкости: один раз – в мякоть руки, другой – в ногу; первый раз – пулей с самолёта, другой – осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…
Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен проскочить, и баста!» – «Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю железку!» <…>
Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на просёлок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда – не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.
Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, – сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идёт… Это как?
Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я – уже в окружении, а скорее сказать – в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает… <…>
Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно…
Думал, все прошли. Приподнял голову, а их шесть автоматчиков – вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, – думаю, – и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дёрнул, автомат снял. <…>
Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», – соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат – я ему прямо в глаза гляжу, молчу, – а другой, ефрейтор что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» – и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын! <…>
Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад в плен!.. А ходок тогда из меня был некудышный. В час по километру, не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был.
Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шёл, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкою автомата по голове. Упади я, – и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошёл.
Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули ещё человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле чёрт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожжённое село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу – ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастёрок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И ещё артиллерийская прислуга была без гимнастёрок. Как работали возле орудий растелешённые, так и в плен попали.
Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. <…> Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я – военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твёрдо так говорит: «Сымай гимнастёрку и нижнюю рубашку». Я снял всё это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он всё щупает и злобно так отвечает: «Твоё дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас ещё больнее будет». Да с тем как дёрнет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.
Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты её так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я её на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потёмках своё великое дело делал.
Беспокойная это была ночь. <…>
Утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырёх и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трёх русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» – и всё.
Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. <…>
Видишь, какое дело, браток, ещё с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашёлся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мёрло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошёл за куст… А потом – бегом, держу прямо на восход солнца…
Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, – сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвёртые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.
На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трёх километров, я и залёг в овсе на днёвку. Намял в ладонях зёрен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки всё ближе голоса подают. Лёг я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня всё моё рваньё. Остался в чём мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока ещё не трогает.
На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но всё-таки живой… живой я остался!..
Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, – сердце уже не в груди, а в глотке бьётся, и трудно становится дышать…
Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и чёрт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.
Били за то, что ты – русский, за то, что на белый свет ещё смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнёшь, не так повернёшься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.
И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток – где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору. <…>
И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шёл, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться – то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже ещё хуже. Но вечером нам еды не полагалось.
Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же из своих какой-то подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горькие слова.
Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да ещё на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком – барак они так называли, – идёт перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлёте. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почём зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, – уж он по-русски не ругался бы, а только на своём языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, – говорит, – я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».
Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошёл. Иду по лагерному двору, на звёзды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному – номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться всё-таки трудно…
В комендантской – цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом – всё лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, мочёные яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и – не поверишь – так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнёт, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки – это много?» – «Так точно, – говорю, – герр комендант, много». – «А одного тебе на могилу хватит?» – «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».
Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». – «Воля ваша», – говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и всё это подаёт мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».
Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнём обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»
Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить на нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», – говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».
Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щёки. Фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.
Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.
После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты – настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я – тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», – и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.
Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от неё потянуло…
Вышел я из комендантской на твёрдых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши ещё в потёмках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» – спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», – говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учёт, ну, а сала, сам понимаешь, – только губы помазать. Однако поделили без обиды.
Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом – в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвёртого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофёром, – шаг вперёд». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» – была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.
Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нём, я так определил, не менее трёх пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет – только держись! Целый день, бывало, жуёт да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, – и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое.
Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролёт думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.
Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? <…>
Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его ещё раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идёт.
Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошёл на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулемётов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и дышать мне нечем…
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёртов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлёп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника – командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошёл мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».
Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь». <…>
Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал всё коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить…
Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идёт, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что ещё в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжёлая бомба попала прямо в мою хатёнку. Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатёнки – глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилёг я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбёжки был в городе. Вечером вернулся в посёлок, посмотрел на яму и в ночь опять ушёл в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и всё.
Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда подсказывало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я её тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и всё рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я – крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе… Значит, я два года с мёртвыми разговаривал?!
Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:
– Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. <…>
Молчать было тяжело, и я спросил:
– Что же дальше?
– Дальше-то? – нехотя отозвался рассказчик. – Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошёл на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.
Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. <…>
И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер… <…>
Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далёкий путь, и будто что-то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, демобилизованный ещё зимою по ранению, – он когда-то приглашал меня к себе, – вспомнил и поехал в Урюпинск.
Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.
Из рейса, бывало, вернёшься в город – понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует… И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день – опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечёсаный, а глазёнки – как звёздочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, – кто что даст.
На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки широко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и всё знаю.
Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». – «А мама?» – «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». – «А откуда вы ехали?» – «Не знаю, не помню…» – «И никого у тебя тут родных нету?» – «Никого». – «Где же ты ночуешь?» – «А где придётся».
Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я – твой отец».
Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, – побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмётся ко мне изо всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.
Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чём дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дёргает её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». <…>
Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним – дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждёт. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слёзы точил, вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.
Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился я очень, и он – то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чём думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда своё кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», – говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошёл и проехал, а ты в Урюпинске оказался». – «А Урюпинск – это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.
А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, всё это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит всё и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.
Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, – он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофёром, – и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком. <…>
– Тяжело ему идти, – сказал я.
– Так он вовсе мало на своих ногах идёт, всё больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, – слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козлёнок. Всё это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять… Иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут ещё одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И всё больше так, что я – за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всём и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, – они уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днём я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слёз…
В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твёрдую, как дерево, руку:
– Прощай, браток, счастливо тебе!
– И тебе счастливо добраться до Кашар.
– Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.
Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина.
С тяжёлой грустью смотрел я им вслед… Может быть, всё и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное – уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное – не ранить сердце ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…
Как вы понимаете название рассказа «Судьба человека»? Почему не «Судьба Соколова»? Попробуйте доказать, что название, данное автором, самое удачное.
1. Как вы понимаете слово «судьба»? Приходилось ли вам задумываться о судьбе какого-то человека, о судьбе целого народа, о собственной судьбе?
2. В кратком словаре синонимов русского языка слову «судьба» даны такие синонимы: «доля», «удел», «жребий», «участь», «предопределение», «рок», «фатум». Смогли бы вы объяснить разницу между эими словами?
3. Объясните, чем вызвано активное включение в рассказ разговорной речи.
1. Составьте план рассказа и выделите в нём тот пункт, который указывает на кульминацию.
2. Подготовьте рассказ о судьбе Андрея Соколова.
Александр Трифонович Твардовский
(1910–1971)
Есть старинная поговорка: «Когда говорят пушки, музы молчат». Однако Великая Отечественная война опровергла её. С самых первых дней войны стали рождаться прекрасные стихи, песни, романы, драмы, яркая публицистика. Одним из самых популярных произведений на фронте и в тылу стала поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» («Книга про бойца»). Высоко оценил её И. А. Бунин: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».
Александр Твардовский родился, провёл своё детство и юные годы в крестьянской семье на Смоленщине. Великим тружеником был его отец, глава большой семьи, Трифон Гордеевич Твардовский, деревенский кузнец. «Семья еле сводила концы с концами, – вспоминает младший брат писателя Иван Твардовский, – изнурительный труд на пашне в мелких болотцах, замшелых березнячках, кочковатых полянках не вознаграждался желанным урожаем. На отвоёванных у кустарников нивах озимые подопревали, и их нередко приходилось пересеивать яровыми. Но пороха у отца всегда хватало, и он, не щадя сил, упорно продолжал работать, облагораживая своё „имение“».
Семья Твардовских очень интересно проводила зимние вечера. Трифон Гордеевич был страстным любителем чтения, хотя и окончил всего три класса церковно-приходской школы. Он знал наизусть много стихотворений, семейное чтение стало традицией в его доме. С этих читок начиналось приобщение к литературе будущего поэта. В доме, в красном углу, под образами, на полочке стояли тома сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Данилевского, Кольцова, Никитина, Тютчева, Помяловского, Аксакова, Жюля Верна. В селе с удивлением смотрели на семью Твардовских и часто объясняли их материальные трудности увлечением грамотой.
В поэме «За далью – даль» Александр Твардовский так отозвался об отцовской кузнице:
- На малой той частице света
- Была она для всех вокруг
- Тогдашним клубом, и газетой,
- И Академией наук.
Будущий поэт испытывал большую тягу к знаниям и творчеству. Он постепенно отходил от хуторского хозяйства, уезжал на учёбу, а в 1928 году и вовсе покинул хутор.
Начал Твардовский свой творческий путь сельским корреспондентом. Известность пришла к нему с поэмой «Страна Муравия», напечатанной сначала в 1936 году в Смоленске.
В конце 30-х годов Твардовский обратился к военной теме. Поэта волнует жизнь народа в годы сложных поворотов истории.
В сентябре 1939-го Твардовский участвует в походе в Западную Белоруссию, а затем – в войне с Финляндией. Эти события нашли отражение в стихах о героических подвигах танкистов, лётчиков, шофёра Володи Артюха и многих других солдат, прорывавших «линию Маннергейма».
Перед самой войной 11–21 июня 1941 года он написал стихи, которые можно воспринимать как наброски к поэме о Тёркине:
- Там, в боях полубезвестных,
- В сосняке болот глухих
- Смертью храбрых, смертью честных
- Пали многие из них.
- Там, за той рекой Сестрою,
- На войне, в снегах по грудь,
- Золотой Звездой героя
- Многих был отмечен путь.
- Стоил он, тот путь, не мало,
- Преграждён лютой зимой,
- Тьмой лесной, огнём, металлом,
- Надолб каменным оскалом,
- Льдом, водой, землёй самой.
В 1942 году Твардовский продолжает работу над образом Тёркина, но уже как бойца новой большой войны. Тёркин – весёлый, неунывающий, умеющий поддержать в себе и людях оптимистичное настроение. Однако поэма создавалась длительное время, и в характере Тёркина произошли определённые изменения, он как бы дан автором в развитии. Герой меняется вместе с теми событиями, участником которых он является. По мере приближения победы герой всё больше погружается в себя, в его образе просвечивается всё больше индивидуального, частного.
Василий Тёркин. Книга про бойца. В сокращении
- В поле вьюга-завируха,
- В трёх верстах гудит война.
- На печи в избе старуха,
- Дед-хозяин у окна.
- Рвутся мины. Звук знакомый
- Отзывается в спине.
- Это значит – Тёркин дома,
- Тёркин снова на войне.
- А старик как будто ухом
- По привычке не ведёт.
- – Перелёт! Лежи, старуха. —
- Или скажет:
- – Недолёт…
- На печи, забившись в угол,
- Та следит исподтишка
- С уважительным испугом
- За повадкой старика,
- С кем жила – не уважала,
- С кем бранилась на печи,
- От кого вдали держала
- По хозяйству все ключи.
- А старик, одевшись в шубу
- И в очках подсев к столу,
- Как от клюквы, кривит губы —
- Точит старую пилу.
- – Вот не режет, точишь, точишь,
- Не берёт, ну что ты хочешь!.. —
- Тёркин встал:
- – А может, дед,
- У неё развода нет?
- Сам пилу берёт:
- – А ну-ка… —
- И в руках его пила,
- Точно поднятая щука,
- Острой спинкой повела.
- Повела, повисла кротко.
- Тёркин щурится:
- – Ну вот.
- Поищи-ка, дед, разводку,
- Мы ей сделаем развод.
- Посмотреть – и то отрадно:
- Завалящая пила
- Так-то ладно, так-то складно
- У него в руках прошла.
- Обернулась – и готово.
- – На-ко, дед, бери, смотри.
- Будет резать лучше новой,
- Зря инструмент не кори.
- И хозяин виновато
- У бойца берёт пилу.
- – Вот что значит мы, солдаты, —
- Ставит бережно в углу.
- А старуха:
- – Слаб глазами,
- Стар годами мой солдат.
- Поглядел бы, что с часами,
- С той войны ещё стоят…
- Снял часы, глядит: машина,
- Точно мельница, в пыли.
- Паутинами пружины
- Пауки обволокли.
- Их повесил в хате новой
- Дед-солдат давным-давно:
- На стене простой сосновой
- Так и светится пятно.
- Осмотрев часы детально, —
- Всё ж часы, а не пила, —
- Мастер тихо и печально
- Посвистел:
- – Плохи дела…
- Но куда-то шильцем сунул,
- Что-то высмотрел в пыли,
- Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
- Что ты думаешь, – пошли!
- Крутит стрелку, ставит пятый,
- Час – другой, вперёд – назад.
- – Вот что значит мы, солдаты, —
- Прослезился дед-солдат.
- Дед растроган, а старуха,
- Отслонив ладонью ухо,
- С печки слушает:
- – Идут!
- Ну и парень, ну и шут…
- Удивляется. А парень
- Услужить ещё не прочь.
- – Может, сало надо жарить?
- Так опять могу помочь.
- Тут старуха застонала:
- – Сало, сало! Где там сало…
- Тёркин:
- – Бабка, сало здесь.
- Не был немец – значит, есть!
- И добавил, выжидая,
- Глядя под ноги себе:
- – Хочешь, бабка, угадаю,
- Где лежит оно в избе?
- Бабка охнула тревожно,
- Завозилась на печи.
- – Бог с тобою, разве можно…
- Помолчи уж, помолчи.
- А хозяин плутовато
- Гостя под локоть тишком:
- – Вот что значит мы, солдаты,
- А ведь сало под замком.
- Ключ старуха долго шарит,
- Лезет с печки, сало жарит
- И, страдая до конца,
- Разбивает два яйца.
- Эх, яичница! Закуски
- Нет полезней и прочней.
- Полагается по-русски
- Выпить чарку перед ней.
- – Ну, хозяин, понемножку,
- По одной, как на войне.
- Это доктор на дорожку
- Для здоровья выдал мне.
- Отвинтил у фляги крышку:
- – Пей, отец, не будет лишку.
- Поперхнулся дед-солдат,
- Подтянулся:
- – Виноват!..
- Крошку хлебушка понюхал.
- Пожевал – и сразу сыт.
- А боец, тряхнув над ухом
- Тою флягой, говорит:
- – Рассуждая так ли, сяк ли,
- Всё равно такою каплей
- Не согреть бойца в бою,
- Будьте живы!
- – Пейте.
- – Пью…
- И сидят они по-братски
- За столом, плечо в плечо.
- Разговор ведут солдатский,
- Дружно спорят, горячо.
- Дед кипит:
- – Позволь, товарищ,
- Что ты валенки мне хвалишь?
- Разреши-ка доложить.
- Хорошо? А где сушить?
- Не просушишь их в землянке,
- Нет, ты дай-ка мне сапог,
- Да суконные портянки
- Дай ты мне – тогда я бог!
- Снова где-то на задворках
- Мёрзлый грунт боднул снаряд.
- Как ни в чём – Василий Тёркин,
- Как ни в чём – старик солдат.
- – Эти штуки в жизни нашей, —
- Дед расхвастался, – пустяк!
- Нам осколки даже в каше
- Попадались. Точно так.
- Попадёт, откинешь ложкой,
- А в тебя – так и мертвец.
- – Но не знали вы бомбёжки,
- Я скажу тебе, отец.
- – Это верно, тут наука,
- Тут напротив не попрёшь.
- А скажи, простая штука
- Есть у вас?
- – Какая?
- – Вошь.
- И, макая в сало коркой,
- Продолжая ровно есть,
- Улыбнулся вроде Тёркин
- И сказал:
- – Частично есть…
- – Значит, есть? Тогда ты воин,
- Рассуждать со мной достоин.
- Ты – солдат, хотя и млад,
- А солдат солдату – брат.
- И скажи мне откровенно,
- Да не в шутку, а всерьёз.
- С точки зрения военной
- Отвечай на мой вопрос.
- Отвечай: побьём мы немца
- Или, может, не побьём?
- – Погоди, отец, наемся,
- Закушу, скажу потом.
- Ел он много, но не жадно,
- Отдавал закуске честь,
- Так-то ладно, так-то складно,
- Поглядишь – захочешь есть.
- Всю зачистил сковородку,
- Встал, как будто вдруг подрос,
- И платочек к подбородку,
- Ровно сложенный, поднёс.
- Отряхнул опрятно руки
- И, как долг велит в дому,
- Поклонился и старухе
- И солдату самому.
- Молча в путь запоясался,
- Осмотрелся – всё ли тут?
- Честь по чести распрощался,
- На часы взглянул: идут!
- Всё припомнил, всё проверил,
- Подогнал и под конец
- Он вздохнул у самой двери
- И сказал:
- – Побьём, отец…
- В поле вьюга-завируха,
- В трёх верстах гремит война.
- На печи в избе – старуха.
- Дед-хозяин у окна.
- В глубине родной России,
- Против ветра, грудь вперёд,
- По снегам идёт Василий
- Тёркин. Немца бить идёт.
- Я покинул дом когда-то,
- Позвала дорога вдаль.
- Не мала была утрата,
- Но светла была печаль.
- И годами с грустью нежной —
- Меж иных любых тревог —
- Угол отчий, мир мой прежний
- Я в душе моей берёг.
- Да и не было помехи
- Взять и вспомнить наугад.
- Старый лес, куда в орехи
- Я ходил с толпой ребят.
- Лес – ни пулей, ни осколком
- Не пораненный ничуть,
- Не порубленный без толку,
- Без порядку как-нибудь;
- Не корчёванный фугасом,
- Не поваленный огнём,
- Хламом гильз, жестянок, касок
- Не заваленный кругом;
- Блиндажами не изрытый,
- Не обкуренный зимой,
- Ни своими не обжитый,
- Ни чужими под землёй.
- Милый лес, где я мальчонкой
- Плёл из веток шалаши,
- Где однажды я телёнка,
- Сбившись с ног, искал в глуши…
- Полдень раннего июня
- Был в лесу, и каждый лист,
- Полный, радостный и юный,
- Был горяч, но свеж и чист.
- Лист к листу, листом прикрытый,
- В сборе лиственном густом
- Пересчитанный, промытый
- Первым за лето дождём.
- И в глуши родной ветвистой,
- И в тиши дневной, лесной
- Молодой, густой, смолистый,
- Золотой держался зной.
- И в спокойной чаще хвойной
- У земли мешался он
- С муравьиным духом винным
- И пьянил, склоняя в сон.
- И в истоме птицы смолкли…
- Светлой каплею смола
- По коре нагретой елки,
- Как слеза во сне, текла…
- Мать-земля моя родная,
- Сторона моя лесная,
- Край недавних детских лет,
- Отчий край, ты есть иль нет?
- Детства день, до гроба милый,
- Детства сон, что сердцу свят,
- Как легко всё это было
- Взять и вспомнить год назад.
- Вспомнить разом что придётся —
- Сонный полдень над водой,
- Дворик, стёжку до колодца,
- Где песочек золотой;
- Книгу, читанную в поле,
- Кнут, свивающий с плеча,
- Лёд на речке, глобус в школе
- У Ивана Ильича…
- Да и не было запрета,
- Проездной купив билет,
- Вдруг туда приехать летом,
- Где ты не был десять лет…
- Чтобы с лаской, хоть не детской,
- Вновь обнять старуху мать,
- Не под проволокой немецкой
- Нужно было проползать.
- Чтоб со взрослой грустью сладкой
- Праздник встречи пережить —
- Не украдкой, не с оглядкой
- По родным лесам кружить.
- Чтоб сердечным разговором
- С земляками встретить день —
- Не нужда была, как вору,
- Под стеною прятать тень…
- Мать-земля моя родная,
- Сторона моя лесная,
- Край, страдающий в плену!
- Я приду – лишь дня не знаю,
- Но приду, тебя верну.
- Не звериным робким следом
- Я приду, твой кровный сын, —
- Вместе с нашею победой
- Я иду, а не один.
- Этот час не за горою
- Для меня и для тебя…
- А читатель той порою
- Скажет:
- – Где же про героя?
- Это больше про себя.
- Про себя? Упрёк уместный,
- Может быть, меня пресёк.
- Но давайте скажем честно:
- Что ж, а я не человек?
- Спорить здесь нужды не вижу,
- Сознавайся в чём другом.
- Я ограблен и унижен,
- Как и ты, одним врагом.
- Я дрожу от боли острой,
- Злобы горькой и святой.
- Мать, отец, родные сёстры
- У меня за той чертой.
- Я стонать от боли вправе
- И кричать с тоски клятой.
- То, что я всем сердцем славил
- И любил, – за той чертой.
- Друг мой, так же не легко мне,
- Как тебе с глухой бедой.
- То, что я хранил и помнил,
- Чем я жил, – за той, за той —
- За неписаной границей,
- Поперёк страны самой,
- Что горит, горит в зарницах
- Вспышек – летом и зимой…
- И скажу тебе, не скрою, —
- В этой книге, там ли, сям,
- То, что молвить бы герою,
- Говорю я лично сам.
- Я за всё кругом в ответе,
- И заметь, коль не заметил,
- Что и Тёркин, мой герой,
- За меня гласит порой.
- Он земляк мой, и, быть может,
- Хоть нимало не поэт,
- Всё же как-нибудь похоже
- Размышлял. А нет, ну – нет.
- Тёркин – дальше. Автор – вслед.
- Третье лето. Третья осень.
- Третья озимь ждёт весны.
- О своих нет-нет и спросим
- Или вспомним средь войны.
- Вспомним с нами отступавших,
- Воевавших год иль час,
- Павших, без вести пропавших,
- С кем видались мы хоть раз,
- Провожавших, вновь встречавших,
- Нам попить воды подавших,
- Помолившихся за нас.
- Вспомним вьюгу-завируху
- Прифронтовой полосы,
- Хату с дедом и старухой,
- Где наш друг чинил часы.
- Им бы не было износу
- Впредь до будущей войны,
- Но, как водится, без спросу
- Снял их немец со стены:
- То ли вещью драгоценной
- Те куранты посчитал,
- То ль решил с нужды военной, —
- Как-никак цветной металл.
- Шла зима, весна и лето,
- Немец жить велел живым.
- Шла война далёко где-то
- Чередом глухим своим.
- И в твоей родимой речке
- Мылся немец тыловой,
- На твоём сидел крылечке
- С непокрытой головой.
- И кругом его порядки,
- И немецкий, привозной
- На смоленской узкой грядке
- Зеленел салат весной.
- И ходил сторонкой, боком
- Ты по улочке своей, —
- Уберёгся ненароком,
- Жить живи, дышать не смей.
- Так и жили дед да баба
- Без часов своих давно,
- И уже светилось слабо
- На пустой стене пятно…
- Но со страстью неизменной
- Дед судил, рядил, гадал
- О кампании военной,
- Как в отставке генерал.
- На дорожке возле хаты
- Костылем старик чертил
- Окруженья и охваты,
- Фланги, клинья, рейды в тыл…
- – Что ж, за чем же остановка? —
- Спросят люди. – Срок не мал… —
- Дед-солдат моргал неловко,
- Кашлял:
- – Перегруппировка… —
- И таинственно вздыхал.
- У людей уже украдкой
- Наготове был упрёк,
- Словно добрую догадку
- Дед по скупости берёг.
- Словно думал подороже
- Запросить с души живой.
- – Дед, когда же?
- – Дед, ну что же?
- – Где ж он, дед, Будённый твой?
- И едва войны погудки
- Заводил вдали восток,
- Дед, не медля ни минутки,
- Объявил, что грянул срок.
- Отличал тотчас по слуху
- Грохот наших батарей.
- Бегал, топал:
- – Дай им духу!
- Дай ещё! Добавь! Погрей!
- Но стихала канонада.
- Потухал зарниц пожар.
- – Дед, ну что же?
- – Думать надо,
- Здесь не главный был удар.
- И уже казалось деду, —
- Сам хотел того иль нет, —
- Перед всеми за победу
- Лично он держал ответ.
- И, тая свою кручину,
- Для всего на свете он
- И угадывал причину,
- И придумывал резон.
- Но когда пора настала,
- Долгожданный вышел срок,
- То впервые воин старый
- Ничего сказать не мог…
- Все тревоги, все заботы
- У людей слились в одну:
- Чтоб за час до той свободы
- Не постигла смерть в плену.
- В ночь, как все, старик с женой
- Поселились в яме.
- А война – не стороной,
- Нет, над головами.
- Довелось под старость лет:
- Ни в пути, ни дома,
- А у входа на тот свет
- Ждать часы приёма.
- Под накатом из жердей,
- На мешке картошки,
- С узелком, с горшком углей,
- С курицей в лукошке…
- Две войны прошёл солдат
- Целый, невредимый.
- Пощади его, снаряд,
- В конопле родимой!
- Просвисти над головой,
- Но вблизи не падай,
- Даже если ты и свой, —
- Всё равно не надо!
- Мелко крестится жена,
- Сам не скроешь дрожи:
- Ведь живая смерть страшна
- И солдату тоже.
- Стихнул грохот огневой
- С полночи впервые.
- Вдруг – шаги за коноплёй.
- – Ну, идут… немые…
- По картофельным рядам
- К погребушке прямо.
- – Ну, старик, не выйти нам
- Из готовой ямы.
- Но старик встаёт, плюёт
- По-мужицки в руку.
- За топор – и наперёд:
- Заслонил старуху.
- Гибель верную свою,
- Как тот миг ни горек,
- Порешил встречать в бою,
- Держит свой топорик.
- Вот шаги у края – стоп!
- И на шубу глухо
- Осыпается окоп.
- Обмерла старуха.
- Всё же вроде как жива:
- – Наше место свято!
- Слышит русские слова:
- – Жители, ребята?..
- – Детки! Родненькие… Детки!.. —
- Уронил топорик дед.
- – Мы, отец, ещё в разведке,
- Тех встречай, что будут вслед.
- На подбор орлы-ребята,
- Молодец до молодца.
- И старшой у аппарата, —
- Хоть ты что, знаком с лица.
- – Закурить? Верти, папаша. —
- Дед садится, вытер лоб.
- – Ну, ребята, счастье ваше —
- Голос подали. А то б…
- И старшой ему кивает:
- – Ничего. На том стоим.
- На войне, отец, бывает —
- Попадает по своим.
- – Точно так. – И тут бы деду
- В самый раз что покурить,
- В самый раз продлить беседу:
- Столько ждал! – Поговорить.
- Но они спешат не в шутку.
- И ещё не снялся дым…
- – Погоди, отец, минутку,
- Дай сперва освободим…
- Молодец ему при этом
- Подмигнул для красоты,
- И его по всем приметам
- Дед узнал:
- – Так это ж ты!
- Друг-знакомец, мастер-ухарь,
- С кем сидели у стола.
- – Погляди скорей, старуха!
- Узнаёшь его, орла?
- Та как глянула:
- – Сыночек!
- Голубочек. Вот уж гость.
- Может, сала съешь кусочек,
- Воевал, устал небось?
- Смотрит он, шутник тот самый:
- – Закусить бы счёл за честь,
- Но ведь нету, бабка, сала?
- – Да и нет, а всё же есть…
- – Значит, цел, орёл, покуда.
- – Ну, отец, не только цел:
- Отступал солдат отсюда,
- А теперь, гляди, кто буду, —
- Вроде даже офицер.
- – Офицер? Так-так. Понятно, —
- Дед кивает головой. —
- Ну, а если… на попятный,
- То опять как рядовой?..
- – Нет, отец, забудь. Отныне
- Нерушим простой завет:
- Ни в большом, ни в малом чине
- На попятный ходу нет.
- Откажи мне в чёрствой корке,
- Прогони тогда за дверь.
- Это я, Василий Тёркин,
- Говорю. И ты уж верь.
- – Да уж верю! Как получше,
- На какой теперь манер:
- Господин, сказать, поручик
- Иль товарищ офицер?
- – Стар годами, слаб глазами,
- И, однако, ты, старик,
- За два года с господами
- К обращению привык…
- Дед – плеваться, а старуха,
- Подпершись одной рукой,
- Чуть склонясь и эту руку
- Взявши под локоть другой,
- Всё смотрела, как на сына
- Смотрит мать из уголка.
- – Закуси ещё, – просила, —
- Закуси, поёшь пока…
- И спешил, а всё ж отведал,
- Угостился, как родной.
- Табаку отсыпал деду
- И простился.
- – Связь, за мной! —
- И уже пройдя немного, —
- Мастер памятлив и тут, —
- Тёркин будто бы с порога
- Про часы спросил:
- – Идут?
- – Как не так! – и вновь причина
- Бабе кинуться в слезу.
- – Будет, бабка! Из Берлина
- Двое новых привезу.
1. Как изображён Тёркин в главе «Два солдата»? Почему она так названа?
2. Можно ли считать, как утверждает автор, Тёркина и старика солдатами-братьями?
3. Какое отношение проявляют друг к другу старик и Тёркин? Как это выражено в их словах, поступках, жестах, манере обращения?
4. Какую, по-вашему, роль выполняет в поэме о бойце Тёркине глава «О себе»?
1. Какие сказочные, обрядовые и народно-песенные традиции вы находите в этой главе? В чём они выражены?
2. Какие изменения в поведении и речи Тёркина обнаруживаются в главе «Дед и баба»? Что, по-вашему, приобретено и что утрачено солдатом?
1. Сопоставьте сцены прощания в главах «Два солдата» и «Дед и баба». Что общего в них и что различного? О чём говорит воспоминание Тёркина о починенных часах?
2. Какие изменения происходят в облике старика и старухи, в их поведении за прошедшие годы? Чем они обусловлены?
3. Каково отношение поэта к Родине, родному краю? Как оно передано в главе?
4. Каковы размышления автора о своих связях с героем? В чём смысл этих рассуждений? Можно ли сказать, что в этой главе достигается единство лирического и эпического начал в поэме, трагическая гармония?
Александр Исаевич Солженицын
(1918–2008)
Судьба Александра Исаевича Солженицына как писателя и человека оказалась очень сложной и необычной. Будучи бескомпромиссным и несгибаемым борцом против социальной несправедливости, тоталитаризма, любых форм нарушения прав человека, он большую часть жизни находился в противостоянии власти и подвергался всевозможным гонениям.
Родился Александр Исаевич 11 декабря 1918 года в Кисловодске, детство и юность его прошли в Ростове-на-Дону, где он и окончил среднюю школу в 1936 году. В 1941 году закончил математический факультет Ростовского университета. Одновременно он учился на заочном отделении Московского института философии, литературы, истории (МИФЛИ).
Началась война. Благодаря знанию математики Александр Солженицын был направлен на учёбу в артиллерийское училище, окончив которое был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи… Был пройден большой боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Солженицын был удостоен ордена Отечественной войны второй степени и ордена Красной Звезды. В 1945 году капитан Солженицын был арестован за неодобрительный отзыв о Сталине в перехваченном цензурой личном письме к другу. В результате – восемь лет исправительно-трудовых лагерей, пять из них Солженицын провёл в Подмосковье и Москве, три – в Средней Азии. Как математик, часть своего срока он провёл в системе научно-исследовательских институтов МВД и МГБ, впечатление о которых он отразил в художественном романе «В круге первом». Находясь в Казахстане, в лагере города Экибастуза, работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Впоследствии этот лагерь и его люди были воссозданы в «Одном дне Ивана Денисовича». Затем предстояла вечная ссылка на юг Казахстана, прерванная смертью Сталина.
В сталинских застенках Александр Исаевич нажил тяжёлую болезнь – рак. Но совершилось то, что Солженицын воспринял как чудо. Он излечился от тяжкого недуга в ташкентской клинике в течение 1954 года (по впечатлениям этого периода его жизни создан роман «Раковый корпус»).
В 1962 году Солженицыну при поддержке А. Т. Твардовского удаётся опубликовать в журнале «Новый мир» рассказ «Один день Ивана Денисовича», а в 1963 году в этом же журнале – «Матрёнин двор». Последнее произведение было подвергнуто резкой критике, писателя обвиняли в отступлении от законов социалистического реализма, искажении исторической правды, отсутствии оптимизма в изображении советского села. Так творчество Солженицына оказалось несовместимым с официальным пониманием правды и нравственности.
В 1964–1970 годы создана главная книга писателя – «Архипелаг ГУЛАГ», которая стала своеобразным памятником всем замученным и убитым в годы тоталитарного режима. «Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался». Книга по своему жанру названа писателем «опытом художественного исследования».
В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии.
Власти в СССР не могли простить непокорённому писателю его борьбу за открытие людям правды, его призывы «жить не по лжи». В 1974 году он был арестован по обвинению в измене Родине, однако широкая мировая известность нобелевского лауреата помешала предать писателя суду за столь «тяжкие преступления».
С 1975 года Александр Исаевич вместе со своей семьёй жил в США. В 1994 году Солженицын вернулся в Россию.
Как жаль
Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Анне Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать: оставалось минут пятнадцать, и она ещё успевала за свой перерыв.
Ждать на лестнице не хотелось, и Анна Модестовна спустилась на улицу.
День был в конце октября – сырой, но не холодный. В ночь и с утра сеялся дождик, сейчас перестал. По асфальту с жидкой грязцой проносились легковые, кто поберегая прохожих, а чаще обдавая. По середине улицы нежно серел приподнятый бульвар, и Анна Модестовна перешла туда.
На бульваре никого почти не было, даже и вдали. Здесь, обходя лужицы, идти по зернистому песку было совсем не мокро. Палые намокшие листья лежали тёмным настилом под деревьями, и если идти близко к ним, то как будто вился от них лёгкий запах – остаток ли не отданного во время жизни или уже первое тление, а всё-таки отдыхала грудь меж двух дорог перегоревшего газа.
Ветра не было, и вся густая сеть коричневых и черноватых влажных… – Аня остановилась —…вся сеть ветвей, паветвей, ещё меньших веточек, и сучочков, и почечек будущего года, вся эта сеть была обнизана множеством водяных капель, серебристо-белых в пасмурном дне. Это была та влага, что после дождя осталась на гладкой кожице веток, и в безветрии ссочилась, собралась и свесилась уже каплями – круглыми с кончиков нижних сучков и овальными с нижних дуг веток.
Переложив сложенный зонтик в ту же руку, где была у неё сумочка, и стянув перчатку, Аня стала пальцы подводить под капельки и снимать их. Когда удавалось это осторожно, то капля целиком передавалась на палец и тут не растекалась, только слегка плющилась. Волнистый рисунок пальца виделся через каплю крупнее, чем рядом, капля увеличивала, как лупа.
Но, показывая сквозь себя, та же капля одновременно показывала и над собой: она была ещё и шаровым зеркальцем. На капле, на светлом поле от облачного неба, видны были – да! – тёмные плечи в пальто, и голова в вязаной шапочке, и даже переплетение ветвей над головой.
Так Аня забылась и стала охотиться за каплями покрупней, принимая и принимая их то на ноготь, то на мякоть пальца. Тут совсем рядом она услышала твёрдые шаги и сбросила руку, устыдясь, что ведёт себя, как пристало её младшему сыну, а не ей.
Однако проходивший не видел ни забавы Анны Модестовны, ни её самой – он был из тех, кто замечает на улице только свободное такси или табачный киоск. Это был с явною печатью образования молодой человек с ярко-жёлтым набитым портфелем, в мягкошерстном цветном пальто и ворсистой шапке, смятой в пирожок. Только в столице встречаются такие ранне-уверенные, победительные выражения. Анна Модестовна знала этот тип и боялась его.
Спугнутая, она пошла дальше и поравнялась с газетным щитом на голубых столбиках. Под стеклом висел «Труд» наружной и внутренней стороной. В одной половине стекло было отколото с угла, газета замокла, и стекло изнутри обводнилось. Но именно в этой половине внизу Анна Модестовна прочла заголовок над двойным подвалом: «Новая жизнь долины реки Чу».
Эта река не была ей чужа: она там и родилась, в Семиречьи. Протерев перчаткой стекло, Анна Модестовна стала проглядывать статью.
Писал её корреспондент нескупого пера. Он начинал с московского аэродрома: как садился на самолёт и как, словно по контрасту с хмурой погодой, у всех было радостное настроение. Ещё он описывал своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стюардессу мельком. Потом – фрунзенский аэродром и как, словно по созвучию с солнечной погодой, у всех было очень радостное настроение. Наконец, он переходил собственно к путешествию по долине реки Чу. Он с терминами описывал гидротехнические работы, сброс вод, гидростанции, оросительные каналы, восхищался видом орошённой и плодоносной теперь пустыни и удивлялся цифрам урожаев на колхозных полях.
А в конце писал:
«Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района природы замыслено было уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, её геологических слоёв и режима вод. Весь главный большой проект был закончен и обоснован трудоёмкими расчётами ещё сорок лет назад, в 1912 году, талантливым русским гидрографом и гидротехником Модестом Александровичем В*, тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск».
Анна Модестовна не вздрогнула, не обрадовалась – она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и ещё пыталась протирать стекло и едва читала:
«Но при косном царском режиме, далёком от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что он уже прокопал, – заброшено.
Как жаль! – (кончал восклицанием корреспондент) – как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих светлых идей! что он не может взглянуть на преображённую долину!»
Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает: сорвёт эту газету! Она воровато оглянулась вправо, влево – никого на бульваре не было, только далеко чья-то спина. Очень это было неприлично, позорно, но…
Газета держалась на трёх верхних кнопках. Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, привстав на цыпочки, Аня всё же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя – и Аня просто дёрнула. Газета сорвалась – и вся была у неё в руке.
Но сразу же за спиной раздался резкий дробный турчок милиционера.
Как опалённая (она сильно умела пугаться, а милицейский свисток её и всегда пугал), Аня выдернула пустую руку, обернулась…
Бежать было поздно и несолидно. Не вдоль бульвара, а через проём бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шёл рослый милиционер, особенно большой от намокшего на нём плаща с откинутым башлыком.
Он не заговорил издали. Он подошёл, не торопясь. Сверху вниз посмотрел на Анну Модестовну, потом на опавшую, изогнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился. По широкому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый – вполне ему вытаскивать людей с пожара или схватить кого без оружия.
Не давая силы голосу, милиционер спросил:
– Это что ж, гражданка? Будем двадцать пять рублей платить?..
(О, если только штраф! Она боялась – будет хуже истолковано!)
– …Или вы хотите, чтоб люди газет не читали?
(Вот, вот!)
– Ах, что вы! Ах, нет! Простите! – стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. – Я очень раскаиваюсь… Я сейчас повешу назад… если вы разрешите…
Нет уж, если б он и разрешил, эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом трудновато было повесить.
Милиционер смотрел на неё сверху, не выражая решения.
Он уж давно дежурил, и дождь перенёс, и ему кстати было б сейчас отвести её в отделение вместе с газетой: пока протокол – посушиться маненько. Но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная.
Она смотрела на него и ждала наказания.
– Чем вам газета не нравится?
– Тут о папе моём!.. – Вся извиняясь, она прижимала к груди ручку зонтика, и сумочку, и снятую перчатку. Сама не видела, что окровянила палец о стекло.
Теперь постовой понял её, и пожалел за палец и кивнул:
– Ругают?.. Ну, и что одна газета поможет?..
– Нет! Нет-нет! Наоборот – хвалят!
(Да он совсем не злой!)
Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И всё смотрела на крупное простоватое лицо милиционера.
Его губы чуть развелись:
– Так что вы? В ларьке купить не можете?
– А посмотрите, какое число! – она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины на несорванной газете. – Её три дня не снимали. Где ж теперь найдёшь?!
Милиционер посмотрел на число. Ещё раз на женщину. Ещё раз на опавшую газету. Вздохнул:
– Протокол нужно составлять. И штрафовать… Ладно уж, последний раз, берите скорей, пока никто не видел…
– О, спасибо! Спасибо! Какой вы благородный! Спасибо! – зачастила Анна Модестовна, всё так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу, а проворно засунула всё ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. – Спасибо!
Газета вытянулась. Аня, как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой, сложила её. С ещё одним вежливым изгибом сказала:
– Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?
Стоя боком, он кивнул.
И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец.
Бегом к маме! Скорей прочесть вдвоём! Как только папе назначат точное жительство, мама поедет туда и повезёт сама газету.
Корреспондент не знал! Он не знал, иначе б ни за что не написал! И редакция не знала, иначе б не пропустила! Молодой энтузиаст – д о ж и л! До торжества своих светлых идей он дожил, потому что смертную казнь ему заменили, двадцать лет он отсидел в тюрьмах и лагерях. А сейчас, при этапе на вечную ссылку, он подавал заявление самому Берия, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда, и комендатура теперь никак не приткнёт этого бесполезного старичка: работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал.
1. Как, по-вашему, о чём этот маленький рассказ? В чём смысл его названия? Почему оно дано без восклицательного знака?
2. В чём вы видите особенности построения этого рассказа? Как это воздействует на его эмоциональное восприятие читателем?
3. Чего больше в рассказе – эпического или лирического? Обоснуйте свою точку зрения.
4. Проследите за поведением героини рассказа Анны Модестовны. Что можно сказать о её характере, обстоятельствах, в которых она живёт? Почему так привлёк её внимание образ прохожего и чем вызвал неприязненное чувство? Что думает о прохожем автор?