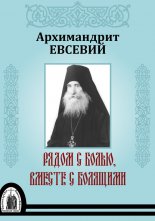Литература. 8 класс. Часть 1 Колокольцев Евгений

2. Какое время описано в рассказе? Ощущается ли ожидание чего-то нового, каких-то обнадёживающих перемен?
3. Проанализируйте диалог Анны Модестовны с милиционером. В чём причина её страха?
4. Какое отношение вызывает газетная статья у Анны Модестовны и самого автора? Что значит определение автора «корреспондент нескупого пера»?
2. Прочитайте самостоятельно и проанализируйте один из рассказов Солженицына, например «Случай на станции Кочетовка» или «Правая кисть».
Писатели русского зарубежья
Художественные произведения русской литературы, созданные писателями русского зарубежья, живут в памяти поколений. Многие из этих произведений стали классикой родной литературы – совершенна их форма и, что особенно важно, – они ставят судьбоносные проблемы, предлагают решения, которые важны и для нас: «Зарубежная русская литература есть временно отведённый в сторону поток общерусской литературы…»
После революции 1917 года уехали за рубеж многие признанные писатели: А. И. Бунин, К. Д. Бальмонт, Б. К. Зайцев, А. И. Куприн, И. Северянин, И. С. Шмелёв, Саша Чёрный… Среди них были и те, кто только что успел заявить о себе: М. Цветаева, М. Алданов, Г. В. Иванов, В. В. Набоков.
Писатели покинули Родину, но не оторвались от её культуры. И в зарубежье их творчество вдохновляли строки любимых авторов. Ставший писателем в годы эмиграции Набоков утверждал: «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырём углам моего мира».
Трагизм судьбы Родины и своего поколения Набоков ощущал остро и даже вполне конкретно.
Владимир Владимирович Набоков
(1899–1977)
Расстрел
- Бывают ночи: только лягу,
- в Россию поплывёт кровать;
- и вот ведут меня к оврагу,
- ведут к оврагу убивать.
- Проснусь, и в темноте, со стула,
- где спички и часы лежат,
- в глаза, как пристальное дуло,
- глядит горящий циферблат.
- Закрыв руками грудь и шею, —
- вот-вот сейчас пальнёт в меня, —
- я взгляда отвести не смею
- от круга тусклого огня.
- Оцепенелого сознанья
- коснётся тиканье часов,
- благополучного изгнанья
- я снова чувствую покров.
- Но сердце, как бы ты хотело,
- чтоб это вправду было так:
- Россия, звёзды, ночь расстрела
- и весь в черёмухе овраг.
Тема Родины звучит уверенно и постоянно в его лирике.
Родина
- Бессмертное счастие наше
- Россией зовётся в веках.
- Мы края не видели краше,
- а были во многих краях.
- Но где бы стезя ни бежала,
- нам русская снилась земля.
- Изгнание, где твоё жало?
- чужбина, где сила твоя?
- Мы знаем молитвы такие,
- что сердцу легко по ночам;
- а гордые музы России
- незримо сопутствуют нам.
- Спасибо дремучему шуму
- лесов на равнинах родных,
- за ими внушённую думу,
- за каждую песню о них.
- Наш дом на чужбине случайной,
- где мирен изгнанника сон,
- как ветром, как морем, как тайной,
- Россией всегда окружён.
Набоков – писатель XX века, который признан и как классик русской и как классик американской литературы. Он остро ощущает связь поколений. Ради этого стоит вспомнить лишь одно его стихотворение – «Будущему читателю»:
- <…>
- Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
- К тебе на грудь я прянул через мрак.
- Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
- из прошлого… Прощай же. Я доволен.
Хочется надеяться, что каждый из вас непременно познакомится с творчеством Набокова – с его стихами, прозой, пьесами и публицистикой.
Георгий Владимирович Иванов
(1894–1958)
Среди множества имён писателей русского зарубежья назовём ещё одно. Многими признан как лучший поэт русского зарубежья Георгий Иванов. Тоской по утерянной Родине проникнуты строки его стихов.
Россия счастие, Россия свет…
- Россия счастие, Россия свет.
- А может быть, России вовсе нет.
- И над Невой закат не догорал,
- И Пушкин на снегу не умирал.
- И нет ни Петербурга, ни Кремля —
- Одни снега, снега, поля, поля, —
- Снега, снега, снега… А ночь долга,
- И не растают никогда снега.
- Снега, снега, снега… А ночь темна,
- И никогда не кончится она.
- Россия тишина. Россия прах.
- А может быть, Россия только страх.
- Верёвка. Пуля. Ледяная тьма.
- И музыка, сводящая с ума.
- Верёвка, пуля, каторжный рассвет
- Над тем, чему названья в мире нет.
Но писателей и поэтов, покинувших Родину, не покидало чувство причастности к свершениям родной страны. Так, Г. Иванов сразу же откликнулся на взятие Берлина.
На взятие Берлина русскими
- Над облаками и веками —
- бессмертной музыки хвала:
- Россия русскими руками
- себя спасла и мир спасла.
- Сияет солнце, вьётся знамя,
- и те же вещие слова:
- «Ребята, не Москва ль за нами?»
- Нет, много больше, чем Москва!
Лирика поэтов русского зарубежья не ограничена темой утраченной Родины – она живёт жизнью эпохи – тесно связана и с традициями русской классики, и с новыми, только что заявившими о себе проблемами.
Писатели русского зарубежья заняли своё место в истории русской литературы и воспринимаются сегодня в едином общем потоке её свершений.
Вопросы и задания
2. Какие строки лирики остались в памяти?
2. Определите стихотворные размеры, чаще всего используемые в творчестве поэтов Набокова, Иванова.
2. Какую роль в творчестве авторов русского зарубежья играет тема Родины? Назовите произведения, посвящённые этой теме.
3. Очевидна ли для вас связь русской отечественной литературы и литературы русского зарубежья? Приведите свои доказательства такой связи.
Русская литература 60–90-х годов XX века
Василий Макарович Шукшин
(1929–1974)
Василий Макарович Шукшин – талантливый писатель и сценарист, режиссёр и киноактёр, человек необычной творческой судьбы.
Родился в селе Сростки Алтайского края. После окончания семи классов работал в разных городах, был слесарем, маляром, грузчиком. По призыву в армию служил четыре года на флоте. В 1954 году поехал в Москву поступать в Институт кинематографии, выдержал экзамены и стал блестящим учеником Михаила Ромма на режиссёрском факультете. В 1963 году Шукшин впервые выступил как режиссёр и автор сценария фильма «Живёт такой парень» об обаятельном, добром, красивом душой Пашке Колокольникове, стремящемся всем делать добро.
Параллельно с работой в кинематографе начинают выходить сборники рассказов «Сельские жители», «Земляки» и первый роман «Любавины». Критики, читатели и зрители отметили, что в литературу и кино вошёл яркий талант со своей темой и своим героем.
В произведениях Шукшина живут бесхитростные и безыскусственные люди деревни, его земляки. Описывая обыденное, он нашёл там много нового, неизвестного, глубинного. Красоту и силу своих героев Шукшин видит в безоглядной любви к людям. Его типичный герой – это чудаковатый человек, «чудик», душевный, искренний, отзывчивый в радости и беде. Таков, к примеру, Василий Егорыч Князев, тридцати девяти лет от роду, сельский киномеханик («Чудик»). «Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные».
Тяга к необычному, духовному, выходящему за пределы обыденного, характерна для героев шукшинских рассказов. Они остро реагируют на зло и несправедливость, живут по велению сердца, часто испытывают тоску, беспокойство. Им противостоят те, которые заботятся только о своём благополучии, унижают человеческое достоинство других людей («Срезал», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Крепкий мужик», «Постскриптум»).
Шукшину было свойственно обострённое чувство правды, которое корнями уходило в опыт народа. «Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду».
Ванька Тепляшин
Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине… Поговорили о чём-то между собой и сказали Ваньке:
– Поедешь в городскую больницу?
– Зачем? – не понял Ванька.
– Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот… Сергей Николаевич лечить будет.
Ванька согласился.
В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».
– А где тематический больной-то? – спрашивала сестра.
– Курит, наверно, в уборной, – отвечали соседи Ванькины. – Где же ещё.
– Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим…
Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Всё рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шофёрские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной…
– Лёд впереде уже о так от горбатится – горкой… Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг – вниз поехал!.. – Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. – Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода – хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться…
– Ты прямо, как это… как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.
Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.
– Я вру?! – Некоторое время он даже слов больше не находил. – Хот… Да ты что? Как же я врать стану! Хот…
И верно, посмотришь на Ваньку – и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже – уметь надо.
– Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.
– Я, значит, смотрю вверх – вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился… Я туда погрёб.
– Да сколько ж ты под водой-то был?
– А я откуда знаю? Небось, недолго, это я рассказываю долго. Да ещё перебивают…
– Ну, ну?
– Ну, вылез… Ко мне уже бегут. Завели в первую избу…
– Сразу – водки?
– Одеколоном сперва оттёрли… Я целую неделю потом «Красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.
…Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живёт чужая его уму и сердцу улица. Странно живёт: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице – по людям, по машинам… Ещё пройдёт, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит её взглядом. А так – всё одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.
И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать… Пробирается через улицу, оглядывается – боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.
– Мама идёт! – закричал он всем в палате радостно.
Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.
– Где, Ваня?
– Да вон! Вот, с сумкой-то! – Ванька свесился с подоконника и закричал: – Ма-ам!
– Ты иди встреть её внизу, – сказали Ваньке. – А то её ещё не пропустят: сегодня не приёмный день-то.
– Да пустят! Скажет – из деревни… – Гадать стали.
– Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.
Ванька побежал вниз.
А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал её.
– Это ко мне! – издали ещё сказал Ванька. – Это моя мать.
– В среду, субботу, воскресенье, – деревянно прокуковал красноглазый.
Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал её.
– Назад.
– Да ко мне она! – закричал Ванька. – Ты что?!
– В среду, субботу, воскресенье, – опять трижды отстукал этот… вахтёр, что ли, как их там называют.
– Да не знала я, – взмолилась мать, – из деревни я… Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть…
Ваньку впервые поразило, – он обратил внимание, – какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос… И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:
– Помолчи, мам.
– Да я вот объясню товарищу… Чего же?
– Помолчи! – опять велел Ванька. – Товарищ, – вежливо и с достоинством обратился он к вахтёру, но вахтёр даже не посмотрел в его сторону. – Товарищ! – повысил голос Ванька. – Я к вам обращаюсь!
– Вань, – предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.
Красноглазый всё безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.
– Пойдём вон там посидим, – изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтёром. И пошёл мимо него.
– Наз-зад, – как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.
Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтёра и, бледнея уже, но ещё спокойно, сказал матери:
– Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.
Но и дальше тоже ждал Ванька – ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дёрнул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.
– Ещё раз замечу, что ты свои руки будешь распускать… – заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, – я тебе… я буду иметь с вами очень серьёзный разговор.
– Вань, – чуть не со слезами взмолилась мать. – Господи, Господи…
– Садись, – велел Ванька чуть осевшим голосом. – Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..
Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришёл в движение и подал громкий голос тревоги.
– Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. – закричал он. – Ко мне! Тут произвол!.. – И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошёл на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: – Стигнеев!
Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке…
– А? – спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.
– Ко мне! – закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.
Ванька принял его… Вахтёр отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.
…Ваньку им не удалось сцапать… Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька ещё стерёгся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но всё равно, тумбочка вахтёрская полетела, и с неё полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся… Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин… Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повёл. Он очень расстроился.
– Ну как же так, Иван?..
Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.
– На кой черт ты связался-то с ним? – никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.
– Он мать не пустил.
– Да сказал бы мне, я бы всё сделал! Иди в палату, я её приведу.
– Не надо, мы счас домой поедем.
– Как домой? Ты что?
Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своём кабинетике… Сказал даже так:
– Пусть твоя мама поживёт пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе…
– Нет, – сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого… – Нет. Что вы!
– Но я же не выпишу тебя!
– Я из окна выпрыгну… В пижаме убегу ночью.
– Ну-у, – огорчённо сказал Сергей Николаевич. – Зря ты.
– Ничего. – Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора… жалко, что он огорчился. – А вы найдёте кого-нибудь ещё с язвой… У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.
– Не в этом дело. Зря ты, Иван.
– Нет. – Ваньке становилось всё легче и легче. – Не обижайтесь на меня.
– Ну, что ж… – Сергей Николаевич всё же очень расстроился. – Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься…
– Нет. Решено.
Ванька помчался в палату – собрать кой-какие свои вещички.
В палате его стали наперебой ругать:
– Дурак! Ты бы пошёл…
– Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довёл бы тебя до конца.
Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.
– Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!
– Надо человеком быть, – с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. – Ясно?
– Ясно, ясно… Зря порешь горячку-то, зря…
– Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и всё было бы в порядке. Чего ты?
Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с лёгкой душой поскакал вниз.
Надо было ещё взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:
– Выгнали? Ну вот…
А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:
– Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и всё – никакого шуму не было бы. Молодёжь, молодёжь… Неужели трудно догадаться?
– Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, – опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.
– Ботинки эти? Твои?
– Мои.
– Не долечился и едешь…
– Дома долечусь.
– До-ома! Дома долечисся…
– Будь здоров, Иван Петров! – сказал Ванька.
– Сам будь здоров. Попросил бы врача-то… может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.
Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.
И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтёром и вытирала полушалком слёзы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор – на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил – хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.
– Будь здоров! – сказал Ванька. – Загогулина.
Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул – всё смотрел вдоль своей вахты.
Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хвалёной-перехвалёной горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.
– Не плачь, – сказал Ванька матери. – Чего ты?
– Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, – сказала мать свою горькую думу. – Из ФЗУ тада тоже…
– Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Ещё тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?
– Много так сделаешь – не просить-то!
– Ну… и так тоже нельзя. Слушать стыдно.
– Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию – побегай-ка за имя, да не попроси… Много соберёшь?
– Ладно, ладно… – Мать никогда не переговорить. – Как там, дома-то?
– Ничо. У себя-то будешь долёживать?
– Та-а… не знаю, – сказал Ванька. – Мне уже лучше.
Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.
Вопросы и задания
2. Найдите в тексте рассказа слова, которые помогут сформулировать его основную идею.
3. В каких ситуациях, изображённых Шукшиным, особо остро отстаивается авторская позиция?
4. Почему Ваньке не понравилось в больнице?
2. Что означают слова «тематический больной»? Какую роль они играют в этом рассказе?
3. Как вы думаете, связаны ли с идейным смыслом рассказа имя и фамилия героя?
2. Можно ли Ваньку Тепляшина отнести к разряду шукшинских «чудиков»? Мотивируйте свой ответ.
Виктор Петрович Астафьев
(1924–2001)
И коль выпало на долю родной литературы заменить собой церковь, стать духовной опорой народа, она должна была возвыситься до этой своей святой миссии. И она поднялась!
В. П. Астафьев
Основная идея произведений В. П. Астафьева – ответственность человека за всё, что есть на Земле. Писатель провозглашает этические ценности, присущие народной жизни. Среди его произведений – «Стародуб», «Кража», «Где-то гремит война», «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Печальный детектив», «Жизнь прожить», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты».
«Царь-рыба» оказалась одним из глубоких произведений русской прозы 70-х годов. Автор-рассказчик, наблюдая так называемый экологический разбой, пришёл к выводу, что сейчас преобладают люди двух типов: браконьеры (переродившиеся потомки крестьян) и «туристы по жизни» (такие, как Гога Герцев). Автор заканчивает своё повествование цитатой из «Книги Екклезиаста»: «Всему свой час и время всякому делу под небесами». В уничтожении природы есть всемирно-историческая необходимость, неуклонность. На протяжении всего послевоенного времени люди не сбавляют темпы лесоповала, несмотря на предупреждение учёных: если эти темпы будут сохранены и впредь, то последнее на земле дерево человек свалит на земле через семьдесят лет. В «Книге Екклезиаста» есть и такие слова: «Что пользы живому, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст тогда смертный за душу свою?»
В словах «нет мне ответа», заканчивающих повесть, есть горькая правда: народного, человеческого измерения у процесса опустошения Земли нет. В этой книге Астафьев проявляет интерес не к поступку, а к процессам познания мира, не к событию, а его философскому объяснению. Все сюжетные линии «Царь-рыбы» подчинены авторскому публицистически страстному изучению противоречий жизни. «Я писал о том, что для меня было личным, кровным, а оказалось, мою тревогу разделяют многие и многие…» Свободная композиция, сюжетная раскованность, форма притчи – особенности повествования В. Астафьева.
Царь-рыба. Повествование в рассказах. Фрагменты
В посёлке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам, относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не воротился, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату при дележе добычи, не крохоборничал. <…>
В студёный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, вертелась возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.
С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, угодил он им под самую каргу, а это даётся уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуё не бросить – зависнет самолов и далеко не сплыть – рыба проходом минует самолов. Чутьё, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою, с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке…
К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу – обсечённая по макову ёлка, так хорошо видная тёмной колоколенкой даже на жидком снегу, упёрлась в низкие тучи, мозглый воздух застелил берег, землю, жестяно и рвано отблескивающая в ночи река ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промёрз вроде бы до самых костей, но зато лишь подцепил, приподнял самолов, сразу почувствовал – на нём крупная рыбина!
Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка – и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которые сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали остриём носа борт лодки – у этих повреждён спинной мозг, вязига проткнута, этой рыбине конец: с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырём, с порванными жабрами она не живёт. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды – дух из него вон и кишки на телефон.
Шла тяжёлая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал её Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков, – щёлкают тогда крючки о борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся, рыбак, – цапнет уда мясо иль одежду. И ладно, крючок обломится или успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе…
Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора – подкрадётся во тьме, сцапает – сраму наберёшься, убытку не сочтёшь, сопротивляться станешь – тюрьма тебе. На родной реке татем живёшь и до того выдрессировался, что ровно бы ещё какой неведомый, дополнительный орган в человеке получился – вот ведёт он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушёл, азартом захвачен, устремления его – взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – всё в нём направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живёт своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несёт круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недрёманным тьму ощупывает. Вдали огонёк искрой мелькнул, а оно уж трепыхнулось, зачастило: какое судно? Опасность от него какая? Отцепляться ль от самолова, пускать ли рыбину вглубь? А она живая, здоровенная, может изловчиться и уйти.
Напряглось всё в человеке, поредели удары сердца, слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьёт тело током, красная лампочка заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»
Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. <…>
В этот миг напомнила, заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз, в глубину, с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осётр, большой, но уже умаянный. За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, чёрного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперёд пошла, на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных стерлядей, стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» – мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и вот увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: чёрный, лаково отблёскивающий сутунок со вкось обломанными сучьями; крутые бока, решительно означенные острыми панцирями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толчёном стекле, смешанном с дресвою. Что-то первобытное, редкостное было не только в величине рыбы, но и в формах её тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста – на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.
Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осётра, закруглённые водой. Летошний осётр ещё и осётром не называется, всего лишь костерькой, после – карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке и хищнику никакому не слопать – распорет костерька, проткнет утробу. И вот – поди ж ты! – из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах! Ну, не загадка ли природы?!
Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом – вроде как на воде крякает? Коростель – птица долгоногая, бегучая, сухопутная и должна до сроку убегти в тёплую сторону. А вот поди ж ты, крякает! На близком слуху – вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб шутливые, несколько даже ернические штучки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но лёгкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло тёплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недрёманное ухо, око ли.
Рыба, а это у неё коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба показалась Игнатьичу зловещей. «Да что же это я? – поразился рыбак. – Ни Бога, ни чёрта не боюся, одну тёмну силу почитаю… Так, может, в силе-то и дело?» – Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава, осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осётра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с жёлтым ободком вокруг тёмных, с картечины величиною зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.
Осётр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему ещё пяток – боровина даже не дрогнул от острых уколов, просёкших сыромятно-твёрдую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в неё бьющей воде, взять на типок тетеву, чтобы пообрывать поводки самолова, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки. <…>
Упускать добычу такую нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. <…>
Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова – больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел её, конечно, изловить, увидеть, но, само собой, и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить её, клятую, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать её. Но раз вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и в сердце твёрдость – мало ли чего плели ранешние люди, знахари всякие и дед тот же, жили в лесу, молились колесу…
«А-а, была – не была!» – удало, со всего маху Игнатьич жихнул обухом топора в лоб «царь-рыбу» и по тому, как щёлкнуло звонко, а не глухо, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь. Надо было не со всего дурацкого маху бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь всё решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил её в лодку. Готовый издать победный вопль, нет не вопль – он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, – просто тут, в лодке, дать ещё разок по выпуклому черепу осётра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно. Ещё вдох, усилие – крепче в борт ногою, твёрже упор. Но расходившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и чёрно поднявшимся ворохом не воды, нет, а комьями взорвалась река за бортом. Ожгло, ударило рыбака тяжестью по голове, давнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» – вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту: слабеющим рассудком успел он ещё отметить – «так вот оно как, на войне-то…».
Разгорячённое борьбой нутро оглушило, стиснуло холодом. Вода! Он хлебнул воды! Тонет! Кто-то его тащил за ногу вглубь. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал лёгкий угол в голень ноги – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность, промельк мысли: «Тогда что ж… Тогда всё…» Но был ловец сильным, жилистым мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не её, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно…» <…>
И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свёртывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало её в рыбе. Зачем ей кровь? Она живёт в воде. Ей греться ни к чему. Это ему, человеку, в тепло надо, он на земле обитает. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке, в холодной осенней воде. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя, дома, и ума у неё не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки. И всё. Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему…
«Чем? В чём поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» Ловец крепче сжал твёрдый бок лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за борт такой близкой, такой невысокой лодки! Но потревоженная рыба раздражённо чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнули ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно её дыхания, слабо шевелилась на ней вода, он притаённо обрадовался – рыба засыпает, вот-вот она опрокинется вверх брюхом! Уморило её воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком.
Он затих, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрёму. Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью. Она работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Рыба рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву. Морок успокоительного сна накатывал на неё и на человека, утишая их тело и разум.
Зверь и человек в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один – медведь, волк, рысь – грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с жёлтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет – у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза – такое-то на свете бывало ль?
Хотя на свете этом всё и всякое бывало, да не всем людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдёт с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! Растеребит его удами в клочья, иссосут его рыба да вьюны, жучки-козявки разные да водяные блошки-вошки остатки доточат. И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вот старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду – и с концом. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнёт куда… <…>
– Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! – дёрнулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. – Уходи! Уходи! Ухо-ди-и-и-и!
Рыба отодвинулась, грузно взбурлила водою, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, приподнялся, достал подбородком борт, завис на нём. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать. И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть: