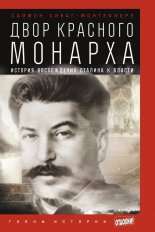Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии Блэк Моника

Шрекенбах и Вицман были не одиноки в своих попытках вдохновить соотечественников на возвращение к корням при погребении умерших близких. Общество немецкого фольклора (Arbeitsgemeinschaft fr deutsche Volkskunde – ADV) Альфреда Розенберга в 1937 г. приступило к исследованию, нацеленному на реконструкцию предполагаемой ритуальной жизни языческих предков современных немцев276. Один из ведущих фольклористов – участников проекта, Ганс Штробель, надеялся воссоздать Lebensfeiern (торжества жизни), которыми отмечались рождение, вступление в брак и смерть в «раннюю эпоху нашего народа», и вернуть их в широкое употребление277. При этом целью Штробеля было не только «возродить» «соответствующие расе» торжества, но и вернуть во владение «собственность народа, некогда отнятую у него церквями»278. Здесь, как и в других сферах повседневной жизни, некоторые члены нацистского истеблишмента видели в церкви своего главного идеологического соперника, пусть они и оставались привязаны к ней, соотнося себя в первую очередь с нею в своих усилиях. Такое отношение нацистов к церкви, в свою очередь, напоминает нам о том, сколь сильно обязаны они были прошлому, хотя и занимались радикальной трансформацией немецкой культуры.
В 1938 г. берлинское отделение Общества немецкого фольклора разослало лидерам разных Gauen (нем. округов) – региональных административных отделений партии – анкету, чтобы оценить состояние «внецерковного планирования празднеств и торжеств» на местах. На основе полученных ответов ведомство Розенберга вскоре начало составлять документ, получивший название «Справочник по планированию празднеств жизненного цикла», – руководство для местных лидеров партии по организации нацистских торжеств279. Не упуская даже мелочей, авторы описали не только похороны и траурные парады, но и такие детали похоронного обычая, как «немецкое приветствие на похоронах; колокольный звон в той части, которая не предусмотрена конфессиональными требованиями; [и] символические [обычаи], такие как опускание цветов в могилу усопшего»280. Подобные справочники призывали избегать использования черных гробов, «печального цвета» и «чуждых растений». Любые «расово чуждые символы», присутствующие в месте проведения похорон, – такие, видимо, как распятие – надлежало прятать. Панегиристам рекомендовалось говорить о «выдающихся чертах» ушедшего, в том числе о «любви к Heimat, преданности, прямоте, боевом настрое, желании служить и т.д.», делая особенный акцент на ценности этих качеств «для семьи и расового сообщества»281.
Между тем институты нацистского государства были не единственным источником инициатив по преобразованию смерти и похорон – предложения поступали и снизу. В 1933 г. кладбищенский смотритель отправил министру образования и науки Бернгарду Русту письмо, в котором настаивал: «культурное обновление сообщества нашего народа» требует преодоления «либерально-материалистического духовного состояния», которое столь сильно пронизывает немецкие кладбища; он призвал создать «похоронный культ [Bestattungskult], общий для всех товарищей по расе [Volksgenossen] вне зависимости от того, богаты они или бедны»282. В 1937 г. некий инициативный инженер направил правительственным чиновникам в Берлине предложение возродить погребальные обычаи древнего христианства: хоронить покойных в подземных усыпальницах. Каким-то обрзом, очевидно, инженер связал рождение новой Германии с культурой ранней церкви283. Доводы в пользу погребальной реформы не были новыми, как мы знаем из предыдущей главы. И социалисты, и консерваторы уже давно пришли в отчаяние от «духовного состояния» берлинских мест для захоронения. Но эти идеи получили новый импульс после 1933 г., когда смерть, с ее практиками и материальной культурой, стала рассматриваться в качестве основы для переформулирования немецкости.
То, что члены нацистской партии взяли под свой контроль главные в Берлине институты, связанные с культурой кладбищ, несомненно, ускорило этот процесс. В 1934 г. Йозеф Пертль, член НСДАП с 1921 г., был назначен директором берлинского Управления садово-паркового хозяйства (Stadtgartenbaudirektor). Он служил также президентом Германского общества садово-паркового искусства (Deutsche Gesellschaft fr Gartenkunst) – крупнейшей профессиональной организации ландшафтных архитекторов и садоводов. Будучи преданным нацистским активистом, Пертль видел задачу своего подразделения в том, чтобы привести похороны в Берлине в соответствие с тем, что он считал истинным немецким пониманием смерти, и разработать принципы строительства и оформления кладбищ, которые больше соответствовали бы героическим обычаям прошлого. Проблемы берлинской погребальной культуры, считал Пертль, одновременно расовые и духовные: «Немецкое кладбище стало жертвой культурных ошибок прошлых столетий, на протяжении которых Германия была сферой действия чуждых рас и мировоззрений»284.
Влияние Пертля привело к новому взгляду на кладбища и на «эффектность» надгробий, которая критиковалась еще в Веймарскую эпоху. Когда в апреле 1935 г. Немецкое общество садово-паркового искусства собралось для обсуждения «проблемы кладбищ в Третьем рейхе», президент Пертль рассказал, как, по его мнению, добиться того, чтобы берлинские кладбища гармонировали с позицией Гитлера: «на моем надгробии будет только Адольф Гитлер, ничего больше». Это, сказал Пертль, указывает на идеал простоты и коммунитаризма. «Новое кладбище», вместо того чтобы при помощи изысканных памятников подчеркивать ценность индивида, должно «воздействовать на посетителя посредством полноты своего единства». Неудивительно, что Пертль находил это единство в немецких военных кладбищах Первой мировой войны, которые, по его мнению, прекрасно запечатлели «творческую волю текущего дня». В них «простые формы индивидуальных памятников ясно свидетельствуют о неделимом единстве солдат»285. Чиновники, разделявшие взгляды Пертля, вскоре стали активно выступать за массовое распространение военного идеала и его особой «немецкой» традиции общественного единения на гражданские кладбища. Оформление выдвинули на передний план. Было мнение, что надгробия должны располагаться горизонтально, а не возвышаться над могилами, неся на своей поверхности лишь имена и даты рождения и смерти покойного286. На подлинно немецком кладбище не должно быть ничего, что идет в ущерб эстетическому выражению полного общественного единства.
Нельзя сказать, что подобные предложения не встречали критики. Члены Ремесленной гильдии скульпторов и каменотесов (Handwerker-Innung fr das Bildhauer – und Steinmetz-Handwerk) были озадачены содержанием и возможными последствиями речи Пертля. Они без обсуждения отклонили идею, что индивидуальность в надгробиях противоречит новому государству; для них подчинение индивидуального коллективному было явлением Веймарской эпохи. Они боялись, что смерть превратится «в чисто функционалистский государственный вопрос», и аргументировали: хотя «индивид в сегодняшней духовной атмосфере принадлежит государству, в смерти он принадлежит прежде всего своей семье – которая, в свою очередь, есть зародышевая клетка государственного образования». Коллективистское мышление применительно к кладбищам, утверждали члены этой гильдии, создало прискорбную ситуацию во Франкфурте, где вдохновленная социализмом погребальная реформа Эрнста Мэя привела к созданию гражданского кладбища в военном стиле. Каменотесы заявляли, что это – «катастрофа», от которой «отворачиваешься в ужасе». Впрочем, к их облегчению, Мэй находится сейчас «в Москве», где предположительно его работа встретит более радушный прием. Однако антииндивидуалистичный, большевистский дух Веймарской эпохи – воплотившийся в работе Мэя и ему подобных – сохранялся у реформаторов кладбища вроде Пертля, намекали каменотесы. И они надеялись, что этот дух Германией «благополучно преодолен»287.
Каменотесов, конечно, беспокоило, что предписанное единообразие надгробий скажется на их заработках, однако личная заинтересованность не должна заслонять от нас нечто более общее: нацистская революция и в смерти, и других вопросах в значительной степени оставалась незавершенным проектом и то и дело становилась предметом для переосмысления, пересмотра, переинтерпретации. В конце концов идеал единообразия взял верх, и эта победа тоже важна. В 1937 г. вступили в силу «Указания по проектированию кладбищ», составленные Министерствами внутренних дел Рейха и Пруссии. Все, кто занимались погребением, а также планированием и строительством кладбищ, должны были стараться в своей работе «выражать идею Volksgemeinschaft [нем. – народной общности] сильнее, чем это делалось прежде»288. Необходимо было подчеркивать равенство и единство и препятствовать появлению на кладбище «индивидуалистических» различий, насколько это только возможно.
Пертль усердно трудился над тем, чтобы сделать этот идеал частью берлинской погребальной культуры. В 1938 г. он предложил создать огромные круглые лужайки – «Aschenhaine» [нем. Asche – прах, Hain – роща], где в окружении деревьев и среди «цветочных полей» прах мертвых мог быть немедленно «возвращен» в «циркуляционную систему» природы (см. Рис. 2.1). В нацистской поэзии описывались предки, «возвращающиеся в землю», чтобы «жить дальше» в новых формах, – вот так и погребение в Aschenhain позволяло мертвым вновь слиться с природой и таким образом незаметно перейти от одной формы существования к другой. Пертль утверждал: хотя «главная забота пацифиста – это забота о себе как в этом мире, так и в следующем», тот, чье отношение к жизни «героическое <…> знает, что выполнение долга – его обязанность, даже если это означает его кончину». Герой «подтверждает природу и ее законы», не заботясь о своей «индивидуальной загробной жизни [Weiterleben]»289. Это делалось путем самоотверженного обеспечения природы «строительным материалом новой жизни» – в противоположность сохранению индивидуальности после смерти при традиционном погребении в легко опознаваемой, оригинальной могиле. В Aschenhain, напротив, имена покойных должны были быть написаны на маленькой табличке, чтобы ничто больше не мешало выражению абсолютного социального единства. Как заметил современник, идея Aschenhain выражала «связь человека с человеком, а также их связь с элементами природы»290.
Рис. 2.1. «Aschenhain с высоты птичьего полета». Рисунок (1938) Йозефа Пертля, заведовавшего садово-парковой архитектурой Берлина. В Aschenhain, по теории Пертля, прах мертвых мог вернуться в «циркуляционную систему природы». Этот рисунок сопровождал статью, написанную Пертлем для отраслевого журнала «Die Feuerbestattung» («Кремация»). Landesarchiv Berlin, C Rep 110/1075.
Но и представления о подлинно немецком способе погребения имели пределы и противоположные истолкования. Когда Пертль предложил дополнить закон о кремации 1934 г. разрешением строительства и использования Aschenhaine, Министерство внутренних дел Рейха ему отказало, приведя веские причины. Помимо правовых осложнений – по закон о кремации 1934 г. прах надлежало хоронить в урнах, – отказ изменить закон имел и «расово-психологические основания». В министерстве заключили, что «чувства почтения и благочестия у большинства немцев» заставляют «категорически отклонить подобную форму “погребения”, поскольку она сделала бы невозможной их физическую связь с умершими»291. Берлинцы желали посещать могилы своих близких, ухаживать за ними и будут желать этого впредь. Важно, что министерский отказ от плана Пертля был основан на идее крепких уз между берлинцами и их покойными близкими, связи, как считалось, не только культурной, но и расовой по своей природе.
Эту связь нацисты стремились запечатлеть в самом ландшафте Берлина. Во время изначального планирования «Германии» – проекта по полному переустройству города в национал-социалистическом духе – главный гитлеровский архитектор Алберт Шпеер решил, что создание широкой «северо-южной оси» поперек города потребует секуляризации и перемещения нескольких кладбищ. Уцепившись за прекрасную, как ему казалось, возможность, Шпеер заручился поддержкой берлинского уполномоченного по могилам Эрнста фон Харнака (позднее он будет казнен за участие в заговоре с целью убийства Гитлера 20 июля 1944 г.) относительно создания кладбища для самых «важных и ярких персон культурной жизни Берлина»292. Шпеер воображал, что когда в ходе проекта «Германия» будут вскрыты могилы выдающихся деятелей, их останки можно будет перезахоронить на одном почетном кладбище в столице Рейха. И это кладбище – берлинское Пер-Лашез – станет последним пристанищем для политиков, военных, промышленников, поэтов, музыкантов, художников, философов, ученых, изобретателей, путешественников и прочих «великих немцев» прошлого и будущего. Так, Генрих фон Клейст, которому, как самоубийце, отказали в церковном погребении в начале XIX в., должен был быть выкопан из могилы в Ванзее и перезахоронен там293. Кладбище планировалось построить в Тиргардене, на реке Шпрее, у самого парка Бельвю. Расположенное возле центра города, оно было бы легко доступным для посетителей294. Это было заметным отклонением от тенденции, восходящей в Европе по крайней мере к концу XVIII в., – перемещать кладбища в городские предместья, что лишний раз подтверждает, какое небывалое значение придавали нацисты присутствию и близости умерших.
Когда мы узнаем об этих многочисленных планах и предложениях, реформаторских порывах и теориях, перед нами естественным образом встает вопрос об их последствиях. Строительство воображаемого Шпеером кладбища для «великих немцев», как и его экстравагантный план по поводу «Германии», так и не было осуществлено: помешала Вторая мировая. Схожим образом не были построены и Aschenhaine Пертля – во всяком случае, за двенадцать лет существования Тысячелетнего рейха. Итак: повлияли ли предложенные изменения в ритуалах, практике и материальной культуре погребения на то, как берлинцы хоронили и оплакивали умерших? Это непростой вопрос, учитывая скудость источников, описывающих восприятие нацистских ритуалов. Однако мне хотелось бы привести ряд доводов в пользу того, что нацистское мышление о смерти и ее ритуалах сыграло здесь весьма серьезную роль.
Первое, что можно утверждать с достаточными основаниями: в среде членов партии произошли изменения на уровне ритуала. Согласно источникам, в октябре 1937 г. исследователь, работавший в берлинском отделе у Розенберга, заключил, что «семейные празднования» рождения, свадьбы и смерти проводились «в духе мировоззрения НС»295. Известно также, что предложенные Шрекенбахом и Вицманом церемонии использовались при организации поддержанных партией мемориальных служб в Берлине296. Возможно, неслучайно после роста в 1933 и 1934 гг. с каждым следующим годом – с 1935-го по 1937-й – медленно, но верно снижалось количество протестантов, похороненных при участии церкви. В случае с католиками цифры колебались: доля похороненных по религиозным обрядам возрастала и снижалась между 1933 и 1936 гг., но в 1937 г. по церковному обряду было похоронено меньше католиков, чем в 1933 г.297 Этот сдвиг можно, в свою очередь, связать со спонтанным уходом из церкви, начавшийся в нацистской партии в 1936 г. Многие теперь определяли себя как gottglubig, то есть как просто «верующие в Бога» – что отражало принятие ими новой, санкционированной партией религиозной идентичности. В Gau [нем. гау – партийном округе] Берлина среди членов партии на учет встали больше Gottglubige, чем в каком-либо другом: в качестве таковых было записано более 10 процентов членов НСДАП298. Возможно, упадок церковного погребения стал результатом роста популярности среди Gottglubige «альтернативных» погребальных практик.
В то же время среди сторонников нацизма были и те, кто не отходил от своей христианской веры, считая ее вполне совместимой с нацистскими ценностями. Это также повлияло на похоронный ритуал. Похороны так называемых немецких христиан – представителей нацистского течения в протестантизме – проводило духовенство. Но его представители стали отказываться от большей части библейских стихов и многих молитв (оставляя, видимо, «Отче наш») и задействовали эстетические элементы вроде тех, за которые ратовали Шрекенбах и Вицман. Церковные алтари украшали огнем и сосновыми ветками, а некоторые немецко-христианские пасторы проводили погребальную службу в военном костюме или надев черные сапоги и ездовые бриджи299. Подобные похороны обнажали удивительный синкретизм, свойственный некоторым христианам в Третьем рейхе, в особенности, пожалуй, сторонникам «позитивного христианства» – ведь они не видели противоречия между «быть нацистом» и «быть христианином».
Так или иначе, приобщение берлинской публики – в самом широком смысле этого слова – к новым ритуалам оказалось непростым делом. В конце концов, иногда даже партия с трудом определяла, какими должны быть «истинно немецкие» похороны. Руководства, описывающие «праздники жизненного цикла», не доходили до некоторых отделений партии вплоть до 1942 г.300 Внутренний партийный документ 1941 г. констатирует: хотя НСДАП разработала и внедрила собственные ритуалы партийных съездов, а также добилась унификации партийных песен, флагов и «немецкого приветствия» во всех частях Рейха, «единых фундаментальных форм» для ритуалов похорон, свадьбы и рождения по-прежнему нет301. В 1941 г. чиновники, работавшие над введением этих форм, все еще спорили: является ли по-настоящему немецким бросание горсти земли в могилу (как было принято во многих частях Германии) или же это пережиток христианской практики. А цветы и венки – подлинно ли это немецкое?302 В брошюре 1943 г., адресованной активистам партии, фольклорист Штробель писал: празднования, которые являются лишь «рефлексивными и неестественными копиями старых, предположительно немецких, форм, [не служат] целесообразной основой для национал-социалистических празднований», – имея в виду, что процесс отсортировки и разграничений внутри «народной» практики, различных языческих увлечений, региональных обычаев и христианской традиции остается незавершенным303. Лишь в марте 1941 г. Министерство внутренних дел впервые постановило, что места для проведения церемоний в нацистском стиле – в Берлине и за его пределами – должны быть организованы в «старых замках», когда это возможно304.
Один исследователь предположил, что широкое принятие нацистских Lebensfeiern [нем. праздников жизненного цикла] могло быть затруднено своеобразными территориальными аспрями, которыми славились нацисты. Роберт Лей, глава Германского трудового фронта, возможно, пытался препятствовать сотрудничеству глав Gau в организации церемоний под покровительством своего соперника Розенберга305. Однако «в сравнении с “сильным резонансом”, который Розенберг <…> смог отметить на среднем и <…> нижнем функциональных уровнях <…> совсем нетрудно представить, что было значительное принятие фольклорных праздничных форм, предложенных бюро Розенберга»306. И действительно, в середине 1944 г. в Берлине нанимали органистов и других музыкантов, а также погребальных ораторов – чтобы провести похороны в новом стиле307.
Как бы то ни было, СД – служба безопасности СС (Sicherheitsdienst), собиравшая мнения немцев по широкому кругу вопросов, в 1943 г. докладывала об «исключительном и неизменном господстве по всей Германии христианской церкви» в том, что касалось похорон. В начале 1940-х гг. лишь 4 процента немцев официально отметили рождение своих детей в нацистском стиле, 8 процентов сыграли нацистские свадьбы и менее 1 процента похорон было проведено по нацистским обрядам308. Однако весьма показательно вот что: СД, особенно после начала войны, стало раздражать, когда пасторы включали в церковные заупокойные службы элементы нацистского похоронного ритуала. Степень проявленной ими озабоченности по этому поводу говорит о том, что формы и мотивы нацистского ритуала использовали не только убежденные нацисты из движения немецких христиан.
Важно также помнить, что сами немецкие христиане не были каким-то странным маргинальным движением в среде берлинских протестантов. Хотя их часто представляли – особенно исследователи церкви – подобным образом, такая характеристика абсолютно ошибочна. Влияние немецких христиан и их успех в деле переориентации миссии церкви в городе – даже прежде, чем власть захватили нацисты, – оказались весьма значительными309. Это значит, что перемены в ритуалах, которыми занимались немецкие христиане, были, возможно, более распространены и имели большее влияние на похоронный ритуал, чем можно было бы ожидать.
Вера – это, конечно, другая тема. Изменились ли представления берлинцев о смерти и ее смысле при нацистах, еще до начала войны? Изменилось ли их представление о загробной жизни? Это самые сложные вопросы. Окружающие смерть практики и верования, которые находились так близко к реальности повседневной жизни, что ближе и быть не может, крайне редко отражены в письменных источниках. Относительно богатыми источниками о связанных со смертью верованиях Веймарского периода служат работы Гюнтера Дена и Пауля Печовски; эти религиозные деятели испытывали сильный социологический интерес и чувствовали политическое обязательство дать право голоса «простому человеку», они хотели понять, какие существенные перемены происходят в их городе и как они сказываются на вере. Очевидно, Ден и Печовски имели также и то преимущество, что жили при либеральном политическом порядке. Они имели такой уровень доступа к представлениям о смерти, что других подобных описаний в источниках нацистского периода попросту нет.
Растущее количество сведений, полученных из тщательных исследований повседневной жизни в Третьем рейхе, показывает, насколько глубоко нацизм видоизменил немецкую культуру, и смерть здесь, как представляется, не исключение. Конечно, берлинцы не стали при нацизме язычниками, поклоняющимися солнцу или дереву. Восторги нацистских интеллектуалов по поводу их предполагаемых дохристианских корней и «германские» погребальные практики имели, судя по всему, относительно небольшое влияние на похоронный ритуал, и даже во время войны в том, что касается смерти, берлинцы не переняли целиком нацистскую программу. Но все же нацизм ввел новые образы в культуру смерти и придал новое значение старым символам. После Второй мировой войны в письмах к чиновникам муниципалитета, отвечающим за городскую архитектуру, содержались постоянные требования убрать свастику с надгробий на городских кладбищах. Историки берлинских кладбищ показали, что в годы нацизма на могилах появлялось все меньше христианских символов; их место заняли дубовые листья – которые всегда любили нацисты и националисты – и другие символы. Кроме того, изданные в 1937 г. руководства по устройству кладбищ рекомендовали делать все более простые и однотипные надгробья, соблюдать все большее единообразие – эффект «картотечной карточки» (Karteikarte)310. О каких же изменениях в ментальностях свидетельствует эта реконфигурация пространства?
Конечно, было бы упрощением считать, что использование огня на похоронах или дубовых листьев и сосновых ветвей для украшения могильных камней свидетельствует о принятии нацистского отношения к смерти в широком его понимании. В то же время, как показали исследователи, именно эти небольшие, неприметные и даже бессознательные жесты потенциально затрагивали миллионы людей, именно через них обретала форму нацификация повседневной жизни в Германии311.
Между тем процесс нацификации берлинской культуры смерти протекал и намного глубже. Ни создание обширных кладбищ для немецких культурных героев, ни придумывание новых похоронных ритуалов, ни реформирование погребения или пропаганду той или иной его формы – ни одну из описанных здесь мер невозможно понять до конца, если не учесть другую меру: попытку очистить Берлин от назойливого присутствия тех, кто все больше выпадал, перефразируя Клаудию Кунц, из границ моральной заботы германского общества. Если поставить на Берлин нацистскую визу означало переместить немецких покойников в центр столицы, а значит – символически – ближе к сердцу нации, то это также означало подавить влияние «других», на чьем фоне категорически переопределялась немецкость. На протяжении 1930-х гг. жизнь евреев в столице все больше ограничивалась; евреи сталкивались со все большим притеснением в повседневной жизни; новые границы между немцами и «другими» были проведены даже в смерти.
Уже в 1934 г. прусское Управление строительства и финансирования обратило внимание на снижение числа похорон на кладбище Херштрассе в Шарлоттенбурге. Как выяснилось, «члены НСДАП» решили, что это «еврейское кладбище [Judenfriedhof]»312, и стали отказываться там хоронить. Еще до того, как Нюрнбергские законы официально определили, кто является членом расового сообщества, а кто – нет, многие берлинцы, причем не только «члены НСДАП», начали отдаляться от своих соседей, коллег и бывших друзей – евреев. Когда в феврале 1935 г. умер художник Макс Либерман, его похороны были немноголюдны. Художественный критик Карл Шеффлер размышлял:
Случись ему умереть всего несколькими годами раньше, ему бы устроили роскошные похороны на Pariser Platz [нем. Парижской площади], в Академии художеств. А сейчас не было ни деятелей искусства, которое он представлял почти пятьдесят лет, ни [членов] научных обществ. Никто из высоких гостей, которых он принимал в своем доме, не пришел отдать ему последние почести; ни один официальный представитель Берлина, почетным жителем которого он был; ни один чиновник не выступил с благодарственным или прощальным словом. Из всех художников, которых он прямо или косвенно поддерживал, на похороны пришли только четверо <…> Кете Кольвиц, Ганс Пурман, Конрад фон Кардорф и Кляйн-Дипольд313.
Требования убрать евреев из общественной жизни стали звучать все громче, слышались и настоятельные заявления, что еврейские покойники и скорбящие должны исчезнуть из виду. В 1936 г. Министерство внутренних дел отреагировало на высказанные опасения, что в часовнях, связанных с муниципальным крематорием, скорбящие немцы могут сталкиваться со скорбящими евреями: во избежание таких случаев учреждениям было рекомендовано назначать разное время для еврейских и немецких служб – так, чтобы обе группы не оказались в одном месте314. Поступать иначе – значит противоречить «чувствам [sensibilities] народа»315. А в 1937 и 1938 гг. Министерство внутренних дел издало два отдельных постановления о еврейских похоронах в Третьем рейхе. Ими определялось, что запрет хоронить евреев на муниципальных кладбищах – о чем просили многие градоначальники по всей Германии – невозможен без изменения закона о кладбищах. Если евреи «Моисеевой веры» могли быть погребены на еврейских кладбищах, то «Rassenjuden», или «расовым евреям» – определявшимся как «неверующие» (glaubenslos) или «принадлежащие к христианской конфессии», – нельзя было отказать в захоронении на городских кладбищах: в конце концов «трупы должны быть погребены»316.
Тем не менее Людвиг Стиг, мэр Берлина, добился больших успехов в деле отлучения евреев от муниципальных кладбищ: все-таки, по его выражению, в городе было «несколько еврейских кладбищ». В качестве места для захоронения того, что он описал как Judenleichen, или «еврейские трупы», Стиг назначил один из городских крематориев. Для еврейских траурных служб там отвели особое место, отграниченное от комнат, где проводились службы по умершим немцам. «По необходимости» «ограниченными» были и еврейские службы, что означало запрет на «особое украшение или освещение в зале»317. Различие, которое проводил мэр между Leiche – обычным немецким обозначением трупа и Judenleiche, говорит об ощущении столь радикальной разобщенности между евреями и немцами, что она преодолевала даже смерть.
Здесь мы можем видеть наиболее ощутимые эффекты реконфигурации смерти, происходившей в Третьем рейхе. Отлучение евреев от «арийских» кладбищ в Берлине было вызвано не одними лишь кознями нацистского государства. В 1939 г. протестантский Луизенский приход в Берлине отказал евреям в праве быть похороненными на его кладбищах. Затем, в 1941 г., Берлинское объединение синодов (Berliner Stadtsynodalverband) издало «временные указания относительно присутствия евреев» на двух крупных отдаленных кладбищах, принадлежавших протестантской церкви в Штансдорфе и Аренсфельде. Согласно этим указаниям, погребение крещеных евреев допускалось, но лишь в определенные дни, часовни могли использоваться евреями только в присутствии протестантского священника, а надписи на надгробиях, указывающие, что покойный был «евреем или еврейского происхождения», запрещались. В результате к концу 1930-х гг. даже бывшее «еврейское кладбище» на Херштрассе было объявлено «ариизированным». Заявления берлинцев, желавших быть похороненными там, поступали из разных частей города – и в таком количестве, что многие приходилось отклонять318.
Подобные меры привели также к росту количества похорон на еврейском кладбище в Вайсензе. Со временем оно стало вторым после еврейской больницы на Иранишештрассе островком еврейского существования в нацистском Берлине, местом, где можно было вести богослужения и прятать для сохранности свитки Торы. Надгробный памятник Йозефу Шварцу, камерному певцу Берлинской государственной оперы, был столь велик, что, после того как осенью 1941 г. евреев начали депортировать транспортом на восток, он служил прячущимся местом укрытия и ночлега. Там же было сооружено укрытие, где могли прятаться евреи319. Жительница Берлина Элизабет Фрейнд вспоминала: поскольку евреям запретили гулять в лесу, а еврейским детям – играть в берлинских парках, еврейские кладбища были переделаны «в игровые площадки с песочницами для малышей. А дети постарше должны были очищать могилы и тропинки от сорняков, поддерживая их в хорошем состоянии. Таким образом, дети были при занятии и на свежем воздухе, и в то же время могилы содержались в порядке, чего, как ни странно, требовало гестапо»320.
Для некоторых, однако, психологические и эмоциональные трудности жизни в условиях нацистского террора и неравноправия оказались невыносимыми. Мартин Ризенбургер, раввин, проведший много похорон в Вайсензе, отмечал: каждый день доставляли для погребения тех, кто покончил с собой. «Были недели, когда самоубийств было столько, что мы проводили похороны в вечерние часы», – вспоминал он321. Автор одного из сохранившихся дневников, Виктор Клемперер, с чувством безнадежности писал, что мужа его знакомой не могли похоронить в Вайсензе в течение двух недель, потому что «было некогда из-за многочисленных самоубийств»322. И вообще кладбища не всегда могли служить надежным убежищем. Поскольку в случае «смешанного» брака смерть супруга-нееврея автоматически меняла правовой статус супруга-еврея, берлинское гестапо использовало погребение первого для задержания и депортации второго – прямо с городских кладбищ323. Уже в первые месяцы вывоза евреев за пределы города начальник по благоустройству Пертль запретил заключать новые контракты по содержанию еврейских могил324. Впрочем, вскоре в этом уже и не будет большой нужды.
Чтобы понять дальнейшее развитие берлинской культуры смерти во время Третьего рейха, мы должны на время перенестись из города на поля сражений. В конце концов, поворотным моментом в образе мыслей о смерти стали немецкое вторжение в Польшу и начало Второй мировой войны в 1939 г.: многие идеи, устремления и тенденции, возникновение которых мы наблюдали на протяжении этой главы, приобрели новые значение и актуальность, когда немецкие солдаты в большом количестве начали расставаться с жизнью. Нацистский режим был серьезно озабочен тем, как берлинцы и вообще немцы будут интерпретировать смерти на поле боя и справляться с ними. Этот вопрос имел колоссальное историко-социальное значение: в противовес смятению, навредившему памяти о смертях Первой мировой, режим надеялся с самого начала наделить смерти Второй мировой войны великой целью. Говоря о переживании берлинцами смертей во Вторую мировую, ни в коем случае нельзя упускать из виду их реальные и живые воспоминания о смертях в Великую войну. Многие помнили похороны при отсутствии тел для погребения и надгробия над пустыми могилами; помнили и о солдатах, которые не вернулись домой и участь которых так и осталась неизвестна. Не могло забыть обо всем этом и нацистское руководство.
Смерть на войне вызывала также большие практические проблемы. С самого начала конфликта нацистское государство столкнулось с реальными материальными последствиями массовой смерти: только за первый военный год погибли около 100 000 немецких солдат325. Остановимся ненадолго на этом факте. Поскольку общее количество смертей, связанных со Второй мировой, столь невероятно, столь беспрецедентно по своему масштабу, это число поначалу может не произвести впечатления. Но попробуем представить: что значит для государства – любого государства – столкнуться с таким большим числом умерших? Нужно вырабатывать процедуры, отвечать на вопросы. Можно ли перевезти умерших домой для захоронения? Если да, то какие поезда использовать? Кто будет это организовывать? Если тела погибших погребены на поле боя, кто будет отвечать за эксгумацию и контроль над их могилами? Строить ли для них кладбища? Кто будет обсуждать подробности смерти и захоронения с семьями? И какие подробности можно сообщать? Конечно, прецеденты были, прежде всего в Первую мировую, и ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht (OKW) – верховное командование вооруженных сил) и нацистское руководство могли на них оглядываться, разрабатывая процедуры, относящиеся к новым погибшим. Однако в государстве, где все мыслимые аспекты жизни так сильно политизированы, и в обществе, которое все еще скорбит по потерям в Первой мировой, решение каждого из этих вопросов сильно осложнено.
В самом начале войны останки погибших солдат, назвавших Берлин своим родным городом, судя по всему, отвозили для захоронения домой. В декабре 1939 г. муниципальные власти начали планировать их погребение – вместе с ранеными, впоследствии скончавшимися в Берлине, – на гарнизонном кладбище (Garnisonfriedhof), где прусских офицеров предавали земле начиная с XVIII в.326 Однако и партийные работники, и армия быстро поняли, что перевозка солдатских тел чревата далеко идущими последствиями. Сидя в своем берлинском офисе в начале 1940 г., Мартин Борман прокомментировал недавно полученное им «море» заявлений о транспортировке останков солдат домой, назвав это явление «неизвестным психозом», связанным с Первой мировой войной327. Однако если это и был «психоз», то не «неизвестный». Борман прекрасно знал, что в его истоках лежат болезненные воспоминания о Первой мировой, разворошенные новыми переживаниями и тревогами по поводу смерти на войне.
Поэтому когда в начале 1940-х гг. ОКВ приняло решение не возвращать домой тела солдат для погребения с оккупированных польских территорий, для некоторых берлинских семей оно стало, несомненно, переломным. Строившиеся в октябре 1939 г. планы относительно погибших на поле боя стали приводить в исполнение. Народный союз был освобожден от обязанности ухаживать за солдатскими могилами за границей, и организацией и сопровождением погребений занялись«похоронные офицеры» (Grberoffiziere). На тех местах сражений, где уже располагались кладбища времен Первой мировой, стали добавляться могилы погибших во Второй мировой. В других местах для размещения умерших создавались Ehrenhaine («рощи славы»). Своими «достоинством», простотой и недемонстративностью они должны подчеркивать, как отметил Борман в партийном меморандуме, «наше национал-социалистическое мировоззрение». Другими словами, оформление полевых кладбищ продолжает следовать тем самым принципам единства и равенства, которые включал в себя немецкий культ мертвых начиная с Первой мировой войны. Однако в отличие от более ранних военных кладбищ немецкие военные могилы больше не будут иметь никаких признаков конфессиональных различий. И, наконец, государство обязуется заботиться о могилах вечно – в знак благодарности германского общества за жертву своих солдат328.
Благоговение перед абсолютным социальным единством и идеология антииндивидуализма, столь характерные для Третьего рейха вообще и для его культуры смерти в частности, сплелись с практическими затруднениями, вызванными смертью военных. Конечно, привезти всех погибших домой для захоронения было в самом деле невозможно с логистической точки зрения, но нацистское государство делало еще и сильный акцент на солдатском коллективизме в смерти. Военные могилы должны быть «оформлены в благородном виде [wrdig gestaltet]», без «индивидуального акцента, выраженного в богатом и дорогостоящем украшении, которое нарушит солдатскую простоту и товарищество» мертвых329. В июле 1940 г. берлинская газета писала, что было бы «эгоистично» и «нисколько не по-национал-социалистически», если бы люди «со средствами» могли возвращать погибших сыновей домой. Во всяком случае, погибшие солдаты этого бы не хотели: «Офицер и рядовой, останься они в живых, сказали бы: они хотят после сражения покоиться рядом – так же, как они были атакованы и как погибли, все вместе. Немецкий солдат, отдавший жизнь за величие Германии, должен покоиться в земле, которую его кровь сделала священной»330.
Как следует из этого заявления, полевые захоронения не были только вопросом материальной необходимости или социальной этики. Погибшие, оставленные рядом с местом сражения, представляли собой неотъемлемую часть завоевательного проекта, превращения чужой земли в немецкую. По сути, фантазии нацистских поэтов о поколениях мертвецов, питающих землю новой Германии, стали теперь государственной политикой. В конце 1940 г. «приказом фюрера» было постановлено, что тела погибших солдат вермахта можно перемещать из одного места погребения в другое в границах Рейха, существовавших «31 августа 1939 г.», или же из «вновь собранных [германских] территорий», таких как Данциг; однако этого нельзя было делать с телами тех, кто умер в «регионах операций, в том числе в Дании, или на оккупированных территориях»331. На покоренных территориях, как писал один солдат, мертвецы будут насыщать почву будущей Германии:
- Позволь мне, мать, лежать в земле,
- Впитавшей мою молодую, горячую кровь!
- Позволь лежать там, где был найден сражающимся,
- Так чтобы я мог стать семенем для будущей Германии.
- Где же, о мать, мне лежать еще,
- Как не среди моих товарищей
- На поле сражения, на месте наших боевых подвигов
- Умираю, но счастливый победами Германии!
- Позволь лежать мне, мать! Когда в далекие времена
- Немецкие дети будут резвиться над моей могилой,
- Их радостный смех донесется до меня
- И освятит нашу смерть, нашу борьбу!332
Не только умершие солдаты станут «семенами» новой Германии, но и почва будет преобразована их кровью. Народный союз уже давно ссылался в своих публикациях на немецкие могилы за рубежом как на «немецкую Heimat на чужой земле»333. В контексте завоевательной войны на востоке солдатская кровь, как говорили, должна трансформировать почву, сделать ее немецкой. В марте 1942 г. вдове убитого солдата Иоганнеса Б. его командир сообщил: «Верный своей солдатской присяге, ради фюрера и Volk [нем. народа], ради величия Германии и ее будущего ваш дорогой муж встретил героическую смерть. [Он] умер сразу и не испытывает теперь никакой боли. <…> Его, а также нескольких его товарищей мы предали земле, на которой он дрался и которая благодаря его крови становится святой и немецкой землей»334. Умершие, их кровь и их могилы образовывали Heimat335.
Способность мертвых и их крови превращать чужую землю в немецкую тематизировал драматург Ганс Йост в травелоге «Призыв Рейха – эхо народа!» (1940). Йост путешествовал вместе с Генрихом Гиммлером по вновь покоренным польским территориям и описывал их, как описывают организм – в терминах «кровеносных сосудов, кровяного давления и кровообращения»336. Где-то около Кракова, стоя перед криптой саксонского короля XVII в., Йост радовался счастливым последствиям воссоединения живых немцев с их предками на восстановленной «родной земле»: «Мы стоим перед величественной барочной криптой Августа Сильного, саксонского короля, закончившего жизнь королем Польши. Под голым утесом узкого грота его мощная грудь, кажется, выдерживает тяжесть горы. Он не выглядит мертвецом. Он словно улыбается тому, что границы Рейха несут его тело в кровоток его Lebensraum»337. Именно такое понимание Lebensraum имеет в виду Эрик Мишо, когда переводит этот термин как «жизненное пространство»338.
Идея о глубокой и преобразующей связи между мертвыми и почвой, в которой они покоятся, особенно смело и явно проявилась в нацистских военных мемориалах. За их оформление отвечал Вильгельм Крайс, которого Гитлер в июле 1941 г. назначил командующим в сфере проектирования и строительства немецких военных кладбищ (Generalbaurat fr die Gestaltung der deutschen Kriegerfriedhfe). Крайс сделал успешную карьеру как архитектор в Германской мперии и Веймарской республике, и у него имелся кое-какой опыт в области военно-мемориальных проектов; он был членом жюри, рассматривавшего предложения по реконструкции Нойе-Вахе в качестве памятника жертвам Первой мировой войны в конце 1920-х гг.339 Однако настоящего успеха Крайс добился в годы нацизма. Едва вступив в новую должность, он начал планировать строительство массивных мемориалов Totenburgen [нем. замки смерти] – для павших во время Второй мировой. Задуманные как напоминание о Trutzburgen [нем. военных замках], где в Средние века укрывались от врага и готовили атаку, несколько Totenburgen построили еще в межвоенные годы340. Но поскольку Гитлер был особенно к ним неравнодушен, Крайс начал набрасывать план создания целого ряда этих просторных, похожих на крепости сооружений, под которыми должны были находиться склепы для массового захоронения умерших. Стратегически размещенные на границах Рейха от Норвегии до Северной Африки, Totenburgen обозначили бы территорию новой Германии буквально телами мертвецов (см. Рис. 2.2)341.
По словам современника, эскизы Крайса выражали «битву, мощь, жертву и победу, первичные силы великой бытийной борьбы народа». Они указывали на непоколебимую связь ландшафта и мемориала; последний, казалось, «вырастал прямо из мощи и сильного характера ландшафта»342. По крайсовским чертежам мемориала, как писал берлинский архитектор и профессор Фридрих Таммс в журнале «Искусство в Германской империи», можно почувствовать, что «именно здесь немцы сражались ради сохранения Heimat, ради немецкого характера и ради того, чтобы выиграть новое и необходимое Lebensraum. Они скрепили свое горькое обязательство своей кровью»343. Totenburgen, таким образом, должны были увековечить предполагаемую связь между немецкой кровью и немецкой землей.
Этот феномен имеет аналоги. Кэтрин Вёрдери писала, что тела умерших считались средством установления (или переустановления) территориальности новых наций-государств в бывшей Югославии. Также и в оккупированной нацистами Восточной Европе мертвые тела служили тому, что Вёрдери называет «переупорядочение смысловых миров» [«reordering meaningful worlds»]. Размечая новую или «восстановленную» территорию нации, немецкие мертвецы реконфигурировали пространство и становились символическим инструментом колонизации344.
Рис. 2.2. Вильгельм Крайс, проект мемориала в Осло (Норвегия), ок. 1941 г. Stephan H. Deutsche Knstler unserer Zeit: Wilhelm Kreis. Oldenburg: Gerhard Stalling Verlag, 1943.
В то же время трудно себе представить, чтобы разговор о преобразующей силе «праведной» крови случайно совпал с идеей очищающей силы крови Христовой. Несомненно, «кровь» приобрела новые смыслы при режиме, который использовал «биологический способ концептуализации социального порядка»345. Но притязание на очищающую силу крови показывает, как христианская символика могла обрести новую значимость и быть переосмыслена под влиянием нацизма. Солдат Адельберт Оттхайнрих-Рюле размышлял в письме, адресованном его семье и датированном мартом 1940 г.:
Если меня отправят на фронт, я все время буду думать о наших предках, отдавших всю свою жизнь службе Германии. Все они сражались и жертвовали ради германства, которое я воплощаю для будущего и ради которого я по долгу службы сражаюсь и приношу жертву <…> Я – носитель немецкой сущности <…> [Мой долг] – воля Того, Кто дал мне жизнь, и я выполню свой долг на этой войне.
В другой раз Рюле писал: «священный долг внутри меня – вызвать к жизни и защитить новое будущее: немецкую сущность, наш народ, наше Отечество». И спустя несколько месяцев: «Тот, кто отдает свою жизнь за Германию, не умирает, он продолжит жить в Германии будущего, ради которой отдал жизнь. Как прекрасна будет эта Германия, единая и сильная, полная красоты, и как много еще нужно будет сделать»346. Письма Рюле показывают, как традиционный национализм (наш народ, наше Отечество) и расистские идеи («немецкая сущность») могли соединяться с христианскими понятиями о бессмертии и искупительной смерти. Даже представители режима порой высказывали подобные взгляды. В докладе, изданном в 1941 г. подразделением Крайса в Берлине и посвященном его философии строительства военных кладбищ, отмечалось: хотя смерть солдата неизбежно связана с личной скорбью, она также является «гордым свидетельством победы, ради которой нужны были жертвы»347. Другими словами, смерть служит доказательством триумфа, доказательством искупления, в котором состоял смысл смерти Христа, о чем пишет апостол Павел в Первом письме к коринфянам348.
Потому не вполне правильно говорить, что нацизм инструментализовал христианские символы, хотя в определенных случаях, конечно, так и было349. Как и другие продукты немецкой культуры, нацизм несет на себе неизгладимую печать христианской веры, христианского учения и символики христианства, которое, в свою очередь, долго вырабатывало фундаментальный язык для понимания смерти. В этом смысле силу и привлекательность нацизма не обязательно объяснять тем, что это была форма политической религии; достаточно просто признать тот факт, что христианские образы, язык и символы сформировали часть глубинной структуры немецкой культуры350. Именно эта структура способствовала созданию образа Гитлера как квазимессии – искупителя и орудия божьей воли, того, кто поведет нацию к окончательной победе351 – и заставила многих увидеть судьбу родины, кровь, фюрера и немецкость как осуществление христианской эсхатологии – а не альтернативу последней.
Отнюдь не маловажно в этом контексте, что многие немцы – и гражданское население, и солдаты – интерпретировали войну на востоке как стремление христианской цивилизации одержать победу над безбожным, духовно выродившимся «иудобольшевизмом». Как писал один солдат в начале июля 1941 г.: «Адольф и я идем против нашего большого врага, России. Так исполняется одно из моих желаний – обойти эту богохульную страну. Это будет конец власти, противной Господу»352. Его мыслям вторил в октябре того же года другой солдат: «Как это будет прекрасно, когда тысячи [церковных] колоколов вновь зазвонят в этой бездушной стране»353.
Режим использовал эти представления в свою пользу. В 1941 г. в Берлине был издан сборник солдатских писем «Немецкие солдаты посещают Советский Союз» – с целью обнародования преступлений, якобы совершенных НКВД против украинского населения354. Темы этих писем – смерть, святотатство, поругание или извращение религиозных ценностей и образов; авторы описывали, как вешают вверх ногами священников с забитыми в голову гвоздями, как распинают девочек. Подразумеваемые авторы этих злодеяний – всегда евреи, «иудобольшевики», «враги Господа». Евреи изображались как враги не только человечества, но и всего хорошего. Один солдат писал: «Вот единственный известный [Советам] мир, вот так они были воспитаны. Они были отброшены от всего, что для нас, людей, всегда было святым, и сторонились всего, что могло отвлечь их от еврейской цели – повергнуть целый народ в состояние одичания и использовать его в борьбе за мировое господство Иуды»355.
Война на востоке воспринималась и как завоевательный поход, и как поход против безбожного советского коммунизма и евреев. При этомзадача захвата территории и задача преобразования ее в божью землю посредством жертвы немецкой крови были глубоко связаны. Антрополог Нэнси Джей описывает жертвоприношение как способ «объединить людей в сообщество и, наоборот <…> отделить их от скверны, болезни и прочих угроз. <…> Объединение, образующее единство чего-то, невозможно без отделения этого чего-то от других вещей»356. Жертва погибших на войне очищала и пересоздавала покоренные территории на востоке в качестве Heimat, культурно и даже духовно определяемого пространства. Эту реконфигурацию пространства нельзя было вообразить без одновременного устранения «угроз» – прежде всего евреев. И если евреи в партийной литературе описывались охваченными «сатанинской ненавистью»357, то смерть немецких солдат изображалась «святой».
Вот таким, в частности, образом радикальное исключение евреев из германского «социального тела» фокусировалось на смерти и обращении с мертвыми. Смерть и ее практики репрезентировали мир потенциального загрязнения; чистота обреталась в надлежащем исполнении этих практик, как дома, так и на фронте. В 1942 г., когда дефицит материалов поставил под угрозу поставку тканей для изготовления траурной одежды, режим был вынужден искать альтернативы. И даже это обстоятельство послужило поводом для распространения идей. Из своего берлинского кабинета Йозеф Геббельс постановил: «использование траурных повязок [Florstreifen]» в знак скорби «не рекомендуется <…> [поскольку] использование этого символа <…> свойственно евреям»358. Приверженность определенным практикам смерти оберегала от осквернения и немецких солдат на фронте. В письмах из сборника «Немецкие солдаты посещают Советский Союз» описано, как солдаты заставляют евреев хоронить умерших – не только в наказание, но также в знак позора и порчи, – проводя тем самым символическое разграничение между побежденным и победителем. И в Берлине, и на фронте смерть превратилась в театр воспроизведения тщательно охраняемых расовых и культурных ценностей. К этой теме нам еще предстоит вернуться.
Теперь мне хотелось бы вернуться к самому Берлину, чтобы проанализировать, насколько это возможно, эмоционально-психологическое влияние на жителей города смертей военного времени. Как отмечалось выше и как становится ясно из изучения правительственных документов и докладов СД, с самого начала войны режим постоянно был озабочен тем, каким образом эти смерти воспринимает общественность; особенное беспокойство вызывало исключительное, как считалось, влияние на людей церкви. Спустя несколько недель после вторжения в Польшу местные партийные лидеры (Orts – и Kreisleiter) освободили пасторов от обязанности извещать родственников о пропавших и погибших солдатах – выполнявшейся ими по крайней мере со времен Первой мировой. Как писал чиновник из Министерства пропаганды, обычно пасторы первыми появлялись, чтобы обеспечить «более или менее желательное утешение» и поддержку семей тех, кто пал в бою359. Но по новому распоряжению не церковники, а партийные работники отвечают за предоставление немецким семьям правильной точки зрения на смерть в военное время.
Столь же важной для режима была коммеморативная деятельность в столице Рейха: планировалось, что она вызовет позитивную реакцию общественности и в конце концов вытеснит церковные поминальные службы. В августе 1940 г. начальники по пропаганде и культуре в разных Gaue начали проводить регулярные публичные «службы в честь павших» (Gefallenenehrungsfeiern). Они были разработаны с целью пробудить «среди общественности, как и среди понесших утрату, подобающее чувство и привести к выражению народом в целом непреходящей благодарности и благоговения»360. Хотя партия не могла помешать церквям проводить мессы и похоронные службы по умершим на войне, она тем не менее запрещала им проводить официальные поминальные службы вроде тех, которые предоставлялись государством, и постоянно боролась за идеологическую монополию в сфере военной коммеморации361.
Центральное место в мемориальном репертуаре режима продолжали занимать массовые представления для нации, которые устраивались в Берлине в День памяти героев и транслировались по радио на всю Германию. Эти церемонии, как правило, начинались с музыкального аккомпанемента в исполнении государственной оперы. Тем временем почетных гостей, включая лидеров режима, «годных к службе раненых», покалеченных ветеранов, прикованных к креслам-каталкам, а также родственников убитых солдат размещали вокруг центральной сцены Берлинской оружейной палаты. Затем следовали речи, пение национального гимна и других песен, военные парады, иногда – спортивные представления. В завершение торжеств участницы Лиги немецких девушек (Bund deutscher Mdel) отправлялись к солдатским могилам, чтобы украсить их цветами362.
Партия старалась сделать явной свою роль «защитника экзистенциальных интересов народа» на праздновании Дня памяти героев, «взяв в свои руки», как было сказано в записке Министерства пропаганды для Gauleiter (региональных партийных начальников), формирование немецких мыслей о солдатской смерти. Автор записки отмечал: крайне важно, чтобы немецкий народ понимал: «наши умершие умерли не за церковь, а за Германию»; смерть немецких героев, таким образом, не должна «стать объектом конфессиональной пропаганды». Вместо этого мемориальные службы и ритуалы в честь павших должны были донести до немецкого народа «значение высшей жертвы [солдата] и развить <…> чувство долга, возникающее из знания об этой жертве»363. Жертвоприношение отвечало идеалам коллективного долга и готовности выполнить высшее обязательство ради «жизни Volk». Наличие «героического понимания жизни» измерялось относительным отсутствием у индивида беспокойства по поводу собственной смерти и готовностью отдать жизнь ради германской свободы и коллективного бессмертия. Этим темам и была посвящена речь Гитлера на праздновании Дня памяти героев в Берлине в марте 1940 г.: сражаться солдату тяжело; но когда оглядываешься на природу и видишь, как она «всегда требует жертв для того, чтобы произвести новую жизнь», как «она причиняет боль ради исцеления ран, – тогда солдат в этом цикле есть первый представитель жизни»364.
Если не считать празднований Дня памяти героев, реакция общественности на мероприятия режима по поминанию погибших на войне – Gefallenenehrungsfeiern – была сдержанной, во всяком случае поначалу. СД докладывала в 1941 г., что многие считали празднования преждевременными. Некоторым казалось, что их не нужно проводить до окончания войны или что для поминовения умерших будет достаточно более широких празднований – 9 ноября и Дня памяти героев365. Несомненно, многие надеялись, что победа Германии скоро положит конец войне и принесенным ею потерям, равно как и необходимости в мемориальных службах. Но этого не случилось: потери росли, настроения менялись. По мере продолжения войны, особенно начиная с 1942 г., поддерживаемое на государственном уровне почитание павших приобретало все большее значение366. Тем не менее как партия ни старалась, ей не удалось добиться полного замещения церковных служб по умершим собственными службами367.
Но особенно тревожило партийных лидеров стилистическое сближение нацистских и церковных мемориальных служб, и это обстоятельство немаловажно. В похоронах немецких христиан использовались нацистские мотивы: огонь и сосновые ветви, а также новые литургические эффектности, – но и в поддерживаемых церкоью мемориальных службах применялись те же нацистские элементы, что вызывало шумное недовольство партийных активистов. Как сообщала в начале 1943 г. СД, во время некоторых религиозных служб по павшим установленный перед алтарем гроб украшали флагом, шлемом и «двумя скрещенными саблями или же, в случае офицеров, мечами». Стало «общепринятым», по словам информанта, «что семью павшего ожидает в церкви пастор, после чего начинается церемония». Пастор проводит членов семьи «через густой кордон верующих, которые оказывают семье особенное почтение, к специальному почетному месту». Иногда в этих церковных церемониях принимали участие военнослужащие, и тогда исполнялась «Песня о добрых товарищах»368. Все эти практики занимали центральное место в нацистских празднованиях и были апроприированы христианским духовенством; здесь мы вновь видим, как две совершенно разные системы верования и мышления соединялись в практиках и ритуалах смерти, при этом видоизменяя друг друга.
Для режима подобный синкретизм был неприемлем. Война продолжалась, и чиновники все активнее пытались формировать нужный взгляд на смерти военного времени. Вместе с тем они были вынуждены признать, что эти смерти вызывают колоссальную личную боль. Традиционная солдатская песня «Kein schn’rer Tod als wer vorm Feind erschlagen» («Нет смерти лучше, чем от рук неприятеля») была запрещена на Дне памяти героев, поскольку ее «считали едва ли не святотатственной жёны и матери погибших»369. Одна берлинская мемориальная служба «стала почти невозможна» после того, как «женщины попадали в приступе рыданий», писал начальник пропаганды Берлинского Gau. Чтобы предотвратить подобные взрывы чувств в будущем, Борман настоял на исключении определенных стихотворений из мемориальных служб, потому что эти стихи «слезливы»370.
В глазах нацистов скорбь, несомненно, была связана с женским темпераментом: это проблема жен и матерей, женщин, не способных контролировать свои чувства на публике. Грусть, слезы, «эмоциональность» – все это прямо противоположно стоицизму и самоотверженности, которые должны демонстрировать немцы перед лицом смерти. «Плач был не vlkisch»371. Публичное выражение горя изо всех сил подавлялось режимом. «Эмоциональность и стенания не выражают нашего мировоззрения, для которого смерть – лишь [очередное] проявление жизни», – гласила одна партийная публикация372. «Ложная чувствительность», как утверждалось, – это «смертельный яд»373. Режим желал, чтобы население испытывало stolze Trauer («гордую скорбь»). В ней подчеркивалась «не <…> смерть павших, а <…> величие их достижений, их борьбы и их жертвы»374. Однако слезы убитых горем на берлинских мемориальных службах указывали на совсем иной комплекс чувств.
Таким образом, партия должна была соблюдать баланс между молчаливым признанием печали населения и желанием подчеркнуть нацистское понимание смерти. Соответственно, при подготовке к ежегодным празднованиям Дня памяти героев всегда учитывались, казалось бы, незначительные вопросы чувствительности (sensibility) и уважения по отношению к славе павших. Автор партийного журнала «Neue Gemeinschaft» («Новое содружество») настаивал: правильно подготовленное для подобных церемоний место должно отражать в первую очередь принципы «достоинства» и «простоты»375. Символику следует свести к минимуму. «Один Железный Крест» должен висеть на стене; допускается присутствие еще нескольких «символов движения», но никаких бюстов или портретов Гитлера, никаких цветов в горшках, никаких шлемов. И никаких, что примечательно, изображений усопших – напоминаний об индивидах. Нововведений вроде «магически освещенной» копии солдатской могилы, изготовленной однажды для похорон и вызвавшей «пронзительные крики ужаса, [поднимавшиеся] с галереи», следует также избегать376. Китч, новизна, эмоциональность и украшательство – нежелательны; серьезная, строгая и, главное, «исполненная достоинства» эстетика, отражающая благодарность за принесенную солдатом жертву, – поощряется.
Существенно изменить подход к празднованию Дня памяти героев и его эмоциональной атмосфере парторгам пришлось после сокрушительного поражения Германии под Сталинградом. Им необходимо было добиться правильного баланса между признанием личного горя и трансляцией партийного понимания смерти на войне: в 1943 г. празднования должны были быть «особенно достойными»377. В знак признания сложных обстоятельств спортивное действо, которое прежде часто становилось элементом церемоний, из программы исключили. Вальтер Тислер, глава Государственного объединения народного просвещения и пропаганды (Reichsring fr Volksaufklrung und Propaganda), объяснял: «Несомненно, есть места, где было так много потерь, что нас не поймут, если День памяти героев не будет полностью посвящен скорби»378. Это обозначило ключевой нюанс в подходе. Всего годом ранее чиновник предостерегал от «изможденной печали» в День памяти героев379, а в 1943 г. Тислер предположил, что огромное количество смертей – и, конечно, сталинградский опыт – требует более мрачной манеры празднования. Иначе не «поймут» берлинцы и нация. Очевидно, конвенции и формы выражения почета, предшествовавшие нацизму, память о том, как солдат чествовали в прошлом, и скорбь о возрастающем количестве смертей в текущей войне – все это меняло тональность коммеморации в военное время.
Кроме того, в период после Сталинграда христианские церкви начали усиливать свое влияние – именно потому, что потери германского общества оказались столь велики. Фрэнк Биес утверждает, что эти потери привели к «широкому выходу из национал-социализма» и «ключевому изменению смысла “жертвы”: от активной жертвы во имя окончательной победы, господствовавшей в национал-социалистическом воображении, к более пассивному перенесению страдания, совместимому с христианским дискурсом»380. Эта догадка добавляет важнейший оттенок к нашему пониманию массового отношения к нацизму, войне и смерти. В то же время мы не обязательно должны полагать, что если к 1932 – 1943 гг. по умершим близким скорбело большее число немцев, и притом в церкви, то идеализм, окружающий солдатскую смерть в Третьем рейхе, утратил всякое значение. Мы видели, как в Третьем рейхе соединялись христианские и нацистские верования и практики. Берлинцы, как и жители остальной Германии, могли быть христианами и при этом разделять нацистские ценности. Какими бы ни были представления режима vis--vis христианской религии, христианские представления о смерти и загробной жизни вполне совмещались и с нацизмом как живым опытом, и со сформулированной им коллективной, национальной целью. Конечно, у этого синкретизма были пределы: нацизм не мог предложить универсального спасения, как это делало христианство381.
Более того, хотя верно, что современные доклады службы разведки СС интерпретировали выражение скорби верующими как потенциально враждебные государству, мы не должны принимать эти интерпретации за чистую монету382. В конце концов, скорбь охватывает целый спектр чувств (sensibility) и выражается разными способами, многие из которых не имеют ничего общего с политикой. Кто-то ощущает потерю сына как ужасный личный удар, но это ощущение не обязательно угрожает героическому статусу сына – социальным и коллективным ассоциациям, связанным с его смертью. И хотя историки склонны рассматривать относительную готовность общественности посещать или не осещать организованные государством ритуальные мероприятия в честь мертвых как, в сущности, политический выбор, то есть как утверждение или отрицание своей преданности нацистским принципам и целям, мы все-таки должны допускать более широкий спектр мотивов. Социальные соображения – «для порядка» – также должны учитываться как потенциальный фактор, влиявший на то, почему жители Берлина и остальной Германии появлялись или не появлялись на нацистских празднествах в честь погибших на войне. Мог ли человек не прийти на мемориальную службу, на которой должны были чествовать его или ее сына, и избежать при этом негативных социальных последствий? С эмоциональной точки зрения одни могли считать невыносимым посещение мемориальных церемоний, кто бы их ни устраивал, другие же могли считать невозможным оставаться от них в стороне. Некоторые простые люди, для кого публичные почести вроде тех, что предлагались и на церковных, и на государственных мемориальных службах, были редкостью, могли радоваться признанию жертвы их семьи и минуте славы их сына, отца, брата, да и своей собственной. Возможно, поэтому СД так часто докладывала, сколько верующих положительно относятся к получению персонального внимания на мемориальных церемониях. Семьи позитивно откликались на индивидуальное признание, на то, что местные партийные руководители сопровождают их к предназначенному для них месту. Они были рады получить персональное приглашение на празднества, слушать, как читают письма, написанные их ушедшими близкими, как во всеуслышание, под сопровождение барабанной дроби произносят их имена. И наоборот, некоторые представители общественности тревожились, когда чувствовали, что в их участии не нуждаются: мемориальные службы в Берлине часто бывали обязательными внутрипартийными мероприятиями и на них не всегда допускалась широкая публика383. Итак, в Третьем рейхе люди, несомненно, испытывали самые разные чувства по поводу смерти близких на войне – как это было и есть в других обществах.
Весьма интересный пример – случай Эмиля Вёрмана, который в письме 1943 г. назвал себя одним из основателей Rotfrontmpferbund (Союза красных фронтовиков), военизированного подразделения КПГ. В геббельсовском Министерстве пропаганды, должно быть, были рады получить это письмо, столь совершенно оно иллюстрировало приверженность идеалам жертвенной смерти и «гордой скорби». Обращаясь с целью поблагодарить «движение НСДАП» за сообщение (пришедшее в том же году) о том, что его «любимый и единственный сын» Руди «умер геройской смертью», Вёрман с болью и гордостью в равной мере писал:
<…> мой любимый сын был солдатом не за страх, а за совесть, в семнадцать лет пошел добровольцем в десантники. <…> Он был моей величайшей гордостью. Девять членов нашей большой семьи к настоящему времени отдали свою жизнь за отечество. Десятеро из наших ближайших родственников сражаются на Восточном фронте, из них двое пропали без вести. Все они носят фамилию Вёрман. Через охотную самоотдачу [Hingabe] моего единственного сына я принес величайшую жертву ради отечества. Да не будет пролита напрасно его кровь и кровь миллионов немцев, и да не уйдет от нас ниспосланная свыше, справедливая победа. Да не будет далек тот час, когда германские флаги поднимутся в честь германской победы и мы, в гордой печали, задумаемся о тех, кто внес вклад в великую победу посредством добровольного пожертвования своей жизнью. В этих раздумьях и в скорбном размышлении о моем единственном сыне я приветствую вас: слава Гитлеру384.
Тот факт, что Вёрман – бывший коммунист-военный, возможно, говорит о том, насколько значимым мог быть для некоторых идеал жертвенной смерти – как кажется, практически безотносительно к идеологии. Скорбя о смерти сына и других членов семьи, Вёрман все же был уверен, что победа Германии в войне оправдает эти смерти.
Возможность сосуществования грусти с другими эмоциями демонстрируют и некрологи того времени. То, что чувства выражены в них весьма схожим, даже стереотипным образом, делает их еще более показательными. По традиции в местной газете появлялись два некролога об одном усопшем: один писала семья, другой – друзья, коллеги или, скажем, члены объединения, к которому тот принадлежал. Несмотря на все более дурные вести с фронта после 1943 г., понимание солдатской смерти как «жертвы» «во имя Fhrer und Grodeutschland [нем. фюрера и Великой Германии]» оставалось в некрологах того времени «заезженным тезисом», как говорил Виктор Клемперер, распознававший в них «много разных оттенков» значения – «от величайшего энтузиазма до <…> критической дистанции». Те, кто больше других поддерживали нацизм, часто выражали свою поддержку в терминах, которые, по мысли Клемперера, отражали отмеченное выше смешение христианских и нацистских мотивов:
Наиболее высокие степени энтузиазма в отношении нацизма находят выражение во фразах: «[О]н умер в бою (fiel) за своего Фюрера» и «он умер за своего любимого Фюрера», – в которых Отечество даже не упоминается, поскольку оно и репрезентировано, и заключено в самом Адольфе Гитлере, так же как тело Господне заключено в священном воинстве. А выражение высочайшей степени национал-социалистического пыла влечет за собой однозначное помещение Гитлера на место Спасителя: «Он пал, веря в своего Фюрера до последнего»385.
Конечно, некрологи читались современниками по-разному, о чем Клемперер знал не хуже других. Некоторые берлинцы использовали их, чтобы ясно и прямо сказать о своем личном горе. Некрологи и в национальных газетах, таких как «Vlkischer Beobachter», и в местных, таких как «Berliner Lokal-Anzeiger», раскрывают глубокую, личную скорбь: «Мой сын, твое сокровенное желание – вновь увидеть твою обеспокоенную мать – останется неосуществленным», – гласил один. В другом стенали: «После долгого, безрадостного ожидания мы получили ужасное, глубоко печальное и до сих пор непостижимое и мучительное известие, что мы потеряли сына. Его самое большое желание – снова увидеть близких дома после долгой разлуки, уже никогда не сбудется».
Эти чувства идут, кажется, из глубин отчаяния. Неудивительно, что руководители партии считали их «пораженчеством» и желали, чтобы авторы некрологов были более «героическими» в своих «формулировках» солдатской смерти. Но нацисты знали силу этих чувств и боролись с тенденцией контролировать составление некрологов, понимая, что это вызовет мощное сопротивление берлинской общественности386. Другими словами, идеология иногда уступала скорби, и нацисты, очевидно, так и не смогли добиться «монополии» на, строго говоря, смысл солдатских смертей387.
Это также напоминает нам, что изменение взглядов на смерть в Берлине периода Третьего рейха было длительным, особенно в контексте войны и все возрастающего количества смертей на поле боя. Существенными в этом процессе были давние культурные установки, равно как и меняющиеся обстоятельства. Простое утверждение, что немцы вроде Эмиля Вёрмана идеализировали солдатскую или героическую смерть, не способно объяснить ни значительных градаций, которые существовали в рамках этого убеждения, ни разнообразия форм, которые оно могло принимать, ни специфических чувств, которые индивиды приписывали смерти близких. В феврале 1943 г. режим уведомил лютеранскую консисторию Бранденбургской марки (включавшую в себя Берлин) о нормах по уходу за военными могилами на «не принадлежащих Рейху» кладбищах. Иначе говоря, протестантские церкви должны были содержать солдатские могилы на своих кладбищах в соответствии с этими нормами. Одно из правил гласило: за исключением случаев самоубийств, обстоятельства гибели солдат не должны сказываться на их погребении. Солдаты, «скончались ли они на фронте или дома в результате ранения или болезни», должны быть «преданы земле вместе». На причину смерти солдата мога указывать лишь надпись на индивидуальном надгробии388. Таким образом, режим хотел, чтобы единообразное погребение солдат и стандартизация их надгробий и могильных камней отражала неизменную трактовку их смерти как героической – кроме крайне недостойных случаев самоубийств389.
Примерно в то же время, однако, штаб-квартира НСДАП в Берлине получила известие с одного муниципального военного кладбища, которое «было не особенно привлекательным» для общественности, как сформулировал чиновник. Было похоже, что погребенные на том кладбище, вновь построенном для погибших во время Второй мировой войны, либо убиты при несчастных случаях, либо умерли в «ходе их военной службы». Иначе говоря, «ни один не был павшим в исходном смысле этого слова»390. Чиновник сказал, что эти смерти выглядели в глазах общественности менее ценными, нежели смерти солдат, павших на поле боя. По-видимому, они не вызывали той же симпатии, не имели той же символической торжественности – вот почему люди избегали посещать находящиеся там могилы. Этот пример показывает: даже когда режим подавлял возникновение иерархических различий между видами воинской смерти и настаивал на том, что все смерти солдат одинаково значимы и ценны, германская общественность требовала, чтобы между гибелью на поле сражения и другими разновидностями солдатской смерти сохранялись различия.
То есть общественность ценила и идеализировала смерть на поле боя подчас еще больше, чем это делал режим, настаивавший на том, что смерти всех солдат – одинаково героические. Более того, режиму все время приходилось приспосабливаться к меняющимся нуждам германского общества, скорбевшего по погибшим, которых становилось все больше; обществу требовалось и признание его собственной жертвы, а особенно – признание фронтовых героев. Другими словами, интерпретация смерти на войне была текучим процессом, инициатива в котором переходила от режима к общественности и наоборот, и зависела от положения немцев на фронте и других обстоятельств.
Для жителей Берлина самые драматичные и ужасные обстоятельства были еще впереди. В феврале 1943 г. Йозеф Геббельс произнес речь, поддержав верных курсу партии берлинцев и призвав их к высвобождению новой боевой энергии, к полной и безоговорочной приверженности общему делу, объединяющему каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка в Германии. Вскоре смерти Первой мировой превратились в далекие воспоминания: над городом в полную силу шли воздушные бои, и понятие «тотальной войны» приобрело совершенно новый смысл. Любой берлинец, который все еще думал, будто война идет где-то там, далеко от родины, быстро расставался с этой иллюзией. Местные представители партии, сообщающие вести с фронта о пропавших без вести и павших, стали к этому времени привычным зрелищем и успели получить название Totenvgel («птицы смерти»). Партийное руководство предписывало им носить гражданскую одежду вместо униформы, чтобы в них не так скоро узнавали вестников смерти. Им запретили также посылать слишком опознаваемые – отмеченные красной каймой – извещения о смерти и велели ждать десять дней после сообщения семье о смерти солдата, прежде чем отправлять домой его личные вещи. Их призывали быть более «тактичными» и менее откровенными в разговорах о павших. В самом деле, надо ли «подавлять» и «тревожить» семьи подробностями о том, что их любимого сына не удалось похоронить, что пришлось оставить его тело на поле боя? В то же время люди требовали точной информации о смерти близких; они хотели знать подробности и нуждались в них391. По мере того как смерть становилась обычным явлением, партийные работники ходили по все более тонкой грани.
В начале 1944 г., когда Берлин уничтожала воздушная война, некая фрау Д. написала Геббельсу письмо, совсем не похожее на то, что писал менее года тому назад Эмиль Вёрман. Она объясняла, что ее муж Альфред, имевший звание штурмфюрера в НСФК – национал-социалистическом авиакорпусе (Nationalsozialistische Fliegerkorps – NSFK), пропал без вести в ходе воздушного налета в декабре 1943 г. Она думала, что он погребен в завалах на Шиллерштрассе, 15, где ранее был задействован в спасательных операциях.
Возможно, господин Геббельс, вы можете понять, что значит для нас эта потеря и как это мучительно – не знать, что произошло, и не иметь возможности навестить могилу. Я сделала все, что только могла придумать, даже была в морге, но все бесполезно. Уважаемый господин д-р Геббельс <…> не могли бы вы помочь нам обрести покой и проследить, чтобы на Шиллерштрассе, 15, все было расчищено, так чтобы я могла найти моего мужа?392
В письме фрау Д. слышно особое горе – горе, связанное с незнанием. Берлинцы все чаще будут сталкиваться с ним, по мере того как бомбы будут сыпаться градом, а линия фронта – неумолимо приближаться к Германии.
3. СМЕРТЬ КАК ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В1942 г. доктор П. Данцер из Reichsbund Deutsche Familie [нем. Имперского союза немецких семей] подготовил работу под названием «Культ смерти или культ предков?» Эта рукопись была частью проекта ведомства Розенберга и связанных с ним ученых по возвращению чистоты и аутентичности культу погребения в Третьем рейхе путем восстановления «германских» ритуалов смерти. «Почитание мертвых – это практика, которая существует у всех народов с незапамятных времен, – писал Данцер. – Мы находим ее в самых разных формах как у примитивных, так и у цивилизованных народов [Kulturvlkern]»393. Данцер предположил, что быть человеком – значит почитать мертвых; причем то, как именно почитают мертвых, относится к самой основе культурного различия. Поиск большей чистоты и аутентичности в немецком культе погребения при нацизме часто приводил к дискуссиям об «отличительно немецком», в которых современники утверждали сущностную связь между их уникальным культурным наследием и культом мертвых.
Однако ведущаяся союзниками бомбардировка Берлина, особенно после ее резкого усиления в конце 1943 г., явилась беспрецедентным вызовом традиционным практикам обращения с умершими. Трупы стали вдруг материальным фактом повседневной жизни; они появлялись на улицах, их нужно было извлекать из-под завалов. Иногда, как мы видели в случае фрау Д. в конце предыдущей главы, люди исчезали, их тела так и не находились, и у тех, кого они оставили, это вызывало мучения особого рода. Как и в случае с солдатами, способы обращения с телами погибших во время воздушной войны – не только то, как их поминали, но и то, как от них в буквальном смысле избавлялись, – поднимали вопросы, связанные с идентичностью и социальной добродетелью: что делалось и чего не делалось при обращении с умершими? Историк Дэвид Кресси писал, что ритуальные действия, такие как похороны, указывают людям на общее между ними посредством утверждения границ сообщества394. Вот и погребальный ритуал в нацистском Берлине, в условиях воздушной войны переопределял немецкость путем утверждения общности. Ритуал демонстрировал родство, выступал в качестве декларации сообщества и – в экстремальных условиях – мог даже описывать и скреплять этническую идентичность. Нельзя сказать, чтобы современники замечали или даже осознавали этот процесс. Как писали Питер Меткалф и Ричард Хантингтон, люди в большинстве своем редко формулируют свое ощущение (sensibilities) правильности, которое, однако, регулярно проявляют перед лицом смерти395. Приняв это наблюдение за методологическое руководство, я в нижеследующем анализе смерти в условиях воздушной войны сосредоточусь как на том, что делали берлинцы, – на их социальной и ритуальной практике, – так и на том, что берлинцы утверждали, – чтобы показать, каким образом они переживали смерть в очевидно экстремальых обстоятельствах.
Особый опыт Берлина во время воздушной войны делает его уникальной площадкой для изучения вопросов, окружающих гражданскую смерть в нацистской Германии. Будучи столицей Третьего рейха, город во время Второй мировой войны имел колоссальное символическое значение как внутри, так и вне Германии. Он был, кроме того, городом, из которого планировалась и велась война; именно там мертвецы нации обретали бессмертие через мемориальные парады и каменные памятники. Однако парадоксальным, возможно, образом на протяжении всех первых лет конфликта Берлин не испытал самого тяжелого и рокового для германского тыла опыта войны – воздушных бомбардировок. Берлинцы, конечно, читали в газетах о разрушениях в других частях Германии, слышали радиосообщения и с фронта, и из тыла396. Они жили, сознавая, что их близкие погибают в бою. Но в первые четыре года войны многие из них не сталкивались со смертью непосредственно.
Первые бомбардировки столицы Королевскими ВВС, начавшиеся в конце августа 1940 г., похоже, не слишком взволновали ее жителей397. Хотя к ноябрю 1943 г. за тем первым налетом последовали уже 92 новые атаки, поврежденные здания считались чуть ли не туристическими достопримечательностями; шрапнель берлинцы собирали в качестве сувенира. «Мы часто стояли на балконе и смотрели [на бомбы], как на фейерверки», – сообщал в мемуарах норвежский журналист Тео Финдаль398. Чтобы поддержать эту невозмутимость в жителях города, Альберт Шпеер, главный городской инспектор по строительству, организовал группы заключенных, военнопленных, подневольных рабочих и евреев – разбирать завалы, устранять повреждения и строить новые дома для оставшихся без крова после бомбардировок. Квартиры, конфискованные городом у берлинских евреев, предоставляли горожанам, чьи дома были разрушены в ходе налетов, из-за чего почти неожиданно в Берлине начала 1943 г.появилось больше доступного жилья для нееврейского населения, чем было в начале войны. Несмотря на общую атмосферу самообладания, казалось, царившую в городе между 1940 и концом 1943 г., смерти при налетах все же случались, и по сравнению с некоторыми другими городами Германии того же периода их было даже относительно много. В 1941 – 1941 гг. в результате бомбардировок погибли 448 берлинцев.
Уже 4 марта 1938 г. – то есть всего за несколько дней до Anschlu [нем. аншлюса] – начала вводиться система мер: для Deutscher Gemeindetag [нем. Германского конгресса общин] были выпущены секретные протоколы с указаниями муниципалитетам о том, что следует делать с трупами в случае воздушных налетов399. С началом военных действий, 2 сентября 1939 г., глава берлинской городской полиции издал новые протоколы; эти правила определяли «пункты сбора трупов» (Leichensammelstellen) в районах Веддинг, Кройцберг и Пренцлауэр-Берг и устанавливали определенные обязанности для разных работников городской администрации: от перевозки трупов с места их обнаружения в пункты сбора до опознания тел, составления свидетельств о смерти и погребения умерших. Членам семей давалось 48 часов, чтобы забрать покойного для индивидуального захоронения; город, соответственно, отвечал за обеспечение «официального погребения в общих могилах»400. Эти планы предусматривали упорядоченную войну, с последствиями которой – в виде человеческих потерь – собирались управляться аккуратно, методично и целенаправленно.
Весной 1942 г. стратегия Королевских ВВС поменялась. Когда обнаружилось, что прицельное бомбометание не такое точное, как хотелось бы, самолеты военно-воздушных сил Великобритании начали атаковать густонаселенную городскую местность Германии, сочетая прицельные и участковые, или ковровые, бомбардировки. Такой подход, нацеленный на возникновение больших пожаров, привел к гораздо большим потерям и материальному ущербу401. Это нововведение привело к почти полному уничтожению Гамбурга в июле 1943 г. и унесло там более 34 000 жизней. Оно способствовало также ощутимому росту напряженности в столице Рейха. В следующий после разрушения Гамбурга месяц за пределами Берлина состоялась крупнейшая в истории массовая эвакуация из немецкого города, и большинство школ остались закрытыми после летних каникул. Хотя необычно широкие берлинские улицы препятствовали распространению огненной бури вроде той, что поглотила Гамбург, а позднее Дрезден, все-таки в ходе серии налетов между 23 августа и 4 сентября 1943 г. в Берлине были убиты, по некоторым данным, 1646 человек. Самая страшная из этих атак случилась в ночь с 23 на 24 августа, когда особенно пострадали районы Штеглиц, Шёнеберг и Темпельхоф.
Затем, зимой 1943/1944 гг., произошло то, что историки воздушных войн часто называют Берлинской битвой. Это была решительная попытка координированных сил Королевских ВВС и Восьмых военно-воздушных сил США добиться подавляющего перевеса союзников в войне и расстроить функционирование нацистского правительства в самом его сердце402. Между 18 ноября 1943 г. и 25 марта 1944 г. бомбы, сброшенные на Берлин, унесли более 10 000 жизней. Самая дорогостоящая, если говорить с точки зрения ценности человеческой жизни, атака была произведена 23 – 24 ноября: за эти 48 часов примерно 4000 человек были убиты и 574 стали числиться «пропавшими». Сильнее всего пострадали центральные районы Митте, Тиргартен и Веддинг, а такие заметные объекты, как Александерплац, Шпиттельмаркт и Унтер-ден-Линден, были разрушены до неузнаваемости; после этих атак одна жительница Берлина назвала город попросту «мертвым»403. После марта 1944 г. большую стратегию Берлинской битвы отменили, расценив связанные с налетами потери союзников слишком большими; тем не менее впоследствии на Берлин было произведено еще несколько масштабных атак, и самая страшная из них пришлась на 3 февраля 1945 г.
Иными словами, к концу 1943 г. берлинцы уже не разбирали шрапнель на сувениры. Они ночевали в бомбоубежищах, пытаясь вообразить, что творится снаружи и какой судьбы они избежали. Один берлинец, сидя в бомбоубежище и думая о своей жене, которая осталась где-то снаружи, описывал сцены насильственной смерти, одолевавшие его разум:
У тебя столько времени здесь [в бомбоубежище] на размышления, на то, чтобы представить себе ужасающее истребление, которое затмевает Гойю. Удушение, утопление, сокрушение ударом, сгорание в запертой комнате, умопомрачение от страха под обломками рухнувшего дома, ужасные раны от шрапнели <…> оторванные конечности, разодранные органы и животы, вскрывшиеся под воздушным давлением от бомбы. <…> твое воображение сводит тебя с ума404.
Однако, несмотря на очевидный ужас налетов, берлинцы смогли в значительной степени включить их в повседневную жизнь. Они научились оставлять воду в ваннах и держать под рукой песок для борьбы с пожарами; они не развешивали белье на ночь (так как это могло способствовать распространению огня) и держали наготове собранные сумки на случай ночевки в бомбоубежище. Они даже делали прогнозы, поняв, что в очень плохую погоду налетов не бывает. Они стали следить за часами, так как обычно тревога начиналась в определенное время. И все же общая атмосфера оставалась спокойной. Как-то вечером, выпивая с Финдалем в баре на Лейпцигской площади, известный берлинский журналист сказал ему: «Англичане ошибаются, если думают, что атаки должны вызвать здесь политическое недовольство. Люди вполне заняты личными проблемами – у них нет времени на политику. <…> Новый Берлин не возникнет из руин – он уходит под руины. Ваше здоровье!»405
Конечно, многие берлинцы, как тот человек, чей опыт напомнил ему о Гойе, боялис авиаударов и мыслей о смерти; однако были и те, кто близкую встречу с собственной бренностью переживали едва ли не с эйфорией. После сильнейших ударов 3 февраля 1945 г. Маргрет Бовери писала: «До сих пор я считала это [изобретением пропаганды], что после столь серьезной атаки население [города] упрямо идет дальше. Но это так. Это не ненависть, не горечь, но чувство: я все еще жив, причем впервые по-настоящему»406. Для одного мальчика жизнь в условиях воздушной войны была «чем-то рискованным, как в каком-нибудь романе, а смерть, дававшая себя почувствовать более зримо и непосредственно, придавала жизни странный блеск»407. Кое у кого опыт жизни и выживания в условиях смертельной опасности вызывал энтузиазм.
Однако другие обстоятельства воздушной войны интегрировать в повседневный опыт было труднее. После массированной атаки 3 февраля 1945 г. некто Леманн вспоминал:
Сгоревшие, усохшие трупы лежали на улицах. В десять утра, на Ораниенштрассе! <…> Было так жарко, было трудно дышать. Мы сняли с мертвых противогазы и надели на себя. Там стоял трамвай, весь в огне, полный людей, которые не могли из него выбраться. Перед сиротским приютом на Альте Якобштрассе лежали груды сгоревших детских трупов [Babyleichen], прямо на улице!408
Тела на улицах, обугленные, уменьшившиеся наполовину от своего нормального размера из-за потери жира и воды; оторванные от туловища головы и конечности; мертвые дети – такой была беспримесная и очевидная реальность смерти от воздушной войны. Подобное зрелище было кардинальным отклонением от того, что современники считали «нормальным» опытом; этот контраст подчеркивает Леманн: «Ораниенштрассе в десять часов утра» – и мертвые, сгоревшие тела. И если другие аспекты воздушной войны стали со временем более или менее рутинными, а кому-то они даже дарили эйфористические переживания, инаковость трупов нельзя было растворить в обыденном через частое соприкосновение. Практически во всех послевоенных берлинских мемуарах описано либо созерцание мертвых тел, либо соприкосновение с ними в те дни – этот факт говорит не только о том, что их присутствие в повседневной жизни вызывало диссонанс, но и о продолжающемся воздействии этого присутствия на память и воображение берлинцев. Например, жительница Берлина описывала в своем дневнике, как когда-то могла «есть толстые бутерброды» в подвале своего дома, служившем бомбоубежищем. Потом кое-что изменилось:
С тех пор как после бомбежки я лишилась дома и должна была помогать вытаскивать погребенных под завалами, я нахожусь под страхом смерти [Todesangst]. Симптомы всегда одни и те же. Сначала пот на коже головы, затем сверление в позвоночнике, комок в горле, нёбо горит, сердце колотится. <…> Если бы я только могла молиться. Мозг рыщет в поисках слов <…> Пока волна не отступает409.
Опыт воздушных налетов, судя по словам этой женщины, мог быть интегрирован в повседневную рутину; извлечение мертвых тел из-под руин – не могло (см. Рис. 3.1).
Как могут рассказать нам антропологи, при столкновениях берлинцев с обугленными человеческими останками нарушались два типа табу: те, что относятся к священным объектам и существуют, чтобы усиливать наше чувство трепета и благоговения перед ними, и те, что имеют функцию отделения опасного и нечистого от контакта с группой. Гертруда Кох пишет: «Одна из главных функций табу – регулирование наших отношений с мертвыми»410. Другими словами, труп – это объект и тревоги, и удивления. Мэри Дуглас объясняет функцию табу как «спонтанное средство защиты особых категорий мироздания. Табу защищает локальный консенсус относительно того, как организован мир». Регулятивная способность табу необходима людям, потому что неопределенность, пишет она, вызывает «когнитивный дискомфорт» и пугает411. «Идеи обособления, очищения, размежевания и наказания за непослушание должны, по своей главной функции, налагать порядок на беспорядочный по своей природе опыт»412. Трупы на улицах Берлина во время войны были неоднозначны, нарушали порядок; они были «чем-то неправильным». Их появление ставило под вопрос фундаментальный порядок вещей, они посягали, возможно беспрецедентным образом, на локальные нормы того, что хорошо и правильно, что пристойно.
Рис. 3.1. Рабочие выносят из здания жертву бомбового удара. Берлин, 1944 г. На фото видны несколько представителей власти в униформе; точное место, где был сделан снимок, неизвестно. © Bildarchiv Preuischer Kulturbesitz/Art Resource, NY.
В таких условиях берлинцы прилагали больше усилий к поддержанию благопристойного, по их представлениям, обращением с мертвыми. Эти усилия, в свою очередь, вели к приданию большего социального значения «правильному», отвечающему определенным правилам обращению с мертвыми. Погребение погибших гражданских становилось на протяжении войны все более трудным для городских властей, не только потому, что возрастало количество трупов, но и потому, что массовая смерть усугубляла, в дополнение ко множеству практических вопросов и вопросов здравоохранения, вопросы чувствительности (sensibility) и идентичности, а также опасения по поводу социальной сплоченности.
Разумеется, ощущение безграничной военной мощи, которое пытался создать режима, было подорвано появлением мертвецов на улицах столицы Рейха. Поэтому городские чиновники стремились избавляться от них наиболее правильным и рациональным способом. На кону стояли критические вопросы гигиены; чиновники заботились о том, чтобы избежать распространения инфекционных болезней, которые могут возникать от контакта с разлагающимися трупами. Однако протоколы, касающиеся обращения с мертвыми и избавления от них, не сводились только к материальным вопросам, например где и как собирать мертвые тела. Они неизменно включали рекомендации, подразумевавшие почтение к общим культурным идеям относительно обращения с мертвыми. Противопоставлять принимавшиеся городскими чиновниками меры и реакцию на них общественности – значило бы не учитывать, что обычаи смерти – это основополагающие культурные практики, выражающие набор норм и ценностей, разделяемых группой.
В результате внезапного роста смертности в Берлине зимой 1943/ 1944 гг. планы по поиску, собиранию и погребению трупов, прежде выполнявшиеся относительно строго, были признаны недостаточными. Как бы рационально берлинская администрация ни делала свою работу, война продолжалась, и быстро избавляться от многих сотен тел становилось все труднее. Поэтому напряженные поиски компромисса между правильностью и гигиеной, необходимостью и обычаем будут продолжаться до конца войны. Именно по этой причине городским чиновникам в начале 1944 г. пришлось издать более подробные правила ликвидации трупов (дополнявшие изданные в 1939 г.); причем в этих новых правилах очевидно учитывалась проблема чувствительности (sensibility). Согласно им, например, выкладывание мертвого тела для опознания должно быть одновременно «эффективным» и «уважительным». Более того, несмотря на очевидно усугубившуюся ситуацию в начале 1944 г., семьям жертв воздушных налетов все же разрешалось забирать тела для индивидуального погребения, когда они того желали. Иногда семьи отказывались от гроба, в который их умершего близкого уже положили муниципальные спасатели, предпочитая выбрать гроб самостоятельно. Несомненно, такие соображения препятствовали бюрократическому рационализму и означали, что время, затраченное на подготовку трупа к погребению, частично потеряно впустую413. Но важно обратить внимание: значительные усилия по сохранению административных норм продолжали приниматься (см. Рис. 3.2).
Рис. 3.2. Во время воздушной войны жертв бомбрдировок раскладывали для опознания в Leichensammelstellen (пунктах сбора трупов). Этот снимок был сделан в одном берлинском спортзале в 1944 г. На заднем плане, за рядами тел можно увидеть ряды гробов. Согласно полицейским инструкциям, после опознания жертв они могли быть немедленно подготовлены для погребения городскими служащими. © Bildarchiv Preuischer Kulturbesitz/Art Resource, NY.
Во время войны переписка чиновников германских городов была посвящена главным образом вопросам обычая и правильности похорон, а также проблемам их практичности и гигиены. В сентябре 1943 г. мэр Хемница связался с чиновниками в Deutscher Gemeindetag в Берлине, чтобы узнать, как хоронили жертв воздушных налетов в других частях Германии; он предполагал, «что каждому павшему полагался индивидуальный гроб», однако хотел знать, «опускаются ли затем эти гробы в общие могилы, то есть бок о бок [Kante an Kante], или, возможно, пластами, или же это, может быть, нежелательно»414. «Нежелательно» – для кого? Несомненно, мэр Хемница просил не только технического совета, но и какого-то указания на правильность и общественную чувствительность (sensibilities). Использование индивидуальных гробов, по его словам, было минимальным требованием.
О местных нормах и сенсибильностях (sensibilities) кое-что говорит тот факт, что по всей Германии, включая Берлин, извлечение и погребение трупов были делом преимущественно военнопленных и подневольных рабочих415. Берлинцы не относили себя к «категории людей», которые должны выполнять подобную работу. В терминах Дуглас, такая работа предполагает «грязь», то есть беспорядок416. Нежелание иметь дело с грязью может быть вызвано боязнью микробов, но может также проистекать из страха морального загрязнения, порчи. Работавшим в группах поиска трупов (Leichenkommandos) давали Ekelzuschlag (буквально – «надбавка за отвращение»): иногда это были дополнительные деньги, но чаще шнапс. Ekelzuschlag была признанием предельного отклонения этой работы от нормальных форм жизни и труда и, вместе с тем, проецированием на них ощущения ужаса. Работники должны были испытывать отвращение к своей работе; Ekelzuschlag служила анестезирующей компенсацией. Чиновник из администрации Гамбурга рассказывал берлинским коллегам, как происходит поиск мертвых тел и что для этого требуется:
<…> Нужно, особенно если [трупы и части тела] уже находятся в состоянии разложения, превозмочь определенное отвращение. <…> Это чувство нарастает до того, что вызывает рвоту. Но если у вас есть шнапс, это чувство можно подавить, и тогда можно работать. Если нужно работать там, где трупы уже в состоянии разложения, во рту появляется очень неприятный вкус. Но его тоже можно унять, если имеется шнапс. Курение сигарет тоже работает – не во время работы, потому что у сигареты будет плохой вкус, – а во время перерыва. Перерывы нужно делать каждые два часа, чтобы подышать свежим воздухом. Нам лучше всего помогал ром417.
Смерть в Берлине и других городах Германии была практической проблемой, очевидным образом касавшейся здравоохранения. Она не была лишь вопросом правильности. Однако, насколько можно судить, отношение берлинцев к мерам, которые принимались для избавления от мертвых, свидетельствует о моральном потрясении, о реакции на, если угодно, моральную грязь, на что-то, что нарушало разделяемое сообществом чувство приличия. То, что «отвратительно» или «нечисто», может быть материально – если это относится к чему-то, от чего может тошнить. Это также вопрос чувствительности (sensibility), которая непостоянна, изменчива, а значит, исторична418.
Поразительный пример этого сложного смешения практических и этических вопросов и локальных норм дает использование – или же отказ от использования – общих могил для захоронения берлинцев, погибших в результате воздушной войны. Согласно упомянутым выше протоколам 1939 г., берлинская полиция планировала хоронить убитых при авиаударах в общих могилах, если только семьи не приходили забрать тело, чтобы похоронить его в частном порядке. Эти планы, составленные на следующий день после вторжения в Польшу, были сугубо теоретическими. Но к апрелю 1941 г., после того как первые воздушные налеты на город привели к нескольким сотням смертей, ситуация изменилась. Теперь, «после внимательного рассмотрения», руководство Deutscher Gemeindetag заключило, что захоронение берлинцев, погибших в результате воздушной войны, «осуществляется только в индивидуальных могилах», потому что так хотят семьи419. Ко времени наиболее интенсивных бомбардировок города, между ноябрем 1943 г. и серединой марта 1944 г., индивидуальные могилы не только были предметом требования берлинцев, но и одобрялись на высших уровнях государственной власти. В феврале 1944 г. Адольф Гитлер издал указ, совершенно определенно осуждающий обязательное использование общих могил для Volksgenossen [нем. соотечественников]420. Йорг Фридрих высказал вполне правдоподобное предположение, что в сознании Гитлера общие могилы были слишком тесно связаны с методами ликвидации трупов, практиковавшимися в концентрационных лагерях421. Конечно, странно думать, что руководство государства, вовлеченного в массовое убийство, с таким благородством относится к погребению собственных мертвецов, но в том и дело. С членами германского общества – расового сообщества – по определению нельзя было обращаться так же, как с теми, кому не повезло считаться врагами Германии. Различия между немцами, с одной стороны, и евреями и подневольными рабочими – с другой, должно было поддерживаться даже – а может быть, и особенно – в смерти.
Показательно, что и в июне 1944 г., после того как гражданские потери в Берлине возросли чрезвычайно, общие могилы не использовались нигде в городе – за исключением одного случая, когда сто двадцать два Ostarbeiter (нем. букв. восточных рабочих) – эвфемизм для подневольных рабочих из Восточной Европы) – были скопом погребены на Вильмерсдорфском кладбище422. Это говорит о том, что с общей могилой ассоциировалось бесчестие, что она была совершенно неприемлемым нарушением обычая и, следовательно, использовалась только для представителей низших рас и изгоев, несмотря на все более экстремальные условия. В обществе, явно организованном по расовому принципу, процедуры погребения задействовали различия – одновременно моральные, культурные и расовые. В результате само понятие о «правильном погребении» становилось выражением этнической солидарности и превосходства. Министерство внутренних дел постановило в конце 1943 г.: могилы советских военнопленных должны поддерживаться «только самым общим способом; главным образом, вопрос должен состоять в том, чтобы эти могилы оставались узнаваемыми как таковые, [не более того]»423. Этих военнопленных запрещалось класть в гробы, а хоронить нужно было в общих могилах по мере возможности424. Хоронить мертвых и ухаживать за их могилами – значило демонстрировать и материально выделять различия между немцами и другими.
Категория «других» стала включать в себя даже тех немцев, которые своими действиями отделились от коллектива. Датский журналист Якоб Кроника пересказывал услышанную им от доктора Ахма Блоха, судьи, историю о генерале Хеннинге фон Трескове. После смерти фон Трескова в 1944 г. он был погребен со всеми военными почестями на его семейных землях. Однако спустя некоторое время стало известно о его связи с покушением на Гитлера 20 июля 1944 г. И однажды его брат случайно увидел, как эсэсовец и дваузника концлагеря вскрывают могилу брата. Когда он спросил, что они делают, эсэсовец ответил: «Фюрер распорядился, чтобы предатели не покоились в германской земле». Гроб генерала извлекли из могилы; его брат так и не узнал, что произошло потом с его телом425.
Но бывало и так, что после смерти врага проявлялось если не сочувствие к нему, то некоторое уважение к его «человеческому достоинству». В середине 1944 г. в меморандуме ОКВ, адресованном командованию военного округа (Wehrkreiskommando), отмечалось: «хотя это может вызвать чувство антипатии у населения», могилы иностранных врагов в Берлине должны поддерживаться «так, чтобы это отвечало человеческому достоинству». Эту работу должны выполнять заключенные – лучший способ добиться того, чтобы немецкие могилы поддерживались «во вражеских странах» (im Feindesland), гласил меморандум. В конце концов, «объединенная Европа, за которую сражается Гитлер, подобно сегодняшнему Рейху, все еще будет населена вражескими народами, а значит, в интересах будущей организации Европы сделать так, чтобы эти могилы поддерживались в должном порядке, так, чтобы не был разрушен мост взаимопонимания»426.
Так или иначе, в усилиях некоторых берлинцев по сохранению этого «моста взаимопонимания» можно, в конечном счете, увидеть еще одно средство для обозначения различий. В мае 1944 г. протестантский дьякон по фамилии Шрёдер передал в Берлинский городской синод слова благодарности от голландских рабочих и лагерных заключенных за «вполне христианское и торжественное погребение», которое он незадолго до того провел для кого-то из их товарищей. Голландцы боялись, писал дьякон, что, когда кто-то из них умрет, его просто «закопают» (verscharrt) «без всякой церемонии» (ohne Sang und Klang). При этом дьякон Шрёдер утверждал, что похороны, которые он провел для этих рабочих и заключенных, проходили «правильно и столь же церемониально, что и германские похороны: в часовне, с игрой на фисгармонии и зажженными свечами; [там и] библейские стихи с надгробным словом и благодарением, необходимые формальности выполняются над могилой; [затем] благословение и тихая молитва!»427
Слова дьякона любопытны: хотя немцы считали голландцев этническими родственниками, а не низшей расой, голландские рабочие почему-то считали, что их похоронят без церемонии. Действительно, кладбище в Марцане, где покоились другие голландцы, имело довольно унизительное отличие – оно считалось бедняцким (Armenfriedhof), где людей хоронят за счет города. Что еще более знаменательно, дьякон считал необходимым защищать нормы благопристойности в обращении с мертвыми – даже иностранными. Отсюда можно заключить, что другие этих норм не соблюдали. В любом случае похоже, что проведение похорон для иностранных рабочих строго регулировалось. Рекомендации по их проведению содержал меморандум Министерства внутренних дел от августа 1944 г.; видимо, из соображений безопасности соотечественникам иностранных рабочих, занятых на тех же работах, прямо запрещалось посещать их похороны. То же касалось их немецких нанимателей. Наконец, ни тем, ни другим не разрешалось класть на могилы венки428.
Противоположностью культурных и расовых различий в смерти была артикуляция германского единства. Для режима это означало размещение солдатской и гражданской смерти на одном уровне. Обе в равной степени считались «необходимой жертвой» ради жизни нации, ради ее выживания в окружении полчищ опасных врагов. Вокруг этого принципа оформлялся ритуал: мемориальные службы для гражданских и для солдат почти или совсем не имели различий. Партийный меморандум 1941 г. гласил, что «жертвы воздушных атак, равно как солдаты на фронте, умерли во имя величия Германии»429. А значит, их надо хоронить так же, как и солдат. В ноябре 1943 г. Вильгельм Крайс приступил к планированию военно-мемориального кладбища в Берлине, которое должно было стать последним пристанищем как для солдат, так и для погибших в ходе воздушной войны430. Спустя месяц городское берлинское правительство выпустило рекомендации по захоронению погибших в войну, где оговаривалось, что погибших гражданских – если только они не евреи и не поляки – нужно хоронить среди солдатских могил на специально отведенных участках кладбищ. Их могилы следовало отмечать точно так же, как и солдатские, то есть Железным Крестом. Если же родственники покойного гражданского лица хотели похоронить его в другом месте, они также могли (при желании) получить надгробие в форме Железного Креста431.
Отдельным семьям, выразившим такое желание, разрешалось организовать похороны по-своему; в противном случае погибшие гражданские предавались вечности и поминались в Берлине посредством «общинных похорон» (Gemeinschaftstrauerfeier) – за счет государства. Эти церемонии устраивали местные партийные работники. Глава района украшал гражданские могилы венком со свастикой на красной полоске. Поперек венка помещалась серебряная лента с выражением сочувствия от столицы Рейха432.
При организации коллективных похорон для гражданских лиц, погибших во время войны, местные партийцы ориентировались на журнал «Neue Gemeinschaft» [нем. «Новое содружество»], где содержались советы по музыкальному и прочему оформлению, а также подробно рассказывалось об особенно впечатляющих похоронах. Дух приведенного ниже надгробного слова, прозвучавшего на мемориальной службе по гражданским жертвам воздушной войны в 1944 г., считался образцовым:
В этот знаменательный день, когда покойники нации предаются земле, мы переживаем тайну становления. В самой глубине сердца мы чувствуем, что мы меняемся. <…> Смысл [этих] смертей – в нашем возрождении в Рейхе. Немцы по всему миру принимают участие в этих смертях. <…> Боль матерей, слезы вдов и сирот – это муки нового рождения. <…> из смерти появляется кровь нового человека, фюрера, на чьих плечах покоится здание будущего. <…> Так для нас вечный плач смерти превращается в нескончаемое и священное утверждение жизни: мрачная смерть высвобождает мощные силы!433
Как солдатские смерти считались преображающими жертвами, необходимыми для дальнейшего выживания нации и воспроизводства расы, так и гражданские смерти служили причиной не столько для печали, сколько для возрождения, освобождения и становления. Автор этого надгробного слова настаивал, что для немцев смерть заодно с жизнью, она способна высвобождать катарсическую энергию – и не только на поле боя. Поэтому на похоронах как жертв бомбардировок, так и солдат звучали одни и те же песни; избитый мотив о солдатской дружбе – «Песня добрых товарищей» – по-прежнему был самым любимым. Более того, и гражданские, и солдатские похороны выражали коммунитарный идеал, характерный для нацизма и особенно для его взглядов на смерть. Жизнь индивида, согласно этому идеалу, конечна и столь же «мала, как зернышко на фоне просторов матери-Земли», но это зернышко является источником коллективного бессмертия, как предначертано в «вечных законах природы». Аллегории с природой и ее законами продолжали служить излюбленным выражением идеи вечной жизни расового сообщества: «Новая весна победит темные, холодные зимние ночи, кровь павших и слезы близких, оставленные позади, станут святым зерном для величия и бессмертия нашего народа»434.
Историки склонны считать (задним умом) нацистский подход к поминанию погибшего в войну гражданского населения манипуляторской уловкой, чтобы мобилизовать германских граждан на дальнейшую поддержку катастрофически проигранной к 1943 – 1944 гг. войны. Норберт Фишер полагает, что уравнивание солдатской и гражданской смерти при национал-социализме – пример «политической инструментализации частных боли и горя»435. Сходным образом пишет и Джей Бэрд: партия «расширила границы доверия» путем проведения коллективных похорон погибших гражданских: «Каким возможным утешением могло быть это в травматичные дни 1944 и 1945 гг. – слышать обещание выступающего от партии, что “в осознании общей судьбы вы не одиноки в вашей печали, люди нашей общины заключают вас в свои объятья, равно как и люди Gau, и, о да, весь немецкий народ”?»436 Конечно, это справедливый вопрос. Но для современников ответ на него в какой-то мере зависел от их прогнозов дальнейшего хода событий. Выиграй Германия войну, победа наделила бы смерти гражданских значением необходимой и даже героической жертвы. Только потому, что мы знаем – сейчас, – каким катастрофическим было поражение Германии, эти смерти кажутся нам крайней расточительностью.
Рассматривая коммеморативные усилия военного времени как чистой воды пропаганду, можно упустить бесчисленное множество социальных смыслов, приписываемых смерти в Третьем рейхе. Как во всяком обществе, в нацистской Германии было много разных пониманий индивидуальной смерти: она могла и оплакиваться как личная утрата, и, в равной степени, оцениваться с точки зрения ее вклада в большой социальный и национальный проект. Представление о том, что нацистское государство поминало погибших в войну гражданских лишь для обслуживания своих политических целей, поддерживается допущением, будто нацистские взгляды на смерть были изобретением режима – безуспешно переносимым на членов германского общества, но так никогда ими и не усвоенным.
Иная картина вырисовывается, если не рассматривать берлинскую и вообще германскую общественность как пассивного заложника замыслов и прихотей режима, как всего лишь объект его лживых пропагандистских кампаний, а задуматься о немецкой культуре при нацизме как об историческом комплексе, который построен на старых ценностях, переосмысленных для новых обстоятельств и новых принципов под маской вневременных сущностей. Если принять во внимание изменения в культуре смерти, начавшиеся на раннем этапе Третьего рейха, можно увидеть желание режима поминать гражданскую смерть как имеющую прямое отношение к тем представлениям о смерти, которые вырабатывались на протяжении всей истории нацистской Германии в целом. В этих представлениях подчеркивалась незначительность индивидуальной жизни по сравнению с жизнью коллектива и одновременно – спасительное свойство индивидуальной смерти как принесения себя в жертву. Нацистские церемонии в честь погибших на войне то и дело подчеркивали аутентичность и «достоинство» в скорби. В них противопоставлялись «славословие» и «скупые слова»437; наделялись существенным весом преобразующая сила смерти, коллективное бессмертие, смерть как всего лишь одно из проявлений жизни. Важно также вспомнить, что в той или иной форме многие из этих идей уходят своими корнями далеко в прошлое. Так что приравнивание гражданских смертей к солдатским и поминание их в идеологически возвышенном стиле не были просто попыткой извлечь из них политическую пользу, хотя, конечно, нельзя исключать и этого мотива; этот подход был также направлен на придание гражданской смерти привычной значительности – через ритуал, язык и символику в рамках понимания смерти, принятого в немецкой культуре.
Тем не менее некоторые немцы возражали против попытки приписать те же смыслы смертям гражданских лиц, что и смертям солдат, но не обязательно из тех соображений, которые можно было бы предположить. Уже в начале 1942 г. среди нацистских чиновников местного уровня развернулась полемика о том, допустимо ли появление Железного Креста в некрологах гражданским лицам, погибшим в результате бомбардировок. В январе того года партийная канцелярия сообщила Gauleiter [нем. гауляйтеру], что в случае с «Volksgenossen [нем. соотечественниками], убитыми в ходе воздушных налетов», допустимо не только появление Железного Креста в некрологах, но и захоронение на почетных участках кладбищ, отведенных для убитых солдат438. Другие чиновники возражали. «Много жертв бомбардировок [погибает] в результате собственного идиотизма и поведения, в котором виноваты они сами», – писал один из них. «В газетах постоянно сообщают о случаях», когда целые семьи гибнут потому, что отказываются пойти в подходящее бомбоубежище, и «население не поймет, если этих мертвых поставить на один уровень с солдатами посредством [использования] Железного Креста»439. После Сталинграда, в апреле того же года, Министерство пропаганды постановило: термины «павший» и «раненый» в некрологах должны отныне использоваться только применительно к солдатам. Чиновники министерства решили, что «иначе не поймут» их семьи440. Также было запрещено использование в гражданских некрологах Железного Креста441.
Другими словами, некоторые немцы, несмотря на растущие потери среди гражданского населения, продолжали настаивать, что смерти на поле боя должны почитаться превыше всего. Они отказывались уравнивать смерть солдат и гражданских не только потому, что возражали против использования этих потерь в политических целях, но и потому, что смерти солдат для многих репрезентировали более высокий уровень преданности делу войны, нежели зачастую пассивные смерти жертв бомбардировок. По этой причине, а также потому, что они составляли подавляющее большинство погибших в войну, солдаты оставались в центре многих коммеморативных усилий режима. Так, хотя режим настаивал, что каждый член германского расового сообщества – потенциальный герой, «умерший за Германию, германскую расу, германские права и германское учение»442, многие немцы требовали различать разные типы смерти и, кажется, сохраняли ясно осознаваемую преданность идеалу смерти на поле боя.
Учитывая все вышесказанное, мы, однако, должны помнить и о глубоком психологическом воздействии, которое оказывали на жителей города возрастающие людские потери, особенно когда страх смерти (собственной или близкого человека) стал постоянной реальностью. В начале 1945 г. происходила дальнейшая эскалация воздушной войны над Берлином, и растущие потери все больше угрожали балансу между обычаем и необходимостью в практиках погребения, который тщательно поддерживался с конца 1943 г. Теперь воздушные налеты происходили почти ежедневно. Каждый раз они приводили к десяткам, сотням и даже, как произошло 3 февраля 1945 г., тысячам смертей. Да и линия фронта приближалась к Берлину, которому суждено было стать последним в Европе полем боя на той войне. 1944 и 1945 гг. оказались самыми смертоносными для немцев, и большая их часть погибли на территории Германии. Только за январь 1945 г. было убито около полумиллиона немецких солдат; февраль, март, апрель – за каждый из этих месяцев погибло еще около трехсот тысяч443. Подавляющее большинство тел не было найдено; павшие остались там, где пали, чаще всего не захороненные.
В самом Берлине начали сказываться и растущее количество смертей, и усиливающийся административный беспорядок – нередко и в доступных муниципальных структурах для погребения мертвых. Цифры первых послевоенных лет указывают: за 1945 г. в городе похоронены или кремированы приблизительно 135 000 человек. Для сравнения: в 1946 и 1947 гг., когда уровень смертности оставался еще очень высоким, в городе умерло порядка 71 000 и 68 000 соответственно444. По некоторым оценкам, около 50 000 немцев были убиты в финальной битве за Берлин, из них 20 000 составляли гражданские лица445. Впрочем, в какой-то момент, посреди все более хаотичной атмосферы, вызванной ежедневными воздушными налетами и падающими бомбами, а затем и уличными боями между вермахтом и немецкой нерегулярной армией Volkssturm, с одной стороны, и Красной армией – с другой, это различие начинает казаться в каком-то смысле излишним.
С приходом в город воздушной войны сильно возросли обязательства муниципальной власти по избавлению от погибших гражданских. В случаях масштабных потерь городские чиновники отвечали за сбор и перевозку тел, за их опознание, а часто и за контроль над их погребением. Выполняя эти обязанности, чиновники продолжали следовать, насколько возможно, обычаю, даже когда людские потери увеличивались. Со временем давление на городское правительство в плане обеспечения «приличных» похорон возрастало, несмотря на то, что все более остро ощущалась нехватка ресурсов. Транспорт и топливо для перевозки тел на кладбища часто отсутствовали, равно как урны для праха, траурные ткани и гробы. Стало трудно найти даже места для захоронения. В сентябре 1944 г. Берлину пришлось придумывать, как освободить место на кладбищах для возросшего количества жертв бомбардировок. Чиновники начали рассматривать сокращение Ruhefrist [нем. срока покоя] до двадцати лет вместо установленных двадцати пяти446, что, как они, конечно, предвидели, приведет к шумным протестам населения.
Между тем следование правильному обращению с мертвыми означало неизбежную передачу погребений под муниципальный контроль, особенно после массированных атак 3 февраля 1945 г., повлекших за собой около трех тысяч смертей447. Городские чиновники видели, что частные похоронные конторы неспособны «хоронить павших в таком количестве подобающим образом»448, и были вынуждены взять эти вопросы полностью в свои руки. 17 февраля или около того мэр Берлина Людвиг Стиг объявил о создании Центрального похоронного ведомства (Hauptbestattungsamt) с отделениями в каждой районной администрации. Эти отделения ответственны за организацию предоставления похоронных услуг – в случаях не только массовых, но и, как теперь говорили, «нормальных» смертей449. Хотя пожелания родственников будут по мере возможности учитываться, разыскивать гробовщиков и окончательно определять место погребения – дело местных отделений Центрального похоронного ведомства. В случае смертей от «действий противника» (Feindeseinwirkungen) поиск и подготовка тел, их перевозка и собственно захоронение будут выполняться исключительно полицией и по распоряжению города450.
С этого момента и до апреля 1945 г. ответственность за оказание похоронных услуг в городе лежала только на муниципальных властях. Но и в таких экстремальных условиях обычай продолжал играть центральную роль в уходе за мертвыми. Семьям по-прежнему давали по возможности право решать, как похоронить их близких. По-прежнему принимались во внимание конфессия или отсутствие религиозной принадлежности, от чего могло зависеть место погребения451. И все-таки некоторые меры, принимавшиеся в случаях массовых смертей, начинали заметно беспокоить общественность. 28 февраля одно окружное отделение пропаганды опротестовывало заявление группы прохожих, видевших на берлинском кладбище на Барутерштрассе, как завернутые в тряпки трупы и части тел вытаскивали из грузовика и как «останки четырех или пяти человек хоронили в одном гробу»452.
К началу 1945 г. введенная в июле 1943 г. система распределения средств на создание чрезвычайного запаса гробов для погибших при воздушных налетах больше не могла поддерживаться453. 22 февраля город наложил арест на все имевшиеся гробы454. Тем не менее к 6 марта Центральному похоронному ведомству уже не хватало гробов даже на покрытие «нормальных смертей», не говоря уже о случаях непредвиденной массовой гибели. Вместо них ведомство выдавало Leihsrgen, или «гробы напрокат»: в них трупы доставляли к могиле, но не хоронили – таким образом гробы можно было использовать повторно. Тем временем Katastrophenleichen, буквально – «трупы бедствий», как теперь называли жертв массового истребления, решено было хоронить вместе, в бумажных гробах, в закрытых гробницах455. При этом распределение гробов по-прежнему зависело от расовой прерогативы и иерархии. Чтобы обеспечить поставку гробов для Volksgenossen [нем. соотечественников], Центральное похоронное ведомство постановило: надлежащие гробы могут получать лишь представители «дружественных иностранных государств»; и наоборот, гробы поляков и Ostarbeiter должны быть «только самого низкого качества», а военнопленных и приговоренных к смерти надлежало хоронить и вовсе без гробов456.
Однако к концу марта 1945 г. подобные различия уже не имели значения: без гробов хоронили все тела. Несколько дельцов взялись продавать их на черном рынке; директор Центрального похоронного ведомства Харбауэр выразил, наверное, чувства многих, сказав, что «в нынешних крайних обстоятельствах деловые интересы индивида должны отступить перед коллективным благом»457.
Отсутствие гробов стало для берлинцев чрезвычайным испытанием – об этом говорит тот факт, что нет практически ни одного дошедшего до нас воспоминания военного или послевоенного времени, где не упоминалось бы это обстоятельство. Но какого рода было это «испытание», и почему даже годы спустя оно оставалось в центре воспоминаний о войне? Стоит заметить, что в марте 1945 г. из отрядов Volkssturm специально забирали плотников – делать гробы; даже защита города казалась в каком-то смысле менее важной458. Как обнаружили после войны городские чиновники, берлинцы, которым пришлось хоронить близких в 1945 г. (к этой теме мы еще вернемся), иногда клали на лежащие в могиле тела тяжелые двери, щиты и ящики – чтобы имитировать гроб, прежде чем закопать могилу459. Другие, самостоятельно найдя или смастерив гроб, просили Центральное похоронное ведомство выкопать умершего близкого, чтобы (пере)захоронить надлежащим образом. Все это говорит нам о длительном моральном потрясении в связи с погребением без гробов460.
Для некоторых такие похороны представляли просто непереносимый диссонанс. Мария Хервег вспоминала: когда в 1945 г. ее мать «отдала Богу душу», она уложила ее в комнате на раскладушку, где та пролежала целых четырнадцать дней. Хервег не могла добыть гроб и не могла смириться с тем, что ее «всегда беспокоящаяся и заботливая мать» будет похоронена без него:
Я должна была завернуть ее в одеяло, но не должна была присутствовать при опускании ее в могилу. У гробовщика был гроб, дно которого открывалось, чтобы тело упало в могилу. Нет, так не могло быть – моя мать, работавшая только ради детей, должна была быть похоронена вот так? У меня было всего 600 марок; я пошла к знакомому мебельщику на Ландсбергерштрассе. Он сделал мне дубовый гроб из шкафа. <…> пока я шла по Розенталерштрассе и Брюнненштрассе, меня все время спрашивали, есть ли в гробу труп. Когда я говорила, что нет, люди предлагали мне впятеро больше той суммы, которую я заплатила. Но гроб был для моей матери461.
Такие отчаянные меры говорят о глубокой символической важности гроба. Если следование обычаям смерти и надлежащего погребения способствовало социальному единству и, возможно, символизировало немецкое культурное наследие и самобытность, то отсутствие гробов предвещало упадо почти столь же ужасный, как распад нацистского государства и оккупация города неприятельской армией. В Берлине 1945 г. гробы были чем-то большим, нежели просто деревянные ящики. Они выражали самый порядок социума, его основы и его самопонимание.
Реакции берлинцев на нарушение обычных практик погребения указывают и на еще большие страхи. В марте журналист Кроника встретил группу женщин в рабочем районе Нойкёльн, которые заявили, что в Баумшуленвегском крематории неподобающе обращались с умершими. Во время похорон предъявили гроб, в котором якобы находилось тело, однако женщины утверждали, что на самом деле тело отсутствовало. Как сказал знакомый Кронике пастор, это был просто Paradesarg, или «демонстрационный гроб». Затем, по завершении службы, женщины заявили, что тела были «сожжены en gros [фр. букв. оптом], без гробов и без какой-либо церемонии». Женщины связывали неправильное обращение с мертвыми с упадком понятий о человеческой ценности: «Если живые больше ничего не стоят, то с какой стати важные шишки будут лучше поступать с мертвыми?» Другая женщина восклицала: «Что-то нужно делать, всему есть предел, в конце концов. Мы не должны это спокойно терпеть!»462 Правду или неправду пересказывали женщины о кремации в Баумшуленвеге (Кроника, очевидно, считал, что правду), для них неподобающее обращение с мертвыми стало, что называется, последней каплей. Многое могло с годами настроить берлинцев против нацистского режима: массовая гибель в ходе воздушной войны, уничтожение города бомбами, смерть миллионов солдат, травля и истребление еврейского населения города, нехватка материальных ресурсов, отсутствие личной безопасности, – но именно ощущение неправильного обращения с мертвыми и неуважение в виде «демонстрационных гробов» раздражало людей так, как мало что другое.
Несмотря на заявленное намерение Центрального похоронного ведомства сохранять благочестие и не держать трупы на виду, дела шли все хуже463. В конце марта похоронные власти распорядились, чтобы тела не доставляли на кремацию в Баумшуленвег вплоть до 5 апреля, поскольку там дожидались ликвидации уже более пятисот трупов464. Тела также стали скапливаться на многочисленных Leichensammelstellen во внутренних частях города, превышая возможности по их захоронению. Харбауэр назвал вывоз трупов из города на кладбище за его пределами «делом чести» (Ehrensache)465, что еще раз продемонстрировало: обращение с мертвыми было как делом здравоохранения, так и делом принципа.
Но предпринятые городом чрезвычайные меры по захоронению нарушали не только социальные и моральные табу. Начиная с 6 марта 1945 г. представители Центрального похоронного ведомства начали убеждать смотрителей конфессиональных кладбищ придерживаться мер по рационализации погребения, «невзирая на [церковные] положения об обратном»466. Некоторые священники восприняли это требование как серьезное нарушение. Представитель берлинского епископа (bischfliches Ordinariat) специально просил, чтобы конфессиональная принадлежность покойного учитывалась при погребении на католических кладбищах467, однако в конечном счете церкви были вынуждены открыть доступ на свои кладбища для любых необходимых захоронений468. Хотя и протестантская, и католическая церкви согласились с этими мерами, они воспринимали их как «мощное наступление на церковные права» и надеялись, что впоследствии их отменят469.
Итак, планы и постановления Центрального похоронного ведомства больше ничего не значили. 21 апреля 1945 г. в отдаленные северо-восточные районы Берлина вошла Красная армия. Интенсивные уличные бои превратили столицу в поле сражения, которое описывали, пожалуй, с излишне мелодраматическим уклоном как «вагнеровское». Берлин представлял собой «безлюдный городской ландшафт, море горящих и сожженных руин, тротуары, где когда-то были изысканные аллеи и модные магазины, а над всем этим – стаи бомбардировщиков, ливень свистящих снарядов и огненные траектории “сталинских органов”»470. На стенах висели таблички: «Берлин – крепость!»471 и «Темней всего перед рассветом»472. Насилие и смерть достигли в городе крайней степени. Тысячи берлинцев кончали с собой, иногда целыми семьями473. Стали появляться редкие белые флаги, развевающиеся из раскрытых окон, а с ними – жертвы линчевания, тела, висящие на фонарных столбах. На шее у них висели таблички, гласившие: «Я трус, не защитивший свою семью!»
К 26 апреля почти полмиллиона советских солдат продвигались к центру Берлина для финального штурма:
Орудия непреклонно продолжали работать, [вспахивая] улицы, раскурочивая площади и парки и нагромождая горы руин, когда здания рассыпались на огромные плиты <…> Улицы, усеянные мертвыми, были также наводнены горящими танками и разбитым транспортом; раненые, неспособные уползти, умирали, оставляя за собой кровавые следы. Женщины бежали из своих убежищ и подвалов, чтобы набрать воду, какую только могли найти в уличных колонках, но снаряды летели в них, отбрасывая тела к стенам и в дверные проемы; когда никто не рисковал выйти на улицу, мертвых помещали в шкафы или укладывали в коридорах474.
То, что еще осталось от нормальных и привычных похоронных услуг, окончательно рассыпалось. Центральное похоронное ведомство, записи которого хранятся сегодня в Берлинском государственном архиве, прекратило работу. Судя по отрывочным свидетельствам и воспоминаниям того времени, муниципальные панихиды прекратились из-за слишком большого хаоса. Оставшись без действующей центральной власти, берлинцы взяли дело захоронения в свои руки. Порой они прятали трупы в своих квартирах или подъездах и ждали подходящей паузы в боевых действиях, чтобы рискнуть и похоронить их. Для этого нужно было найти место, где можно выкопать могилу – нелегкое дело в городе с многоквартирными домами. Часто они не могли довезти трупы до кладбища (см. Рис. 3.3). Не было у них, как правило, и гробов, а только газеты или старые простыни, в которые они заворачивали тела умерших. Кресты для обозначения могил приходилось делать из подручных материалов. И все же они воссоздавали привычные похоронные обряды, собирая соседей и произнося надгробные слова или другие хвалебные речи. Сколь бы импровизированными или временными ни были эти Notbegrbnisse, или «экстренные погребения» (как их стали тогда называть), забота многих берлинцев о привычных обычаях смерти показывает, что они испытывали чувство долга не только перед мертвыми, но и перед культурно необходимыми формами. Гюго Б. из Рихсдорфа описал экстренное погребение, в котором ему довелось участвовать, и его рассказ достоин того, чтобы привести длинную цитату:
Утром я отправился вместе с Г., Куртом М. и Б. на церковное кладбище на Берлинерштрассе. Рядом с могилой его тестя мы выкопали могилу для Л. Как и повсюду, здесь тоже была масса признаков разрушения. Кладбище было наполнено самыми разными транспортными средствами. Огромное число лошадей стояло на тропинках и между захоронениями; кругом лежали солома, сено и овес. Неподалеку от могилы, где мы работали своими лопатами, хрипел граммофон и русские солдаты с возбужденными лицами делили свою добычу. Над разрушенными стенами, поваленными надгробиями и сломанными деревьями приветливо светило и пригревало солнце. Это была картина, достойная кисти художника. В 3 часа были похороны. К маленькой повозке С. мы крепко привязали гроб, прикрепили к неу несколько цветков, толкнули тележку, и Л. отправился в свое последнее путешествие. В сопровождении довольно большой свиты скорбящих мы пошли мимо руин и воронок от гранат на Хобрехтштрассе, к кладбищу. Погребение прошло неплохо. Ни оратора, ни пастора, просто друг семьи сказал несколько слов. Когда все было сказано и сделано, мы поспешили зарыть могилу, потому что нам еще нужно было выкопать яму, чтобы похоронить старуху из соседнего дома. Б., Курт М. и я приступили к работе и едва успели кончить, когда прибыли люди с их скорбным грузом. Никогда не видел таких бедных похорон. В жалком решетчатом ящике без крышки лежала старая женщина, чье тело было накрыто мешком. Мы похоронили ее в полном молчании [in aller stille]475.
Рис. 3.3. Две женщины везут гроб по улицам Берлина, 1945 г. В последние недели войны и еще некоторое время после ее окончания берлинцы были вынуждены сами хоронить своих близких, а часто и делать либо где-то добывать собственные гробы. С разрешения Verlag Willmuth Arenhvel.
Контраст между двумя похоронами, свидетелем которых был Гюго Б., поучителен в своих деталях. Чувство пристойности автора описания задело зрелище похорон старой женщины в решетчатом ящике, накрытую мешком. Зато погребение Л. прошло как следует: он был предан земле рядом со своим родственником, в присутствии достаточной группы скорбящих, с цветами на гробе и с речью, произнесенной другом. Видимо, неслучайно Гюго Б. вспоминал и описывал погребения в терминах контраста: «теплое и приветливое солнце» он противопоставляет «возбужденным лицам» русских солдат, «делящих свою добычу», «поваленным надгробиям и сломанным деревьям». Более того, он говорит, что ритуалы смерти, отвечающие чувству правильной практики, были необходимы, в противном случае возникает моральный дискомфорт («никогда не видел таких бедных похорон»).
В Берлине 1945 г. забота об умерших выражалась словом и делом: могилы обозначали с помощью растений, камней или цветов, там хранили тишину и серьезность, у края могилы собирались друзья и родственники со словами утешения. Отсутствие этих социальных ритуалов было «неправильно» и вызывало тревогу, как отметила в дневнике Аннелиза Хевиг, описывая похороны знакомого:
Около 11 часов утра мы похоронили в парке фрау Енг, без гроба, завернутую в простыни и одеяла. Рядом грудой лежали непогребенные русские солдаты. Несмотря на страх, вызываемый всякой смертью, некоторые пришли из любопытства. Даже среди скорбящих [Leidensgefhrten] в голову лезли мысли вроде таких: где раздают картошку и рукавицы? Какими же черствыми мы стали, а ведь когда-то мы знали только торжественные похороны, с хвалебными речами, музыкой и важными мыслями. Но все равно это будет красивая могила. Соседка дала растение в горшке, которое она взяла с подоконника, в каждом углу были посажены кусты, вокруг могилы положили красивый каменный бордюр, поставили там деревянный крест с именем.
Далее Хевиг описывает прогулку, которую она совершила со спутником после похорон: на городских улицах она видела «ужасы, трупы, разрушение и, среди прочего, общую могилу с надписью: “25 немцев”»476. Хевиг почувствовала: то, как обходились с мертвыми, пробило моральную трещину; берлинцы стали «черствыми». Она подразумевает, что «прежде» на похоронах никто не предавался мыслям о еде. «Прежде» – это время, когда все было на своих местах в физическом и моральном смысле. И все же они с соседями украсили могилу фрау Енг растениями, камнями и крестом, равняясь на привычные практики, направленные на придание смерти достоинства. Могила, которую описывает Хевиг, не была просто ямой в земле; какими бы бедными ни казались эти похороны или похороны ее знакомого в сравнении с теми, что бывали в «прежние времена», они соответствовали обычаю так строго, как это было возможно. Иллюстрацией может служить изображение могилы, относящееся к тому времени. На Рис. 3.4 мы видим, как обозначались могилы – с помощью камней, касок и небольших растений. На крестах видны надписи. Подобные «экстренные могилы» (Notgrber) быстро усеяли городской ландшафт в последние недели войны, так же как и импровизированные мемориалы, которые кое-кто из берлинцев помещал на грудах развалин, где, как было известно (или как считалось), оставались мертвые тела (см. Рис. 3.5).
Но такая забота о мертвых была не всегда заметна, как в последние недели войны объясняла в своем дневнике неизвестная женщина:
Только что слышала, как женщина сорока лет из Адлерсхофа, живущая теперь с матерью в нашем доме, рассказывала о том, как осталась без крова в результате бомбежки. Бомба попала в соседский сад и разнесла дом, плод ее трудов, вдребезги. <…> Соседи, семейная пара, были убиты. Среди руин и садовой грязи они нашли супругов – или то, что от них осталось. Похороны были приличные. Мужской хор из портного цеха пел у могилы. Но потом все пошло прахом. «Das Lied von Gottes Rat» заглушили сирены. Могильщики в спешке бросили гроб; было слышно, как грохочет его содержимое. И вот кульминация, дойдя до которой, женщина захихикала: «Представьте! Через три дня дочь обходила сад, высматривая, что еще можно спасти, и за дождевой бочкой нашла руки своего папа»”477.
Рис. 3.4. Экстренные могилы близ станции метро «Ноллендорфплац», 1945 г. Landesarchiv Berlin, Fotosammlung.
Рис. 3.5. Крест, украшающий груду развалин, Берлин, 1945 г. Скорее всего, его поместили там, чтобы обозначить место, под которым, как предполагалось, находятся тела умерших. Фотограф – Карл Вайнротер; Bildarchiv Preuischer Kulturbesitz/Art Resource, NY.
Тон автора дневника говорит о том, что импровизированные похороны семейной пары вызвали меньший диссонанс, чем проявленное женщиной из Адлерсхофа неуважение к умершим. Ставшее теперь классическим описание Берлина военного и послевоенного времени из этого дневника изобилует упоминаниями такого рода. Автор в разных местах настаивает, что неправильное обращение с мертвыми в истерзанном войной Берлине указывает на упадок не только социальных норм, но самой цивилизации478. «Сейчас мы вольны хоронить близких где пожелаем, как в доисторические времена»479, – писала она, имея в виду, что берлинцы отброшены ситуацией войны назад, в условную эпоху мракобесия. При этом любопытно, что эта женщина не пытается разобраться, почему так произошло. «Война пришла» и сравняла город с землей. «Война» стала причиной ужасного разлома в поведении берлинцев по отношению к умершим. Но если у автора дневника и у многих других берлинцев и было сколько-нибудь ясное представление о том, что вызвало кризис 1945 г., то они имели в виду никак не Гитлера, а советских людей.
Ведь для многих берлинцев именно советские люди создали самый непосредственный и очевидный контраст между «цивилизацией» и «варварством». Жители города иногда искренне удивлялись, что советские люди тоже обращались со своими умершими церемониально. 29 апреля некто Шмидт с интересом описывал русские похороны, отмечая: «Раньше я всегда читал <…> что большевики оставляют своих умерших лежать, подобно скоту»480. Глядя на ряд русских могил возле казарм на Финкенштайналлее, где еще недавно жила охрана Гитлера, Маттиас Менцель тоже был удивлен тем, что каждую украшали красные флаги и «цветы на цветах». В свое время на Востоке, во время службы в Вермахте, он «всегда искал могилы павших [советских] солдат, [но] находил лишь скудные холмики»481. Что эти «скудные холмики» могли быть вызваны торопливыми по необходимости похоронами, Менцелю, видимо, не приходило в голову; вместо этого он допускал, что «большевиков» – «менее цивилизованных» людей – не слишком волновали и покойники.
Неизвестный автор дневника делал схожие наблюдения:
За туннелем, на лужайке перед станцией – холм высотой по колено, украшенный ветвями и с тремя ярко-красными, высотой примерно по пояс, деревянными столбами. К каждому столбу лентами привязано по дощечке с надписями от руки под стеклом. Читаю на дощечках три русских имени и даты их смерти. <…> Впервые я могу сказать, что видела русскую могилу так близко. <…> В наших газетах все время писали, что русские прячут своих погибших на войне так, как будто это позорно, и что они хоронят их в общих могилах, а потом выравнивают участок, чтобы его не нашли.
Но деревянные столбы и таблички, которые советские люди, «должно быть, принесли с собой», заставили автора дневника пересмотреть свои представления. «Они изготовлены промышленным методом», – отмечала она. «…Они, наверное, ставят подобные столбы и в своей стране. А значит, у них тоже есть похоронный культ [Grberkult], они тоже чтят своих героев, пусть даже их официальная догма отрицает возможность воскресения». Далее она описывает могилы как – «для нас» – «грубые, дешевые, некрасивые во всех отношениях» и «яркие, преувеличенные, пылающие и ослепительные»482.
Давая эстетические оценки, автор дневника выражала фундаментальные, в ее понимании, культурные различия между немцами и советскими людьми. Конечно, эти различия, как и нацистская пропаганда, в доказательство «варварской» натуры советских людей утверждавшая, что они бросают своих умерших, имели смысл только в рамках ментальной модели, где тщательное обращение с мертвыми считалось ключевым не только для германской культуры, но и для самой цивилизации. Вот почему отсутствие гробов в 1945 г. воспринималось как радикальный разлом. Гроб служил формой коллективной саморепрезентации, символизирующей культурные ценности, транслирующей и воспроизводящей их. Необходимость хоронить мертвых в полях и скверах, без гробов порождала глубокое беспокойство, форму моральной растерянности, почти не имевшую аналогов в истории Третьего рейха, – поскольку практики смерти конституировали не только чувство того, что значит быть немцем, но и чувство того, что значит быть «хорошим». То, что берлинцы ощущали в самостоятельных похоронах цивилизационный упадок, говорит о том, насколько важным было для них правильное обращение с мертвыми.
Век тому назад Арнольд ван Геннеп анализировал значение скорби как «переходного периода для продолжающих жить». Они «вступают в него через обряды разделения, – писал он, – и выходят из него через обряды объединения». В центре этого процесса – ритуал погребения, обозначающий переход умершего из сообщества живых в сообщество мертвых. Погребение – один из символов перехода; множество других «физических процедур», включая могилу, гроб, кладбище и венчающее могилу надгробие, позволяют живым отделить себя от мертвого и заново воссоединиться в своем сообществе483. Иными словами, предметы и действия позволяют живым выполнить метафизическую задачу собирания их сообщества после того, как случилась смерть.
Резкую отмену привычного способа обращаться с мертвыми в 1945 г. берлинцы восприняли с ужасом именно потому, что эта отмена натянула общественную ткань и поставила под угрозу ее целостность. Мэри Дуглас утверждает, что социальные ритуалы, такие как похороны, создают реальность, не существующую в их отсутствие: «социальных отношений не бывает без символических актов»484. Как средство организации сообщества, обозначения границ того, «кто мы есть», погребение представляет собой символическую деятельность, способную выполнять самые разные задачи: эмоциональные, социальные, моральные, религиозные. Но в Берлине во время упадка и опустошения 1945 г. гробы, цветы, кресты и похоронные ритуалы служили также жестами принадлежности и актами коллективной саморепрезентации. Верность им обозначала социальную включенность; случай женщины из Адлерсхофа, братские могилы, похороны без гробов и тому подобные трансгрессивные явления, напротив, обозначали отход от важнейших норм, формирующих и воспроизводящих общество. Попытки, часто экстраординарные, которые предпринимали берлинцы для поддержания важнейших культурных практик, показывают, какое значение имели в их глазах ритуалы смерти для их социальной целостности и «цивилизации».
В Третьем рейхе усилия, направленные на то, чтобы восстановить условные похоронные обычаи прошлого или исключить, покрыть позором не-немецких покойников, определяли различия самого фундаментального, даже космического порядка; они реартикулировали социальное тело, пересоздавая немецкость путем отделения от нее чуждого, чужого. Ритуалы смерти, таким образом, были крайне важны для конструирования расовой утопии, артикуляции статуса и иерархии. Та чинность и аккуратность, какую берлинцы проявляли в отношении к своим мертвецам, и то чувство культурной отличительности и духовного величия, какое предполагалось соответствующими практиками, резко контрастируют с глубочайшим презрением, которому подверглись умершие евреи во время Холокоста. В этом не было парадокса. О заключенных Освенцима, на чьи жизнь и смерть был наложен тотальный контроль, Рудольф Хёсс говорил так: «Смотрите, вы можете и сами видеть. Они не такие, как вы и я. Они ведут себя не как люди. Они здесь, чтобы умереть»485. Таким отношением объясняются те «промышленные» методы, которыми в лагерях смерти ликвидировались трупы, ибо мы «не можем отделять методы казни от того, что происходило с телами»486. В смерти – возможно, особенно в смерти, – как свидетельствует замечание Хёсса, евреи были чужими, неузнаваемыми. Для Хёсса «немецкая» смерть исполнена значения, она была героической, почти самовольной; смерть же его жертв – пассивной и не свойственной человеку. На самом глубинном уровне для создателей Третьего рейха и Холокоста немцы и евреи не населяли один моральный универсум. Вот почему неудивительно, что при последнем вздохе Третьего рейха, когда в административном и прочих смыслах Берлин распадался на части, группа умерших берлинцев, вероятно включавшая и эсэсовцев, была похоронена на старом еврейском кладбище на Гроссе-Гамбургерштрассе. Даже когда нацистское государство схлопнулось, все еще продолжались попытки считать немецкими исключительно еврейские места487.
Что стало с подобными представлениями после 1945 г.? Известно, что они не исчезли бесследно. Непосредственное чувство моральной паники, вызванное похоронной катастрофой в конце войны, со временем стихло, но память о нем сохранялась годами. Эту память существенно изменят опыт оккупации и разгрома, равно как и быстро распространившиеся образы массового убийства в нацистских лагерях. В следующих трех главах я расскажу, что случилось с идеями о смерти после Второй мировой войны, как они постепенно трансформировались под влиянием радикально менявшихся условий жизни и что могут сказать нам эти трансформации о создании двух послевоенных Берлинов – Восточного и Западного.
4. СМЕРТЬ И РАСПЛАТА
Когда Гитлер умер, когда война была проиграна,
когда мы не знали, что делать дальше,
это поистине было крушение мира [Weltzusammenbruch]488.
Как следует из эпиграфа, поражение Германии во Второй мировой войне стало для берлинцев началом долгого подсчета потерь. Связанные с войной потери были не только военными, материальными и политическими, но и психологическими, эмоциональными и экзистенциальными. Само нацистское государство было раздавлено вместе с его раздутыми амбициями; немецко-еврейский журналист Курт Риесс, который вернулся в Германию из Соединенных Штатов, чтобы рассказать о послевоенном Берлине, описывал то, что осталось от Третьего рейха, как «жуткий беспорядок» на улицах города из флагов и транспарантов, асок, руин, скульптурных обломков, противогазов и прочего «реквизита [теперь уже] исчезнувшего мира»489. Почти до неузнаваемости разбомбленный и обстрелянный из орудий, поверженный и оккупированный город изобиловал, кроме того, непохороненными телами умерших. Самостоятельно вырытые могилы, отмеченные самодельными крестами, испещряли городской ландшафт от Николасзе до Марцана. Ежедневно последние страницы газет заполнялись списками умерших. Многие месяцы и даже годы после окончания войны берлинцы будут натыкаться на непогребенные кости и находить спрятанные, непомеченные, забытые и заброшенные могилы. Как и многие другие европейские города в 1945 г. – Варшава, Ленинград, Будапешт, Вена, – Берлин превратился в современный некрополь490.
Но в каком-то смысле зримое присутствие мертвых в городе, остававшемся одной из великих современных столиц мира, возможно, было более терпимо, нежели обескураживающее чувство утраты, подчинившее себе жизни очень многих берлинцев. Каждый четвертый немец искал в 1945 г. потерянного члена семьи – кого-то, кто пропал в неразберихе конца войны и от кого долгое время не было никаких известий491. По мере того как стены зданий покрывались написанными мелом объявлениями о розыске пропавших родственников и друзей, а по радио зачитывали длинные списки пропавших без вести, многие испытывали чувство пугающей неизвестности. Что с ними произошло? Вернутся ли они однажды из лагерей военнопленных или с «востока»? Может быть, они умерли в боях или при бегстве на запад? А если так, что случилось с их телами?
В 1945 г. эти вопросы возникали не из научного интереса. Они разъедали самую суть повседневной жизни и существенно мешали берлинцам оставить войну «позади». Знаменитые образы бодрых и энергичных «женщин развалин», или Trmmerfrauen, голыми руками, кирпич за кирпичом восстанавливающих уничтоженный город, контрастируют со всеобщим чувством незащищенности, одиночества и скорби, о котором свидетельствуют многие современные источники. И хотя жители города, возможно, не вполне отдавали себе в этом отчет, над могилами 1945 г., непогребенными костями и памятью об умерших повисли другие, в равной степени мучительные вопросы: что значат миллионы смертей военного времени? какой великой причине их нужно приписать – теперь, когда цели нацистского государства сокрушены вместе с режимом? Как свидетельствуют современные источники широкого религиозного, социального и политического спектра, осмыслить свой опыт смерти и утраты берлинцам было нелегко. Часто говорилось, как сформулировала это в дневнике 1945 г. Урсула фон Кардорф: немецкие смерти на войне «должны что-то значить!»492 Но это звучало скорее как выражение тревожной надежды, а не положительное утверждение. Но эти слова указывают также на то, как отчаянно, пусть даже почти бессознательно берлинцы поднимали вопрос о смысле смерти в годы исключительных политических и социальных изменений между концом Третьего рейха и появлением двух Германий в 1949 г. Как мы увидим в этой главе, попытки немцев разобраться со своими воспоминаниями и переживаниями смерти демонстрируют мощное усилие – и индивидуальное, и коллективное, – направленное на восстановление разрушенного мира и, тем самым, на воссоздание ощущения того, что значит быть берлинцем и немцем.
Еще до того, как немцы получили возможность предаться размышлениям о своем недавнем опыте утраты, – фактически когда еще бушевала битва за Берлин, – они продолжали хоронить мертвых. Доктор Харниш, пастор самаритянской церкви во Фридрихсхайне, провел конец апреля и начало мая 1945 г., перетаскивая вместе с женой и соседями сотни трупов с улиц в церковную ризницу, а затем отыскивая места для их захоронения. Понимая, что перемещение тел на кладбище предполагает «пересечение линий фронта», пастор и его помощники хоронили собранные тела в церковном дворе493. По собственным подсчетам Харниша, он в те дни участвовал в захоронении на территории церкви не менее 1500 трупов494. Эта работа продолжалась и после прекращения боев. «Мое первое впечатление после освобождения, – вспоминала одна горожанка, – изможденные женщины, выходившие с носилками на поиски мужей или сыновей, призванных в последнюю минуту в Volkssturm или павших в уличных боях, чтобы перенести их домой и похоронить в саду»495.
Однако такие частичные усилия были недостаточны – люди не поспевали за массовыми смертями. В результате трупы скапливались во всех мыслимых местах: на улицах, в парках, на станциях, в бомбоубежищах, каналах и погребах. Они были так привычны, что в местном словаре появился новый термин – herum liegende Leichen, или «лежащие вокруг трупы». Герта фон Гебхардт описывала сцену, увиденную в мае: «На улицах лежат трупы, русские, немцы, которых никто не хоронит. В садах и парках, здесь и там, повсюду – могилы с крестами: “неизвестный участник Volkssturm, пал тогда-то”»496.
Когда сражения стихли, людские потери все равно росли – из-за болезней (включая тиф, дифтерию и дизентерию)497, голода498 и самоубийств499, – и этих покойников тоже нужно было хоронить. Если в Берлине 1937 – 1939 гг. уровень смертности составлял 13,5 человека на 1000 населения, а в 1940 – 1944 гг. – 14,8 на 1000, то во второй половине 1945 г. этот показатель достигал 53,5 на 1000. В случае с маленькими детьми цифры были выше: например, в июле 1945 г. умирали 66 из 100 новорожденных500. Наплыв беженцев – в летние месяцы в Берлин ежедневно прибывало не менее 15 000 человек501 – поднял уровень смертности еще выше. В середине 1945 г. чиновники подсчитали, что «по текущим показателям» в одном только районе Шарлоттенбург они зарегистрируют к концу года примерно 17 000 смертей – при нормальном среднем показателе 6 000502.
Столкнувшись с этим бедствием, а также с серьезной угрозой для общественного здравоохранения, касавшейся каждого жителя города, командование Красной армии, которая продвигалась по Берлину, беря район за районом, приказало хоронить собранные трупы. После военного поражения вермахта это была одна из первых попыток продемонстрировать новое – советское – господство: вернуть в организованное русло берлинскую «санитарную инфраструктуру»503, прежде всего заняться погребением мертвых. Хотя у этой задачи, несомненно, были практические и санитарные аспекты, она имела также символический характер: таким образом закреплялась радикальная смена власти в бывшем «логове фашистского зверя». Каждые приказ, жест, знак и постановление советской власти, адресованные населению Берлина, являли собой новые условия политической жизни – разными способами, но с одной целью: показать, что оккупанты – оккупированы, покоритель – покорен. Даже время теперь устанавливала Москва504, что означало: в «новом Берлине» солнце всходит и заходит по правилам советской власти.
Контроль над размещением мертвых – это сильный жест власти в любом контексте505. Но в Берлине – после проигранной войны, в обществе, где в предшествующие двенадцать лет правильное погребение выступало замаскированной демонстрацией расового превосходства, – этот жест был особенно нагружен значением и символизировал радикальную смену власти в городе. Лишь несколькими месяцами ранее Гитлер лично запретил погребение членов расового сообщества в общих могилах; и вот теперь тысячи предавались вечности e masse [франц. все вместе], в песчаных карьерах, почти всегда анонимно и всегда без какой-либо церемонии (см. Рис. 4.1). Более того, поиск, перевозку и захоронение умерших – то, что прежде делали расовые изгои, – теперь осуществляли немцы, задействованные Советами506; некоторых использовали как Leichenkutscher («водителей труповозок»), чья работа состояла в доставке тел на кладбища и поиске мест для их захоронения507. Это была настоящая превратность судьбы. В Третьем рейхе традиционное погребение мертвых служило символическим инструментом для установления различий, одновременно расовых, культурных и моральных; теперь же первые в самом деле стали последними.
Похороны мертвых в 1945 г. имели и другие символические значения. Любопытная черта многих берлинских мемуаров и иных документов послевоенного времени: в одних утверждается, что немцам было запрещено прикасаться к советским мертвецам508, тогда как в других говорится о принуждении к их погребению509. В ряде случаев берлинцы вспоминали, что их заставляли закапывать советские могилы, но не разрешали опускать погибших красноармейцев в могилу510. А некоторые мемуаристы утверждали, что советские солдаты категорически отказывались прикасаться к погибшим немцам511. Вполне вероятно, что каждое из этих противоречивых сообщений правдиво: ведь в сумятице конца войны командиры Красной армии в разных частях города могли применять разные методы ликвидации тел. Впрочем, когда речь идет о почти исключительно устной культуре Берлина первого послевоенного времени, где большая часть информации распространялась в форме слухов; где горожане и солдаты Красной армии (часто не знавшие языков друг друга) общались с помощью жестов; где практически единственные письменные источники, касающиеся экстренных похорон, – это созданные постфактум мемуары, правда индивидуальных заявлений как таковая – ее в любом случае почти невозможно обосновать – не так важна, как то, что думали о происходящем берлинцы.
Рис. 4.1. Общие могилы в Берлине, 1945 г. Заметим: кто-то украсил их венками и цветами, хотя обычно такие могилы никак не обозначались. Landesarchiv Berlin, Fotosammlung.
Они явно испытывали страх от нарушения табу, связанных с мертвыми оккупантами. Прикосновение к ним воспринималось как имеющее отношение к новой власти и заключающее в себе потенциал ее трансгрессии. Норман Наймарк утверждает: красноармейцы, выйдя из истребительной гонки войны, сталкивались с высокомерным отношением немцев к оккупантам, что вызывало у них желание еще больше «обесчестить» этих людей – и мужчин, и женщин, – и они насиловали немок512. Точно так же и приказы о погребении или непогребении советских трупов могли подразумевать доминирование и даже унижение. Приказ не прикасаться мог означать, что немцы этого недостойны; и наоборот, принуждение к погребению могло означать унижение принуждаемого.
Захоронение мертвых не только демонстрировало власть победителей и восстанавливало санитарные нормы; оно также имело моральную составляющую и служило инструментом перевоспитания. Вальтер Зейтц, врач в госпитале Шарите, был свидетелем того, как Хильде Беньямин (будущая министр юстиции Восточной Германии) следила за эксгумацией на территории школы Маркуса в Штеглице. В последние дни войны «группа людей была застрелена [нацистами] и похоронена в неглубокой могиле. <…> Бывший нацист должен был выкопать трупы. Был конец мая, и стояла жара. <…> Многих нацистов стало тошнить от запаха трупов. “Красная Хильде” закричала на них: “Вы их закопали – сможете и выкопать!”»513 Избавление от мертвых могло быть формой наказания за политические (и иные) прегрешения. «Бывших нацистов», которых привели к Беньямин хоронить мертвых, заставили сделать это во искупление вины.
Беньямин была не единственная, кто связывал погребение мертвых с установлением нового морального порядка в Берлине. Рудольф Дизинг, владелец частного похоронного бюро и продавец гробов, воспринимал советскую власть как шанс вернуть жизнь (и смерть) в Берлине на ее донацистские моральные основания. Столкнувшись с острой нехваткой жилья, недостатком продовольствия и продолжающимися последствиями массовой смерти, советские власти и их немецкие союзники-коммунисты быстро организовали для Берлина новое правительство, или Magistrat, подчинявшееся напрямую советским военным властям514. Дизинг, назначенный профессиональным экспертом – советником магистрата по вопросам захоронения, провел реорганизацию Центрального похоронного ведомства – существовавшего в конце войны института, ответственного за похороны в городе, которое продолжало действовать еще несколько месяцев, пока владельцы частных похоронных бюро изо всех сил старались стать на ноги515.
С точки зрения Дизинга, нехватка ресурсов и другие проблемы с погребением, вставшие перед берлинцами, – отсутствие гробов и дерева для их изготовления, разрушенные кладбища, поврежденные крематории, нехватка транспорта и мест для захоронения покойных, количество которых продолжало расти, – имели и моральный аспект. Эти проблемы возникли в результате нацистской политики, немаловажной частью которой была защита Берлина, названная Дизингом «безумнейшим из безумий». Возвращение практикам погребения «благочестия» по необходимости повлечет за собой изгнание из сферы похоронного дела нацистов, или, как он выражался, Nazioten [нем. «нациотов»] (соединив в этом эпитете слова «нацисты» и «идиоты»). Пользующийся дурной славой гробовщик, в 1935 г., который пытался устранить конкурента, сделав заявление в антисемитской газете Юлиуса Штрейхера «Strmer» [нем. «Штурмовик»], будто тот «покупал у евреев»; не имеющий разрешения хозяин частного похоронного бюро, который вынимал подлежащие захоронению тела из гробов и перепродавал эти гробы; сотрудники бюро ритуальных услуг, которые устанавливали «необоснованные» цены, – все они стали порождением порочного нацистского режима; сложилась «дикая ситуация», которая с «великодушной помощью Красной армии» должна была быть исправлена516.
Иными словами, для Дизинга сущностная аморальность нацистского режима проявлялась в неподобающем обращении нацистов с мертвыми и в упадке упорядоченного, нормального погребения. Неправильное обращение с мертвыми как свидетельство фашистского вырождения было также частой темой коммунистической прессы в начале оккупации. В июне в ежедневном издании КПГ «Deutsche Volkszeitung» появился рассказ Вилли Бределя «Гробокопатель»; в нем изображен человек, который работал на вермахт в должности гробокопателя, а затем перешел на сторону Красной армии. Захватившему его русскому командиру он объяснял:
Это была не такая приятная работа, скажу я вам, сударь. <…> День за днем хоронить мертвых <…> замерзшие еще ничего, [но многие из них] не были, по сути, трупами: вот туловище, вот голова, вот нога, вот рука. <…> Раньше я делал кресты с их именами; но теперь все, дерева мало. <…> Индивидуальные могилы больше делать не мог. Только у офицеров была своя могила, обычно с крестом. Но это неважно. Не думайте, что те, чьи имена на крестах, – это те же, кто в могиле! Уж я-то знаю. Чаще всего там куча рук и ног517.
После сильнейшей идеализации смерти солдат в нацистской Германии, когда солдатская могила считалась священным выражением коллективного долга и общинного чувства, подобные истории, очевидно, должны были очернять прежний режим таким изощренным способом, задевая берлинцев лично. Когда многие горожане все еще числиись пропавшими; когда бессчетное количество безымянных покойников лежали в общих могилах, а еще больше, как считалось, разлагались под завалами, исчислявшимися миллионами кубических метров, или лежали в необозначенных могилах, или же просто оставались не погребенными по всей территории Восточной Европы, – стирание идентичности умерших, несомненно, задевало за живое.
В июле издание «Deutsche Volkszeitung» вернулось к этой теме в статье о массовом захоронении в Шпандау:
То, что все и так знали, что нацистский режим был воплощением нечестивости и зверства, проявилось и здесь. Бесчисленные покойники были брошены в ямы <…> у многих была частично или полностью украдена одежда! Удостоверение личности было почти всегда потеряно. <…> Кто виноват [в том, что умерших не опознать]? Снова и снова можно дать лишь один ответ: Гитлер и звери в человеческом обличье, которыми он командовал. <…> Из чистого злодейства в последние часы сражений СС пустило опись могил по ветру.
Как видим, «нацистов» – названных зверями, демонами, извергами – обвиняли в осквернении трупов, ни больше ни меньше: они бросали умерших в яму, а перед этим, вероятно, раздевали их. Обвинение особенно примечательно в контексте различных табу, связанных с прикосновением к трупам и возникших во время оккупации. В этом рассказе «нацисты» предстают крайне развращенными, лишь маскирующимися под людей; в конце концов, только у «демонов» так мало «благочестия», так мало уважения к «ауре», приписываемой мертвому человеческому телу и могиле518.
Связать прежний режим с осквернением умерших и уничтожением их идентификационных данных означало аннулировать его и одновременно легитимировать советскую власть в Берлине. Стоит задуматься: было ли постепенное восстановление похоронных служб для некоторых берлинцев ментальным шагом прочь от нацизма к чему-то новому, пусть даже остававшемуся абсолютно неясным? Разоблаченные злодеяния нацистского режима, касающиеся умерших: солдаты, лежащие непогребенными и неопознанными в чужих землях, массовые захоронения, обнаженные трупы, похороны без гробов, – не согласовывались с образом режима, который создавался на протяжении двенадцати лет, и с теми ценностями, к которым так серьезно относились берлинцы, имея дело с покойниками.
Следующий пример дает определенные интерпретативные возможности в этом отношении. В ноябре 1945 г. некто Фридрих Лёхнер подал на имя мэра жалобу. Его жена Кёте чуть ранее скончалась в больнице во Фридрихсхайне, куда попала после того, как выпала из окна по причине головокружения. Лёхнеру сообщили: захоронения придется ждать две-три недели после кремации, так как нет контейнеров для праха. Возмущенный Лёхнер писал: «Никто не понимает чувств понесшего утрату <…>? Ни у кого больше нет чувства благочестия? <…> Неудивительно, что [у людей] кончается терпение и сдают нервы. <…> [Я вынужден настаивать,] чтобы урна для моей жены была доставлена немедленно, чтобы после многих тревог, предшествовавших ее смерти, я (и покойная женщина тоже!) смог наконец обрести покой»519. На какие благочестие и эмпатию в прошлом намекал Лёхнер? Имел ли он в виду нацистское прошлое, когда сострадание было реальным? Или это нацисты принесли с собой нечестивость? Или это сделала советская власть? Кого бы ни обвинял Лёхнер, он видел настоящее мрачным – и для живых, и для мертвых. Восстановление «благочестия» казалось ему необходимым для прекращения военного режима и «обретения покоя». К счастью для Лёхнера, городские власти стали вскоре изготовлять временные урны из оставшихся после войны противогазов, к концу декабря их было произведено 1500 штук. Лёхнеру обещали похоронить прах жены до наступления Рождества520.
Обвинения нацистов в неподобающем обращении с мертвыми не стихали на протяжении всего 1945 г., причем они не сводились к публикациям в коммунистической прессе. В конце октября газета Христианского демократического союза (ХДС) «Neue Zeit» [нем. «Новое время»] опубликовала рассказ о большом муниципальном кладбище в Марцане. Там были могилы «иностранных гражданских рабочих всех национальностей, которые умерли, не дождавшись освобождения, [и] простые деревянные кресты без имен, где лежат неизвестные жертвы финальных сражений в Берлине, перезахороненные из [временных] могил во Фридрихсхайне». Кроме того, там были «две длинные могилы без надгробий – последнее пристанище 120 жертв последних воздушных налетов», которые не получили «пристойных похорон <…> [там] нет и намека на могильное украшение». Здесь же, в Марцане, безымянный «член партии» (Parteigenosse), как утверждалось, сбросил пепел «казненных жертв Адольфа Гитлера» – якобы причастных к покушению на жизнь фюрера 20 июля 1944 г.521 В таких историях, очевидно, смешаны разного рода жертвы Гитлера и войны, но в то же время подразумевается, что окончательное унижение умерших – массовое анонимное погребение – остается едва ли не величайшим из грехов.
В ответ на ужасы и унижения погребального кризиса некоторые берлинцы принимали чрезвычайные меры, чтобы уберечь своих погибших родственников от анонимности массовых могил и пренебрежения, которое они усматривали в упадке привычных похоронных служб. В августе 1945 г. жительница Веддинга Мария М. помогала отцу четырехнедельного младенца, умершего от голода в ее доме, смастерить из двух дверей гроб и сшить погребальный саван. Затем, невзирая на опасность передвижения по оккупированному городу, она помогла ему довезти «крохотный гробик, завернутый в одеяло, на кладбище в Норденде, на трамвае». Когда водитель стал было отказываться везти гроб в русскую зону, Мария М. и ее сосед отдали ему свои хлебные карточки522. Другие берлинцы привлекали на помощь друзей и родственников, чтобы выкопать умерших близких из временных и общих могил – иногда тайно, под покровом ночи – и перезахоронить их «правильно»: в гробах, в отдельных могилах на кладбищах. Некоего Вилли Хеннига жена его друга попросила выкопать тело мужа, погребенное рядом с Гоцковским мостом, довезти его на ручной тележке до кладбища и перезахоронить в присутствии пастора. Хенниг назвал это «последним долгом чести» для его друга523.
Удивительно, что в безысходных и чрезвычайных материальных условиях 1945 г. главную заботу для некоторых берлинцев могли представлять эксгумация и «надлежащее» погребение близкого, но эти практики родились из распространенного страха того времени перед массовой, обезличенной смертью. В сентябре 1945 г. Ульрих Торрель описывал в газете «Neue Zeit» недавнюю смерть соседа: «Положительный момент [в ней] [был в том, что] судьба даровала этому человеку найти свою собственную смерть, уберегала его от массовой гибели все предыдущие годы»524. Индивидуальная смерть считалась «даром», «положительным моментом»; «массовая» смерть – плохой смертью. Послевоенные воспоминания показывают всепроникающий ужас перед анонимным захоронением, необнаруженным трупом, неподобающим обращением с ним. Один военнопленный писал о своей надежде на то, что «[ему дадут] умереть на родине», где о его трупе позаботятся и похоронят отдельно. «Наших покойников именно что скатывали нагишом в яму – сначала всем скопом, потом по отдельности, – сделав перед этим опознавательную отметку на пальце ноги»525.
Но эту озабоченность анонимной смертью и неправильным погребением следует рассматривать наряду с продолжающимся разоблачением методов массового убийства, связанных с нацистскими лагерями. В конце мая 1945 г. неизвестная женщина, о которой мы упоминали в Главе 3, писала в дневнике: «По радио передает берлинская станция, в основном это выпуски новостей и разоблачения, от которых разит кровью, трупами, ужасом. <…> Говорят, что миллионы человек – в основном евреи – были сожжены в огромных лагерях на востоке и что их прах использовали как удобрение»526. Образы безликой, лишенной индивидуальности смерти – груды обнаженных трупов, которые сбрасывали в открытые ямы бульдозером, – широко распространялись в американской зоне, где показывали такие фильмы, как «Die Todesmhlen» («Мельницы смерти»), в основе которых были пленки, отснятые союзниками при освобождении нацистских лагерей527. В советском секторе тоже «германской публике были показаны чудовищные подробности нацистских лагерей смерти. Газета “Deutsche Volkszeitung” <…> печатала много рассказов о нацистских <…> преступлениях против человечности <…> и подробности об Освенциме и других “фабриках смерти”»528. Для некоторых берлинцев понятие «правильное погребение» теперь обрело новые смыслы. Оно стало не только жестом сочувствия, но и в некоторой степени попыткой оградить умерших от ужаса массовой, анонимной смерти – ужаса, которому немцы еще недавно подвергли евреев и других «расовых изгоев», но которого не могли перенести сами.
Когда в июле союзники дошли до Берлина, самые насущные и острые проблемы погребения (хотя бы временного) в значительной мере были решены. Союзники, каждый в своей зоне, продолжили начатую советской властью работу по наведению порядка на кладбищах и в парках529. Как и при Советах, размещение мертвых оставалось показателем контроля и власти. Те гробы, что имелись в конце 1945 г., были оставлены для тех, кто умерли от инфекционных болезней, а также для умерших родственников самих оккупантов530. Но в целом положение дел в этой сфере налаживалось. К осени 1945 г. многие районные администрации занимались перезахоронением тысяч трупов, погребенных временно или «беспорядочно», то есть не на кладбищах, – с целью опознать как можно больше союзнических (а по ходу дела и немецких) покойников. Уже к концу года «достойные» похороны – с полным органным аккомпанементом! – стали проходить в крематории в Веддинге531. А к началу 1946 г. сообщили даже о преодолении кризиса с гробами532, что побудило Дизинга в июне объявить «избыточными» Центральное похоронное ведомство и почти все его дочерние районные бюро533. Владельцы частных похоронных бюро приступили к работе и восстановили свой бизнес. В просоциалистическом магистрате какое-то время настаивали на том, чтобы похоронные услуги были переведены под постоянную ответственность муниципалитета (воскресшая идея из Веймарской эпохи), однако подобные устремления были успешно подавлены сильной коалицией владельцев частных похоронных бюро под руководством Дизинга. Он убедил всех, что пережившие утрату берлинцы не захотят отдавать на погребение умершего близкого в «холодную, бюрократическую контору»534. Как правило, берлинцы предпочитали обращаться за погребальными услугами к тому же человеку, который в свое время хоронил других членов семьи535.
Доводы Дизинга в пользу традиции должны были понравиться тем берлинцам, для которых восстановление привычных похоронных служб служило важным знаком порядка и возвращения города к «нормальной» жизни. После катастрофы 1945 г. эти службы восстанавливались невиданными темпами. Но куда более тревожные задачи ждали впереди. Многих берлинцев годами будет мучить не только оставшийся без ответа вопрос о том, что стало с их пропавшими во время войны близкими, но и вопрос о том, как вообще понимать свои потери в радикально изменившемся мире. В сравнении с этими вопросами проблема погребения мертвых была, как кажется, совсем незамысловатым делом.
Так или иначе, берлинцам не удалось заниматься осознанием своей утраты в отрыве от более масштабных задач, ставших теперь, в оккупации, повседневными. Сразу после окончания войны, как мы видели, утверждения о дурном обращении с мертвыми приобрели большое политическое значение. В той же степени политическими были смыслы, которыми берлинцы стали теперь наделять смерть на войне, – во всяком случае, такими эти смыслы были для союзников, которые в рамках мер по денацификации быстро перешли к демонтажу нацистской мемориальной культуры, словно пропитанной красотою войны и жертвенной смерти536. Однако вытеснить ценности, на которых была основана эта культура, оказалось совсем не просто. Хотя публичные выражения нацистских идеалов стали теперь табу – равно как и любое другое выражение поддержки прежнего режима, – некоторые принципы, связанные со смертью при нацизме, все же продолжали существовать в неизменном виде, по крайней мере в безопасных границах семьи и дома или же в кругу друзей. В начале 1946 г., перед тем как эмигрировать из Германии, бывший член СС писал жене своего товарища: хотя дела для членов «нашего союза» «стали очень плохи», он продолжает надеяться, «что жертвы, принесенные Германии, не утратят своего значения»537. Герой романа Элизабет Ланггессер «Mrkische Argonautenfahrt» высказывался куда более резко: «Раз я не могу <…> воскресить наших павших героев, мне все равно, если какие-то отбросы были отравлены газом в Освенциме»538. Подобные взгляды почти наверняка встречались не только в художественной прозе. Тем временем такие плакаты, как на Рис. 4.2, провозглашали моральное превосходство погибшего немецкого солдата над выжившей соотечественницей и требовали от нее взаимности за его военные «жертвы».
Вероятно, такие утверждения имели целью напомнить немцам, «кто они такие», не в последнюю очередь с точки зрения их обязательств перед умершими. Важно отметить, что некоторые расистские различения, проводившиеся в жизнь при нацизме там, где дело касалось смерти, сохранялись и в постнацистском Берлине. После войны некоторые пострадавшие в годы нацизма еврейские кладбища годами оставались заброшенными, несмотря на протесты международных еврейских организаций539. Возможно, отчасти из-за этих протестов магистрат выделил в 1948 г. 100 000 марок на восстановление кладбища в Вайсензе, сильно пострадавшего в войну540. Но в первые послевоенные годы еврейские могилы и осквернялитоже541. Поразителен следующий пример. В начале 1946 г. британскому военному правительству стали поступать многочисленные предложения создать в его секторе новое кладбище. Предложение создать кладбище к югу от печально известной тюрьмы Плётцензее, где были казнены тысячи тех, кого объявили врагами нацистского государства, встретило очень специфические возражения. «[Предлагаемое] кладбище по необходимости включит в себя тюремное кладбище, – гласил доклад магистрата от июня 1946 г. – Можно предположить, что большинство населения не потерпит захоронения их близких рядом с казненными заключенными»542. Бесчестье и осквернение, которые, по представлению многих берлинцев, прилипли к самим могилам казненных в Плётцензее, очевидным образом пережили нацизм. Эти чувства были достаточно сильны, чтобы предложение осталось без рассмотрения.
Рис. 4.2. «Все это [смертоубийство] – только чтобы немки могли стать шлюхами?» Этот плакат был незаконно вывешен, а затем конфискован в Мюнхене в 1946 г. Между тем он выражал чувства, бытовавшие, несомненно, не только в этом городе. Образ солдата-привидения, парящего над образом тихой, пустой, но посещаемой призраками (?) улицей города, – поразительное воплощение ощущавшейся близости мертвых к живым и их права после смерти судить соотечественников – немцев, а ообенно, по-видимому, немок. – Stadtarchiv Mnchen.
И советские, и западные союзники пытались вытеснить нацистские представления о смерти из публичной сферы, демонтируя памятники. Но коммунисты, кроме того, предприняли в своей зоне меры по одновременному культивированию нового отношения к смерти. Восприятие смерти трансформировалось в Советском Союзе начиная с революционных времен, будь то во имя ультрарационалистического марксизма, глубокого антиклерикализма, общей враждебности ко всему, что советские лидеры считали суеверием, или же в попытке создать новую революционную веру. Для советской власти переделывание смерти уже давно было связано с целью модернизации сознания и построения социализма543.
«Решительный отказ от нацистских принципов и принятие советской победы означали, что у немецких жертв войны не было законного места в публичной памяти»544, – и это давало основание надеяться, что на востоке Берлина удастся сформировать новое отношение к смерти. В детерминистских вычислениях марксизма-ленинизма политический крах фашизма рассматривался как прелюдия к великой победе социализма. Преодоление видимой бессмысленности миллионов смертей в годы войны могло произойти с помощью празднования советской победы над фашизмом и последующего «воскресения» Германии в социализме. Нарратив о германском разгроме как окончательном триумфе стал основополагающим мифом ГДР и давал тем, «кто солидаризировался с новой системой», возможность «понять смысл их личных потерь во Вторую мировую войну как вклада в победу социализма»545. Эта идея неустанно распространялась и через газетные передовицы, и через уличные плакаты.
Между тем идея славного социалистического будущего, рисовавшегося в воображении коммунистов, предполагала, видимо, и устранение немецких покойников. «Должны быть решительно сметены не только руины разрушенных городов, но и реакционные развалины прошлого, – объявил в своем программном выступлении Центральный комитет КПГ в 1945 г. – Перевернута новая страница истории немецкого народа. Из руин поражения <…> выковываются новые пути переустройства <…> [а] из страдания и смерти [возникнет] новая, достойная жизнь»546. В этом заявлении смерти немцев предстают как справедливая и необходимая предпосылка для создания новой, нравственной эпохи. Но в контексте катастрофической смертности и последующей череды перезахоронений в Берлине декларацию КПГ можно также прочесть как неявное указание «смести» не только «прошлое» – отвергнутое, «грязное» и никому не нужное, – но и, более буквально, немецких покойников, о которых теперь все чаще говорили в прошедшем времени. В 1946 г. выходившая в советской зоне оккупации – СЗО (sowjetische Besatzungszone – SBZ) ежедневная газета «Berliner Zeitung» даже заявила в Поминальное воскресенье, что умершие принадлежат руинам прошлого; а значит, нет нужды совершать «обычное паломничество на кладбище». Вместо украшения могил, по наставлению «Berliner Zeitung», следовало обозревать «развалины Берлина и сады, в которых всего несколько месяцев тому назад остались погибшие “последней берлинской битвы”»547.
Конечно, представители Советов не отказывались от церемоний, хороня своих умерших. Почти сразу после войны они начали энергично вписывать новую политику смерти в самый ландшафт Берлина. Уже в 1945 г. на бульваре Унтер-ден-Линден был воздвигнут массивный памятник погибшим красноармейцам, а еще более крупный вырос спустя некоторое время в Трептов-парке. Более прозаичный, но не менее символичный случай произошел вскоре после советской победы в Вильгельмсхагене. В последние военные дни там за церковью были временно похоронены солдаты Красной армии. Через несколько недель после окончания войны советские военные власти заставили берлинцев выкопать уже сильно разложившиеся трупы и устроили место для их перезахоронения, снеся ради этого немецкий мемориал жертвам Первой мировой войны и поставив вместо него красную звезду548. Посыл был прост: в новой Германии прошлое, его мемориалы и погибшие герои должны исчезнуть. На их месте возникнут новые культ, иконография и идеология смерти. В коммунистической прессе советский мемориальный календарь вытеснил национал-социалистический. Смерть солдат Красной армии стала широко поминаться в такие ключевые дни, как 22 июня – день нападения Германии на Советский Союз. В публикациях КПГ вновь стали вспоминать о «мученичестве» Люксембург и Либкнехта549, публично и старательно скорбели и о других умерших коммунистах550.
В декабре 1945 г. также началось восстановление центрального мемориала во Фридрихсфельде, воздвигнутого Мисом ван дер Роэ во время Третьего рейха. Члены КПГ и СДПГ в магистрате (это был мимолетный эпизод сотрудничества) объединили усилия для реабилитации этого мемориала как коллективного символа «пионеров демократии» в Германии551. Но – признавала ли это левая политическая элита Берлина или нет – в реконструкции мемориала были и другие символические пласты. Когда Вильгельм Пик, будущий президент ГДР, узнал, что во время войны на месте мемориала было похоронено около 180 тел, он отдал распоряжение Карлу Марону, в то время первому заместителю мэра Берлина, срочно приступить к их эксгумации. По словам Отто Гротеволя, будущего премьер-министра Восточной Германии, эти «неизвестные» были там похоронены с целью изменить характер мемориала552. Пик был уверен, что семьи погребенных на месте мемориала «создадут неприятности», но в остальном перемещение останков не казалось ему затруднительным. Он говорил Марону: «Берлинский рабочий класс имеет полное моральное право видеть, что разрушенным фашистами могилам возвращен их первоначальный вид»553. Перемещение могил военного времени ясно показало: история идет вперед и погибшим в войну немцам как таковым нет места в социалистическом будущем – что бы это ни значило. Посетив первое послевоенное паломничество в честь «ЛЛЛ» на Фридрихсфельде 13 января 1946 г., британский подполковник Уилфред Байфорд-Джонс заметил: «Вот что приходит на смену старому. <…> Новые песни, новый флаг, новые герои». К тому времени не только переместили погибших в войну и погребенных у мемориала, но уже и новый мемориал стоял на их месте, как будто их никогда там и не было554.
Неудивительно, что дискурсы о смерти в СЗО были категорически светскими. Один из примеров – ранние попытки придать новый смысл Поминальному воскресенью. К 1947 г. праздник был превращен в День скорби по жертвам фашизма555. Но и в 1945 г. он уже трактовался без упоминания о его христианском значении: тогда Поминальное воскресенье было упомянуто в прессе советской зоны, кажется, лишь однажды – в форме довольно приторного стихотворения, превозносящего материнскую добродетель за умение подавить личную боль (вызванную гибелью любимого сына), чтобы совершить поступок коммунитарного бескорыстия (усыновление осиротевшего ребенка)556.
На востоке Берлина христианские представления о смерти сменились, по крайней мере на дискурсивном уровне, рассуждениями о дидактическом значении смерти для живых. Этот этос подчеркивали даже некоторые комментаторы-христиане, чьи передовицы публиковались после 1945 г. в СЗО по случаю Поминального воскресенья. В 1946 г. пастор-социалист Артур Раквиц обсуждал смерть как «путь к Господу», а также рассматривал вопрос о том, были ли миллионы смертей во время войны результатом «воли Божьей или же <…> людских злодеяний и нашего соучастия в них». Заголовок текста Раквица – «Смерть как наставление» – означал, что из опыта ассовой смерти должны быть извлечены нравственные и политические уроки557. Светские социалисты тоже подчеркивали: если смерть и имеет «значение», то оно состоит в том, чтобы наполнить жизнь новым смыслом. Один автор, признавая, что «социалистам не свойственны метафизические размышления», писал в передовице 1946 г., что «социалист знает: жизнь и смерть связаны». Но «его знание социологических и экономических принципов позволяет ему видеть <…> жизнь и дух с совсем другой точки зрения». Для автора цель признания цены войны в человеческих жизнях – дать Германии «силу для восстановления»558.
В отличие от советской стороны западные союзники почти или совсем не пытались оказать влияние непосредственно на представления берлинцев о смерти. Идеология, согласно которой главное, что нужно немцам, – это выборы и свободная торговля, в любом случае меньше внедрялась в сознание, чем это происходило в СЗО. Если в западных зонах и существовал крупный фактор влияния на публичное обсуждение смерти, то это было христианство. Как замечали специалисты по истории Германии, после войны церкви имели там «огромную власть»559. Особенно американцы верили, что церкви оставались оплотом сопротивления Гитлеру, и предоставляли им намного больше независимости, чем в советской зоне. Для некоторых западных союзников сам Господь был автором праведного германского поражения560. Канадский наблюдатель и журналист Джордж Фергюсон видел в союзнических войсках инструмент непреклонного Всевышнего, насылающего свою справедливую месть на немецкий народ: «Мне отмщение, и Аз воздам, [рек] Господь», – цитировал он Библию561.
Однако оккупационная политика – это только часть истории возрождения церквей и возвращения ими своего авторитета после 1945 г. То, что простые берлинцы массово обращались к ним в послевоенные годы, прямо связано с опытом массовой же смерти. Некто вспоминал о послевоенной церковной службе в западной части Берлина: