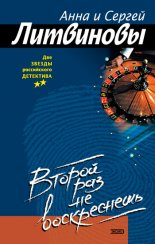Татуированная кожа Корецкий Данил
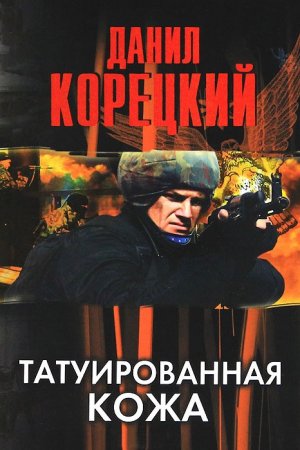
Он открыл чемоданчик. Там были обычные медицинские штучки – бинты, вата, какие-то пузырьки, упаковки разовых шприцев... Волков расслабился.
– Да. Так точно. Я все понял. Есть!
Внимание всех находящихся в дежурной части сосредоточилось на врачах, хлопочущих вокруг перепачканного кровью Иванцова, между тем главное сейчас происходило у пульта дежурного. Майор разговаривал с кем-то стоя по стойке «смирно», его лицо стало еще краснее, будто вся кровь ударила в голову, свободной рукой он делал какие-то знаки помощнику, будто стряхивал с пальцев невидимую липкую гадость. Осознавший чрезвычайность ситуации, помощник тоже вскочил, но знаков не понимал и стоял в стойке готовности к немедленному исполнению любого приказа.
– Выпусти его! – полушепотом прокричал майор, положив трубку и щелкая переключателем на пульте. – Товарищ подполковник, только что звонил Дубинин, приказал вам срочно с ним связаться! – выпалил он в микрофон внутренней связи. – Да, сам, лично! Да! Что стоишь, как столб! – уже в полный голос закричал дежурный на остолбеневшего сержанта. – Выпускай капитана!
Волков понял, что Серегин избрал цивилизованный способ. А все остальные поняли, что звонок, грянувший из милицейского поднебесья, напрямую связан со странным татуированным ментом из провинциального Тиходонска.
Лязгнул замок, решетка открылась. Это было самое короткое заточение в жизни Расписного.
Майор встретил его на пороге с неизвестно откуда взявшейся щеткой в руках.
– Давайте я вас почищу! – он ловко прошелся жесткой щетиной по джинсам. – Сколько ни говорю уборщице, а скамейка там все равно грязная...
Волков не успел присесть на скамейку «обезьянника», но останавливать дежурного не стал – просто не было сил. Хотелось лечь, вытянуть ноги, расслабиться и провалиться в глубокий освежающий сон.
– Неужели и вправду министру позвонили? – откуда-то снизу спросил майор. – Ну и ну... А я что... Вы же порядок знаете: мне команду дали – я исполнил.
Закончившие работу врачи обалдело смотрели, как дежурный по отделению милиции чистит щеточкой татуированного детину, сломавшего нос милицейскому сержанту.
– Всех посторонних попрошу покинуть помещение, – распорядился показавшийся на пороге ответственный дежурный. В руках он держал отглаженную форменную рубашку с подполковничьими погонами и серый форменный галстук.
– Докторам спасибо за помощь, до свидания. Уткин, отвези Иванцова домой, пусть отдыхает. Это для вас, не ходить же голым. Погоны можно снять...
– Спасибо, снимать погоны не по моей части, – Волков отвел протянутую рубашку. – Мне ничего не надо. Сейчас за мной приедут.
– Как угодно, – сухо поклонился подполковник. Он держался с достоинством, хотя удавалось это с трудом. – Вы не должны иметь к нам претензий. Мы действовали по закону.
– Я не в претензии, – Волков сел на стул, еще не успевший остыть от Иванцова, откинулся на спинку, почти как тот, и закрыл глаза.
Помявшись несколько секунд в неловкости, подполковник ушел.
– А мне что теперь делать? – спросил у дежурного лейтенант с булочкоподобным лицом.
– Увольняйся, пока не поздно, – не открывая глаз, посоветовал Волков.
Лейтенант встрепенулся.
– Почему? Вы будете жаловаться?
– Нет. Просто ты этими шакалами не командуешь, а отвечать за них обязан. Рано или поздно они подведут тебя под статью.
Больше тиходонец не разговаривал: сидел с закрытыми глазами, скрестив на татуированной груди могучие татуированные руки, и непонятно было – спит он или бодрствует.
Через полчаса в дежурную часть стремительно зашли три человека – высокие, крупные, с решительными лицами и резкими движениями. Один был в тонком и даже на вид очень дорогом летнем костюме с галстуком, его спутники тоже в костюмах, но попроще. Почему-то автоматчик у входа ночных визитеров не остановил и даже не доложил об их приходе.
– Ты точен, Серж! – капитан Волков поднялся навстречу человеку в дорогом костюме.
– Как всегда, Волк!
Они крепко обнялись.
– Тут все в порядке? – Серж строго, как надзирающий прокурор, осмотрел дежурный наряд.
– Так точно! – подчиняясь велению души, доложил майор. – Разобрались!
– Ну ладно...
Один из его спутников развернул белую рубашку с длинными рукавами. Волков быстро надел ее и наглухо застегнулся. Рубашка оказалась впору.
– Поехали!
Все четверо вышли на улицу, где у машин их ожидали еще несколько человек. Охранники распахнули дверцы напоминающего черную каплю «Мерседеса-600», Серж и Волк сели на заднее сиденье, сопровождающие погрузились в огромный черный джип, и кавалькада растворилась в изобилующей чудесами московской ночи.
– Ты когда-нибудь видал, чтобы капитана-мента на таких тачках возили? – спросил майор.
– Не-а...
Лейтенант покачал головой.
– А чтобы капитан-мент был так синькой расписан?
Жест повторился.
– А чтобы за капитана-мента заступался генерал, замнач Главка?
Лейтенант покачал головой в третий раз.
– То-то же! – назидательно сказал дежурный. И задумчиво продолжил: – Темный парень! Очень темный... Шкура одна, нутро другое... Мы тоже не святые, но нам до него далеко! Чужой он, хотя с нашей ксивой... И руб за сто даю – он вообще никакой не Волков! А может, и не Владимир Григорьевич...
Тут майор как в воду смотрел. Бывшего задержанного действительно звали по другому. И он привык быть чужим для всех. Почти для всех.
Часть первая.
ВЫПИТЬ БАВАРСКОГО
Глава 1.
Уроки рисования
Настоящая его фамилия была Вольф. Вольдемар Генрих Вольф – чистокровный немец. На роду у него было написано родиться в ссылке в степях Казахстана, но в начале шестидесятых повеяло оттепелью, и при большом желании и определенном упорстве уже можно было снять штамп спецпереселенца. Вольф-старший, которому упорства занимать не приходилось, это и сделал, после чего вывез крепкотелую блондинку Лизхен из Караганды и вступил с ней в законный брак.
В шестьдесят четвертом родился Вольдемар, причем не в одном из разрешенных к проживанию захолустных городишек, а в крупном южном краевом центре Тиходонске.
– Нам, конечно, здесь не положено, – усмехался отец. – Тиходонск в «минусе сто[8]» на двадцатом месте. Но там тоже дураков хватает...
Он показывал большим пальцем куда-то за плечо.
– Прошляпили немца.
После работы Генрих любил забрести в парк Революции и посидеть в «шапито» – так завсегдатаи называли пивную: круглая, с островерхой брезентовой крышей, она действительно напоминала передвижной цирк. Столики стояли вокруг, на асфальтовом пятачке, но часто их переносили прямо на землю, под деревья или в кусты – если надо было к паре кружек пивка добавить «прицеп» из чекушки «беленькой».
Сидеть на свежем воздухе, потягивая плотный, густо пахнущий ячменем напиток, Генриху очень нравилось. После мутного карагандинского пойла, которое разливала в душном подвале толстая неопрятная казашка, тиходонское «Жигулевское» не только радовало желудок, но и согревало душу, приближаясь к недостижимому идеалу – настоящему баварскому, которое никто из знакомых Генриха не пробовал, но о котором из поколения в поколение грезили все мужчины в Поволжье, а потом в казахстанской ссылке.
Баварское среди немецких колонистов из разновидности пива превратилось в некий фетиш, многозначащий символ. «Я еще выпью свою кружечку баварского» – это распространенное выражение означало надежду на лучшую жизнь и не обязательно связывалось с мюнхенской или кельнской пивной: скорее, просто с благополучием, достижением жизненных целей, разрешением всех житейских проблем.
В «шапито» Генрих обзавелся массой знакомых, которым представлялся как Гена и вполне проходил за «своего парня» – среднего роста и телосложения, чуть сутуловатый, с редеющими светлыми волосами, гладко зачесанными назад, в кургузом поношенном пиджачке – он ничем не выделялся среди посетителей пивной. Впрочем, была одна странность: он не признавал ни сухую, коричнево-прозрачную тарашку, ни янтарных, мясистых, истекающих жиром лещей, ни другую вяленую рыбу, которая испокон веку сопровождает на Дону питие пива и во многом определяет успех и законченность этой процедуры.
«Мертвая рыба, ее есть нельзя», – думал он про себя, но вслух ничего не говорил, только вежливо улыбался и отрицательно качал головой. Он никогда не погружался в пучину национальных проблем, охотно поддерживая обычный расейский разговор «за жизнь». В отличие от большинства случайных собеседников, сам Генрих был искренне доволен жизнью.
– Здоровье есть, руки есть, семья есть! Считай – все есть! – говорил он изредка наезжающему в гости дяде Ивану, которого на самом деле звали Иоган.
Они сидели на «праздничном» месте – в комнате, за приставленным к окну шатким столиком, накрытым не повседневной, с полустершимся узором, клеенкой, а накрахмаленной белой скатертью. В графине плескалась чуть зеленоватая, настоянная на лимоне водка, а кроме обычных для российских застолий тончайших, потеющих соком, ломтиков «Любительской» колбасы и ноздреватого «Голландского» сыра, в эмалированной ванночке жирно серел селедочный форшмак, остро пахли поджаренные в растительном масле и натертые чесноком ломтики черного хлеба. В отличие от некоторых обрусевших немцев, Лиза не забыла национальную гастрономию и для угощения гостя готовила на общей кухне айсбан, фаршированный говяжий желудок или жареные мозги.
– Давай за это и выпьем, дорогой Иоган! – добродушно гудел Генрих, искренне полагающий, что его благополучие для гостя очевидно. – За то, что все есть!
Младший Вольф сидел на кровати в углу над разобранным будильником и смотрел, как без чоканья опрокидываются рюмки.
– Нет, Генрих, самого главного у тебя нет, – возражал дядя Иван, ложкой отправляя форшмак прямо в рот. Подвыпив, он становился желчным и задиристым. – Родины у тебя нет. Своей земли нет. А главное – национального самосознания нет. Ты не хочешь бороться за наши права. Ты равнодушный, словно русский. Ты не подписываешь наши письма, не ходишь на демонстрации...
Маленький Вольдемар на всю жизнь запомнил эти длинные, тягучие и неприятные для отца разговоры. Иногда, в запальчивости, дядя Иван переходил на немецкий, и отец по-немецки отвечал, но и тогда мальчик все понимал, потому что Лизхен целенаправленно обучала сына родному языку.
– Я родился в Союзе, Иоган, – в очередной раз повторял Генрих, меланхолично двигая челюстями. В отличие от гостя, он очень тонко намазывал форшмак на поджаренный хлеб. – И родители мои жили здесь. И сын мой растет здесь. Я уже больше русский, чем немец.
– И это очень плохо, Генрих. Ты назвал сына Вольдемаром – зачем? Чтобы он мог называться по-русски, Владимиром? А сам ты как представляешься – Геной? Это ассимиляция, утрата родовых корней!
Дядя Иоган вытирал жирные губы и обличающе наставлял на отца указательный палец.
– Да, твои родители жили здесь, но тогда у нас была своя область. А что у нас есть сейчас? Завтра я отправлю петицию в Верховный Совет, под ней тысяча подписей честных немцев, они хотят немецкую автономию! Подпишись и ты, стань в наши ряды! Давай вместе добиваться немецкой республики!
Отец недовольно щурился.
– Добиваться, говоришь? А кем ты там будешь?
– Кем-нибудь в правительстве. У меня большие заслуги перед народом, я могу стать и премьер-министром...
– А я все равно буду водопроводчиком. Так зачем мне твоя борьба?
Дядя Иван начинал злиться.
– Ты странно рассуждаешь, Генрих. В тебе вообще много странного. Например, очень странно, что ты попал жить в Тиходонск. А все наши – в глуши, в селах: кто на Кубани, кто на Волге...
Отец терял терпение и постепенно заводился:
– В тебе тоже много странного, Иоган! Ты прекрасно знаешь про фиктивный брак с Ольгой Коростылевой. Она местная, вернулась в Тиходонск, как дочь реабилитированных, это положено по закону. А меня прописали к ней автоматически... Потом мы развелись, и я зарегистрировался с Лизой...
Дядя Иоган хитро смеялся и качал пальцем.
– Очень просто у тебя получается, Генрих, очень просто! Вот если бы я захотел поселиться здесь, то мне и десять фиктивных браков не помогли бы! Никто бы меня не прописал, и такую комнату в самом центре никто бы не дал!
Комната у них действительно была неплохая – высокая, светлая, площадью метров в двадцать. Служебная жилплощадь в старой, обреченной на снос части города. Ветхие двух-трехэтажные домишки с наружными железными лестницами и приспособленными удобствами, насквозь проржавевшими трубами, кранами и стояками, плохо сложенными печками, переделываемыми постепенно под газовые форсунки...
Рядом чернела пустыми оконными проемами разбомбленная еще в войну пятиэтажка с треснувшим фасадом и провалившимися междуэтажными перекрытиями. По ночам здесь собиралась окрестная шпана: жгли свечку, играли в карты, пили водку, будоражили окрестности взрывами визгливого смеха или густого тяжелого мата, иногда вспыхивали короткие жестокие драки, после которых на битых кирпичах оставались потеки крови, а то и распростертые в беспомощных позах тела.
Участковый дядя Коля Лопухов, в тесном, перетянутом портупеей потертом мундире, отыскивал и сажал виновных, но к этому времени возвращались посаженные ранее, и все шло по-старому.
Лопухов боролся со шпаной, а Генрих Вольф – с текущими трубами, капающими кранами и забитыми стояками: он работал сантехником в жэке.
Прилежного и безотказного немца ценил управдом, инженер и женщины из бухгалтерии. Другие работяги – дворники, электрики, плотники, слесаря – относились настороженно, не понимая, почему он вкалывает на чужих, как на себя, и почему после работы может выпить пива либо четвертинку водки, а в перерыв – капли в рот не возьмет. Вначале в этом видели какой-то подвох, потом смирились, как с безобидным национальным чудачеством: мол, немец – он немец и есть.
Много лет с хохотом рассказывали историю, которая приключилась с Вольфом в самом начале его работы, эта история вышла за пределы жэка и пошла гулять по городу как смешной анекдот. А дело было так: в обед Генрих оставил без присмотра сумку с инструментами, и у него украли разводной ключ. Он, естественно, принялся искать – заглядывал под стулья, шарил по закоулкам, сидел, наморщив лоб, и мучительно вспоминал, где мог его забыть.
Коллеги покатывались со смеху и объясняли глупому, что искать ничего не надо: разводку спиздили, покупай новую и больше никогда не бросай без хозяйского пригляда. Но проживший всю жизнь в немецкой колонии, Генрих не слушал, отрицательно качал головой и продолжал поиски. Посмотреть на бестолкового немца сбежались все сотрудники жэка, и уже целый хор голосов объяснял бедолаге реалии российской действительности.
Не желая казаться полным дураком, Вольф решил неумолимой силой логики обосновать свои действия.
– Вот скажи, Сергей, – обратился он к напарнику. – У тебя есть свой разводной ключ?
– Есть, – кивнул тот.
– А у Петра есть?
– Есть.
– А у Васи есть?
– Тоже есть.
– У всех есть свои ключи?
– У всех.
– Вот видишь! – Генрих торжествующе улыбнулся. – Кто же мог украсть мой? Зачем ему два ключа?
Но в ответ раздался такой хохот, что Вольф понял: российская действительность сильней любой логики.
Генрих быстро приобрел самую высокую квалификацию, и жильцы квартир в их районе с удивлением отмечали, что краны, которые приходил чинить этот молчаливый, непривычно опрятный слесарь, больше уже не протекали.
Белокурая Лиза работала нянечкой в детском саду по соседству, и это было удобно во всех отношениях – грудного Володю она могла кормить, ненадолго отлучившись с работы, а когда ему не было еще и года, он уже лежал в казенной кроватке рядом с детьми, за которыми ухаживала его мать.
– Я правда всем доволен, Иоган, – совершенно искренне убеждал Генрих непримиримого земляка, когда они уже разделывались с фаршированным желудком. – В жэке на Доску почета мою фотографию повесили. Лизу тоже заведующая уважает. Она там такую чистоту навела, да еще музыкальные уроки дает... Садик стал одним из лучших в районе!
Генрих не мог долго сердиться и, опять благодушно улыбаясь, разливал по стаканам остатки водки.
– Что ни говори, а нам с Лизой везет на добрых людей и хорошее начальство!
Иоган дожевывал последний кусок и сочувственно тряс головой.
– Дурак ты, Генрих. Они потому добрые и хорошие, что вы с Лизхен все жилы из себя вытягиваете и за них работаете!
– А если даже и так? – Генрих опускал глаза. – Ну, помогли немного... Нам ведь это не трудно...
– На дураках воду возят! А все потому, что ты живешь на чужой земле! – гнул свое Иоган. – И забываешь, что у тебя растет сын! Ему тоже не сладко будет жить на чужбине!
Вольф отмахивался.
– Какая там чужбина! Он укоренится еще крепче, чем я, станет совсем своим. И он еще выпьет свою кружку баварского!
* * *
«Не любит, не любит этот белоголовый дисциплины. И виниться не любит. Стоит почти весь урок в углу, а ни разу не переступил с ноги на ногу. И смотрит, гаденыш, не отводя взгляда, будто не классный руководитель перед ним, а пустое место...»
У Константина Константиновича длинное худое лицо, длинный, висюлькой расширяющийся книзу нос, длинные пегие волосы, свисающие вдоль щек. Ему кажется, что это богемно: художники всегда отличались от остальных, не отмеченных печатью таланта людей. Он похож на пуделя, ученики дали ему прозвище Псин Псиныч. Сейчас он наклонился к глиняной вазе на столе, чуть поворачивает ее, чтобы свет лучше разливался по выпуклому, залитому глазурью боку. Вытянутый бежевый пуловер расстегнут, мятые коричневые брюки едва прикрывают щиколотки. Узкий ремень сильно потерт в нескольких местах, как будто раньше его носили другие люди. Обут Псин Псиныч в нелепые желтые босоножки, служащие ему сменной обувью круглый год.
Весь облик учителя рисования отвратителен и враждебен Вольфу. Но что делать? Если бы быстренько вырасти, стать директором школы и поставить самого Псиныча в угол – вот так, отделив от всего остального класса, как презираемого и никому не нужного чужака... Или найти волшебную палочку и превратить его в облезлого злого пуделя. Или дать кулаком в нос изо всех сил, чтобы юшка брызнула! Это проще всего, и не нужно никакой волшебной палочки, и директором становиться не надо. К тому же волшебных палочек не бывает, да и директором не каждый может, а кулаки у всех есть. И у него есть, но еще маленькие. Надо подрасти, набраться сил... А пока терпеть... Отец так и учит: терпи и виду не показывай! Но уж очень это противно...
Теперь кувшин стоял идеально. Константин Константинович сосредоточился на приятном: вспомнил, как заглянул на перемене в спортзал, осмотрел раздевалки, сделал Зайцевой замечание за капроновые чулки и взрослый бельевой пояс, подсадил Смирнову на кольца... И сейчас после звонка надо будет проверить душевые... Никто из учителей туда носа не кажет – пусть девчонки делают что хотят... Но должен ведь быть порядок! Вот он, Константин Константинович, и будет присматривать за порядком...
Душевное равновесие восстанавливалось, только пристальный взгляд прищуренных голубых глаз, от которого, казалось, вот-вот прогорит пуловер, не давал ему полностью прийти в норму. Ну да черт с ним, этот волчонок не стоит того, чтобы тратить на него нервы!
Константин Константинович не спеша подошел к Вольфу.
– Надумал? Теперь будешь рисовать? Тот еле заметно кивнул.
– Садись на место. Ты сам у себя украл столько времени, что можешь и не успеть. А тогда я поставлю тебе двойку в журнал. Такую то-о-о-ненькую...
Володя сел за парту и отодвинул глянцево-белый лист, на котором жирно синела паукообразная свастика.
– Что, опять за свое? – учитель повысил голос. – Больше бумаги у меня нет! Где я ватмана наберу на твои капризы? Переверни и рисуй! Или тебе нужен повод, чтобы отказаться трудиться?
Белоголовый пацан сидел в той же позе, крепко сжав губы и глядя прямо перед собой.
– Ну хорошо, я сам сделаю...
С примирительной улыбкой Псин Псиныч наклонился и перевернул лист, но и на другой стороне сидел точно такой паук. Учитель в несколько движений заштриховал свастику карандашом. Грифель раздраженно скрипел по меловой поверхности.
– Вот и все, считай, что ничего здесь нет! Рисуй вазу рядом...
– На этом листе я рисовать не буду, – тихо, но твердо проговорил мальчик.
– Не будешь?! – примирение сорвалось, учитель разозлился не на шутку. – Тебе, паразиту, лишь бы от работы увильнуть! Может, ты сам поставил крест, а сейчас строишь обиженного! Смотри, как бы у тебя на лбу такой не вырос!
Псин Псиныч протянул руку, чтобы ткнуть пальцем в упрямый лоб, но Вольф отдернул голову, слегка ударив по учительской ладони.
– Ах так?! – задохнулся Псин. – Ты посмел драться?! Ну все, мое терпение лопнуло! На перемене пойдем к директору!
Псин Псиныч трясся от ненависти. Схватить бы сейчас эту белобрысую гниду да ткнуть носом в парту, растереть по листу, чтоб действительно отпечаталась свастика на лбу! Так нет, в советской школе надо цацкаться с немецким ублюдком, расшатывать нервную систему! Что ему директор – он и там будет стоять, не опуская головы, пялить свои наглые голубые стекляшки! А вот если дать ему пару раз кулаком или этой вазой по затылку – тогда башка сразу опустится!
Прозвенел звонок. В классе поднялся гомон, захлопали крышки парт. Володя вскочил, положил злополучный лист перед Колей Шерстобитовым и быстро сделал то, что Псин Псиныч мечтал сделать с ним – со всего размаху ткнул его лицом в плохо заштрихованную свастику. Раздался громкий вскрик, по ватману разбежались красные капли и брызги.
Вмиг наступила зловещая тишина, которую прорвал дикий визг Псин Псиныча.
– Ну бандит, я тебе покажу!
Кинувшись вперед, он вцепился костлявыми руками в горло Вольфа, выволок из класса и, как ястреб цыпленка, потащил по коридору, не замечая испуганных взглядов учеников и учителей. Он только чувствовал хрупкость зажатой в ладонях детской шеи и явственно ощущал, что едва уловимый миг отделяет его от того мгновения, когда под судорожно стиснутыми пальцами хрустнут шейные позвонки: одно усилие – и все...
Это ощущение неожиданно возбудило учителя рисования, причем гораздо сильнее, чем голые тела тонконогих девчонок в душе или раздевалке. Происходящее вокруг вдруг заволокло туманом, уши заложило ватой, все чувства сконцентрировались внизу живота, где пульсировал горячий, остро напряженный отросток.
Под руками придушенно бился, что-то кричал и безуспешно пытался вырваться белобрысый, но Псиныч, уже не владея собой, продолжал сжимать пальцы. Внезапно вдоль позвоночника пробежал электрический разряд, все тело содрогнулось, и острое напряжение внизу прорвалось тугими выбросами спермы: раз, два, три... Такого легкого оргазма у холостого, чуравшегося женщин Псиныча никогда не случалось. Добиваться семяизвержения каждый раз приходилось тяжким трудом и всевозможными ухищрениями.
Ошеломленный, он сдавленно икнул и разжал руки. Туман вокруг рассеялся, уши отложило. Педагог стоял у директорского кабинета, вырвавшийся Вольф, спасаясь, сам распахивал дерматиновую дверь. Рядом стояли географичка с химичкой, они вытаращили глаза и осуждающе качали головами.
– Что с вами, Константин Константинович? Вы же его чуть не задушили! И у вас такое лицо... – Не дослушав, он рванулся за Вольфом. В штанах было мокро и противно, казалось, что эту мокроту можно увидеть со стороны.
Дородная женщина в строгом синем костюме и с туго стянутым на затылке узлом волос подняла голову от бумаг:
– Что за беготня? Кто за кем гонится?
Взъерошенный Вольф тер покрасневшую шею и тяжело дышал. Учитель тоже тяжело дышал и машинально отряхивал ладонью брюки.
– Что случилось? – раздраженно повторила директриса.
К Псинычу вернулся дар речи.
– Опять эти немецкие штучки, Елизавета Григорьевна. Этот тип сорвал урок: отказывался выполнять классное задание, ударил меня, избил до крови ученика! На педсовете я буду ставить вопрос об исключении, и многие товарищи меня поддержат...
– Вот как? А меня вы с «товарищами» уже не принимаете в расчет?
Историк по образованию, директриса была крутой руководительницей и любила повторять знаменитую, несколько переиначенную фразу: «Школа – это я».
– Но сколько можно терпеть? Почему из-за какого-то Вольфа...
– Минуточку! – директор хлопнула ладонью по столу. – Пролетарский интернационализм еще никто не отменял! Я член райкома партии и депутат райсовета, поэтому в таких делах разбираюсь лучше вас и ваших «товарищей»! И фракционной деятельности за своей спиной не потерплю!
– Речь идет об укреплении дисциплины, – тоном ниже забормотал Псиныч.
– Кстати, о дисциплине...
Елизавета Григорьевна сняла очки в стальной оправе и задумчиво принялась грызть заушник.
– У нас всего четыре учителя-мужчины, но, когда болеют военрук или трудовик, вы не соглашаетесь вести за них уроки. А часы физкультуры сами выпрашиваете у завуча! Причем мальчиков отправляете гонять мяч, а с девочками занимаетесь вплотную: подсаживаете на турник, поддерживаете на брусьях...
– Это клевета! – густо покраснел Псин Псиныч. – Я знаю, кто распространяет такие слухи...
– Что клевета? Что вы больше любите физкультуру, чем труд или военную подготовку?
– Я вообще не понимаю, какое это имеет отношение к поведению ученика...
– Ладно, можете идти. С ним я сама разберусь. Оскорбленный Константин Константинович с гордо поднятой головой вышел из кабинета и даже прикрыл дверь чуть громче, чем допускает почтительность к начальству. Директриса перевела взгляд на красную шею мальчика.
– Ты в каком классе? Фамилия, имя? Напомни.
– В пятом. Владимир Вольф.
– Ах да, из-за фамилии тебя дразнили волком...
– Моя фамилия Вольф.
– Я понимаю. Хотя ты же знаешь, что означает твоя фамилия, да? Ну ладно... За что же ты избил товарища?
– Пусть не обзывается, – глядя в пол, буркнул Вольф. Ему было неприятно это говорить: вроде как сам ябедничает.
Елизавета Григорьевна устало вздохнула.
– Опять волком? Или придумал какую-нибудь другую кличку?
– У меня нет клички.
– Да ну? Странно. Тогда я вообще ничего не понимаю.
Елизавета Григорьевна поднялась из-за стола, заложив руки за спину, прошлась по кабинету. На синем лацкане ярко выделялся красный флажок.
– За что же ты ударил одноклассника?
– Он мне свастику нарисовал. И обзывал по-всякому... Немцем, фрицем, волком...
– Вот видишь! Почему же ты говоришь, что у тебя нет клички?
Вольф упрямо мотнул головой.
– Нет. Кличка – это когда навсегда, когда не нужно имя. Когда все признают. И сам, и остальные...
– Например? – директриса остановилась, полуобернувшись.
– Гитлер. Сталин...
Он хотел продолжить ряд примеров, но осекся – вместо третьего слова явственно прозвучало многоточие.
Елизавета Григорьевна нахмурилась. Проявлять прозорливость не хотелось, и вообще разговор получался какой-то скользкий – на всякий случай лучше выдержать паузу подольше, кто знает, как можно будет истолковать любые слова, сказанные сразу же, сейчас.
Размышляя, она прошлась – от окна к двери и обратно. Нет, это не просто оговорка. Это позиция. Вот он какой ряд выстроил, вот на кого руку поднял! Этак и до идеологической диверсии недалеко... Недаром в райкоме постоянно напоминают о бдительности, да и куратор из органов предупреждает каждый раз... Придется звонить и в райком, и Александру Ивановичу...
– Ты это сам придумал или кто-то научил? – Голос директрисы был ледяным. – Тут пахнет антисоветчиной. Ни один советский пионер до такого бы не додумался!
– А что я такого сказал? – мальчик испугался. Слово «антисоветчина» иногда проскальзывало в разговорах отца с дядей Иваном. И он понимал, что за ним кроется нечто ужасное и опасное для семьи.
– Ты знаешь, что ты сказал. И знаешь, чего не сказал! А я теперь знаю, о чем ты думаешь! Мало того, что избиваешь учеников, срываешь уроки, так ты еще держишь фигу в кармане, смеешься над нашими ценностями! Ты помнишь про Гитлера, а надо помнить о Кларе Цеткин и Розе Люксембург! И... И...
Елизавета Григорьевна запнулась. Она хотела еще назвать немецкого коммуниста Тельмана, но забыла, как его звали, а без имени получалось слишком фамильярно. От этой неловкости она разозлилась по-настоящему.
– Убирайся, я не хочу тебя видеть! Завтра же пусть отец придет в школу!
* * *
В классе уже никого не оказалось. На парте Вольфа одиноко валялся выпотрошенный и перевернутый портфель. По проходу веером разбросаны книжки и тетрадки. На каждой обложке нарисована свастика. Синими и фиолетовыми чернилами. Шерстобитову кто-то помогал.
Володя тяжело вздохнул и стал собирать опоганенные учебники и тетради. Больше всего ему хотелось выбросить их в мусорник. Но приходилось, отряхивая смятые листы от оранжевой мастики, складывать все обратно в портфель. Он знал, что резинкой стереть эти позорные знаки не удастся. Поэтому достал ручку и стал обводить их квадратом – получались окошки, какие он рисовал на домиках еще до школы, совсем маленьким. И вспомнил, как отец учил его рисовать окна побольше:
– Вроде дом как дом, а похож на тюрьму, не жалей света!
Теперь такими окошками изрисовано все – и книги, и тетради, и листы ватмана, и стены подъезда рядом с квартирой. Их ничем не сотрешь. А если сотрешь – появятся новые. Десятки, сотни окон. Но свет сквозь них не проникает, наоборот – вязко продавливается мрачная и плотная чернота, наполняющая душу отчаянием. Наверное, дядя Иван прав – лучше жить там, где ты такой же, как все вокруг. Тогда никто не поставит тебе позорное клеймо!
Он вышел на школьный двор. Дул холодный осенний ветер. Домой идти не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Даже жить. Он чувствовал, что попал в невидимую, но клейкую и очень прочную паутину, придающую его словам совершенно другой, очень опасный смысл. Он запутался в ней, выпачкался липкой грязью, и отмыться невозможно... Выход один – побежать по крутому спуску к Дону и прыгнуть с длинного причала в быструю серую воду... А лучше – с высокого моста, тогда точно не выплывешь...
В поредевших кустах, за гипсовым памятником пионерам-героям, кучковались незнакомые пацаны.
– Кончайте, дураки, пойдем в овраг за школу! Говорю – она сама вспыхнет! Без всяких спичек!
– Чо ты тулишь? – один из компании явно работал под блатного: развязные дерганые движения, косой, спадающий на глаза чубчик, наглый вызывающий тон. – Марганец, кислота... Туфта все это. Если не зажечь, ничего и не будет... Ну-ка, дай сюда!
– Кончай, говорю!
Резко размахнувшись, чубатый бросил бутылку прямо в памятник. Раздался звон стекла, гулко хлопнуло, вырываясь на свободу, пламя.
– Атас! – ломая кусты, пацаны бросились врассыпную. Вязкая, чадно горящая жидкость стекала по выкрошенному бетону, растекалась по асфальту, а огонь, набирая силу, с шумом рвался ввысь. Черными клубами валил густой, удушливый дым. Треща, загорелись сложенные грудой высохшие венки. Павлик Морозов и Валя Котик оказались в костре, как жертвы инквизиции на публичном аутодафе.
Володя огляделся по сторонам – двор был пуст, лишь вдали сидели на скамейке несколько девчонок. Напряженный взгляд выхватил истрепанную мешковину на мусорном баке, Вольф схватил ее и бросился к пожару.
– Вот вам! Вот вам! Вот вам! – он остервенело лупил по пламени, а может быть, по собачьей морде Псин Псиныча, продувной физиономии Коли Шерстобитова, ледяной отчужденности Елизаветы Григорьевны, по нестираемым свастикам, по невидимой липкой паутине, по стене отчуждения, отделяющей его от сверстников...
Жар обжигал лицо, дым выедал глаза и черным горьким комом забивал горло, летящие во все стороны искры прожгли рукава куртки, брызги горящего бензина больно обожгли руки. Огненные струйки обтекали ботинки.
– Вот вам! Вот вам! Вот вам! – ничего не видя и задыхаясь, Володя махал тряпкой, не боясь смерти, напротив – желая погибнуть, чтобы тем самым доказать всем, что никакой он не фашист, не ганс и не волк, а самый обычный советский пионер, такой же, как все.
– Ты что, пацан! Назад, сгоришь! – Сильные руки выдернули его из огня. Главное было уже сделано: сбитые с постамента венки догорали на асфальте – сухие цветы скручивались и корежились вокруг проволочного каркаса. Пионеры-герои остались невредимыми, только белые гипсовые ноги слегка закоптились. Мешковина в руках горела, и Володя отбросил ее в бессильно всхлипывающее внизу пламя. – Ты что, с ума сошел? – это кричал Фарид, дворник. – У тебя же ботинки горят! Так и на тот свет попасть недолго!
Вокруг толпились неизвестно откуда взявшиеся люди – взрослые и школьники, испуганно смотрели подбежавшие девчонки, властно отдавала команды Елизавета Григорьевна. Потом чужие и знакомые лица завертелись вокруг, пионеры-герои перевернулись, и Вольф потерял сознание.
* * *
Неделю он пролежал в больнице: ожоги рук, ног, отравление дымом. Случай наделал шуму и привлек внимание общественности. По радио передали про героизм школьника, фактом заинтересовался корреспондент городской газеты. В районе сказали, что Вольфу положена медаль «За отвагу на пожаре». Теперь Елизавете Григорьевне следовало проявить рассудительность и гибкость, чтобы не испортить впечатления о школе.
– Поступок, конечно, патриотический, но этот мальчик не совсем в ладах с дисциплиной, – комкая кружевной платочек во влажных ладонях, честно рассказывала она в райкоме партии. Это называлось «посоветоваться». – Недавно избил ученика... Правда, тот обзывал его немцем и фашистом...
– Вот видите! – Секретарь по идеологии – озабоченный вид, костюм, галстук, пробор – понимающе развел ладони. – Значит, у ребенка были причины! Это, конечно, промах в воспитательной работе, но спасение памятника перевешивает мальчишескую драку. А вам надо усилить интернациональное воспитание в школе!
– Конечно, обязательно! – истово кивала Елизавета Григорьевна, как будто сама превратилась в старательную ученицу перед строгим учителем. Происшедшее накануне в директорском кабинете сейчас выглядело совершенно по-иному, и высказывать какие-либо догадки об «антисоветских намеках» было совершенно невозможно: клейкая паутина сгорела в дымном огне у памятника пионерам-героям.
– А этот подвиг мы широко обсудим – в классах, на школьной линейке. И даже... Хочу с вами посоветоваться: может быть, представим мальчика к медали? Ведь он действительно рисковал здоровьем... Как вы считаете?
Благородный пафос звучал в голосе директрисы, глаза горели возвышенным стремлением к справедливости.
– К медали? – секретарь на миг задумался. – А что, он действительно настоящий немец?