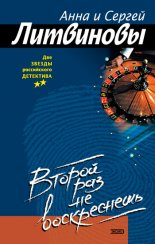Татуированная кожа Корецкий Данил
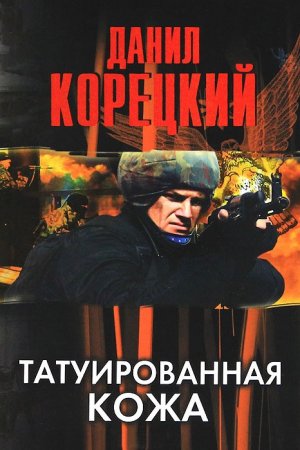
– А вы, говнюки, что стоите? – Рогов грозно повернулся к «кильдюмским». – Железки на пол! Бычки в карманы, кепки долой!
Повторять ему не пришлось. Газетные свертки тяжело ударились о потертые доски. Без сигарет и кепок «кильдюмские» казались не грозной кодлой, а нашкодившими детдомовцами, которым предстоит неминуемая порка.
Рогов наконец встал с руки Зуба. Не переставая выть, тот попытался снять кастет, но распухшие пальцы не позволяли это сделать.
– Вот то-то и оно! – нравоучительно проговорил Рогов. – Стальной? Значит, распилить трудно будет. А деваться-то некуда – иначе руку отрежут. Зато на будущее к кастетам охоту потеряешь – это я сто процентов даю!
– Становитесь в круг, парни! – кивнул боксерам Прошков. – И мы с вами станем. Они же драться хотели? Давайте подеремся...
Круг решительно настроенных боксеров сомкнулся вокруг деморализованной «кильдюмской» кодлы.
Глава 3.
Самопал на продажу
– Ну как, нравится пистоль? – глаза Погодина горели азартом. Он так подмигивал, когда вел Вольфа к развалинам пятиэтажки и потом, когда поднимались по опасной лестнице без перил, что Володя ожидал увидеть в куске мешковины новенький «вальтер» или, на худой конец, видавший виды «наган».
Но в свертке оказался вырезанный буквой «г» кусок толстой доски, к которому сверху была примотана проволокой медная трубка с расплющенным концом и пропиленным в сантиметре от заглушки отверстием поджига. Грубая примитивная поделка. Впечатления не спасала свежая черная краска и нанесенное напильником косое рифление на острой по углам рукоятке.
– Какой это пистолет... – Вольф не скрывал разочарования. – Обычный самопал...
– Ну и что! Знаешь, как бьет? Забор насквозь, Толик сам видел! И стоит не четвертак, а трешку!
–А толку от него... Пока достанешь, пока подожжешь...
– Можно навостриться. В случ-чего отскочил, выхватил, коробок к запальнику приставил: «Не подходи!» А спичка там уже стоит, чиркнул – и все!
– И все! – передразнил Вольф. – Давай попробуем, что ли... Он заряжен?
– Ага. Мороз насыпал пороха и шарик от подшипника вставил...
Среди щебенки и битого кирпича тут и там валялись бутылки из-под дешевого крепленого вина. Володя подобрал восьмисотграммовый «огнетушитель» с грубой этикеткой «Вермут крепкий», поставил в угол, отошел на три метра, примерился пустой рукой.
– Ты или я?
– Давай ты, – быстро сказал Погодин и отошел в сторонку.
Вольф взял самопал, навел на цель. Трубка почти закрывала бутылку, прицел получался грубый. Толстая рукоятка плохо сидела в ладони, острые углы врезались в кожу. Сквозь пустой оконный проем пробивались косые солнечные лучи, в них плавала кирпичная пыль. Невдалеке от бутылки-мишени чернели окаменевшие человеческие экскременты. Время затормозило свой бег, наступила мертвая тишина, словно в уши плотно набили вату.
Вольф чиркнул коробком о спичечную головку – раздался звук, будто гвоздем царапнули по оконному стеклу, но спичка не загорелась. Он чиркнул еще раз... Сознание странно раздвоилось: он будто смотрел со стороны, как светлоголовый мальчик, упрямо выпятив губу, пытается привести в действие опасную игрушку. Спичка снова не загорелась. «Попробую еще раз и брошу», – с облегчением подумал Вольф.
Однако третья попытка увенчалась успехом. С сухим треском вспыхнуло желтое пламя, очень хотелось зажмуриться и отвернуться, оберегая лицо. Но тогда собьется прицел... Плотно сжав губы и прищурившись, мальчик удерживал линию ствола на белом квадратике этикетки. Спичка погасла, но ничего не произошло. Первым желанием было заглянуть в трубку – все ли там в порядке? Но он, словно окаменев, продолжал стоять в прежней позе.
– Точно заряжен? – напряженно спросил Вольф. Будто отвечая на его вопрос, самопал сильно дернулся, раздался грохот, визг рикошета, все заволокло сине-черным дымом.
– Черт! – испуганно крикнул Саша. – Рядом пролетело, свистнуло у самого уха...
Второй частью сознания Володя увидел самого себя, лежащего с развороченным лицом на мусоре и обломках кирпича.
Бутылка осталась невредимой. Свежая выбоина на кирпичной стене обнаружилась в полуметре левее.
– Да он еще и криво бьет, – сказал Вольф. Ладони у него вспотели, сердце колотилось. – За него и рубль заплатить жалко.
– Конечно! – поддержал его Погодин. – Не знаю, как забор пробивает, а меня точно чуть не убило! К тому же пока он бахнет, нам уже бошки оторвут!
– Чего ж ты его хвалил?
– Это не я, я только за Толяном повторял... Это он пистоль расхваливал...
– Вот пусть и забирает. Неси это говно обратно.
– Завтра отнесу, сейчас Мороза все равно нету. Только ты его до завтра забери – дома родители, куда я его дену?
– А я куда?
– Да в общем коридоре спрячешь или в кладовке. Кто там его увидит!
– Ну ладно...
Вольф сунул самопал под рубашку, за брючный ремень, прижал локтем, чтоб не вываливался. Они вышли из развалин и сразу наткнулись на пацанов из соседних домов.
– Здорово, Немец! – крикнул Лешка Сонин.
– Здорово...
Когда кличку произносили без злобы или издевки, Вольф не реагировал. Иначе пришлось бы передраться со всеми.
– Это вы стреляли? – пацаны подошли ближе. – Из чего?
– Конечно мы, – гордо отозвался Погодин. – Вот, смотри?
Он задрал Володину рубашку, тот быстро опустил ее на место, но пацаны успели увидеть черное дерево и блестящую медную трубку.
– Покажи, Вовка, – попросил Сонин, но тот как глухонемой быстро прошел мимо.
– Зачем сказал? – зло спросил он Погодина, когда они отошли на несколько десятков метров
– А чего? Для понта! Больше уважать будут...
– Чем меньше понтов. тем лучше! – отрезал Вольф и, не прощаясь, пошел домой
Самопал Володя решил отдать на хранение Витьке Розенблиту – он жил вдвоем с матерью, которая не совала нос ни в дела сына, ни в углы своей квартиры
Но когда он зашел в длинный обшарпанный коридор, то понял, что сейчас неудачное время для исполнения задуманного пахло горелым, а на кухне бушевал скандал.
– Ты, жидовская морда, я тебе сколько говорила мою конфорку не занимать! – истошно орала тетя Надя Караваева. У нее было иссушенное злое лицо неудачницы. – Знаю я ваши штучки! Когда проводка перегорела, ты трешку пожалела! Все сдали, а ты на чужом горбу в рай проехала!
– Я сдала еще раньше тебя! – кричала в ответ Фаина Григорьевна, но не так громко и зло, что сразу выказывало: характера победить Караваеву ей не хватит. Фаина Григорьевна была полной женщиной с глазами жующей коровы. Она всегда ходила в бумажных бигуди, рваном халате и рваных тапочках, за что чистоплотная Лизхен ее осуждала и даже собиралась подарить как-нибудь, «когда будут деньги», и тапочки и халат. – А конфорки все общие...
– Тебе все общее, лишь бы чужое к рукам прибрать! Всю печку засрала, зараза пархатая! – чувствуя близкую победу, надсаживалась Надя. Землистое лицо разрозовелось – такие стычки доставляли ей явное удовольствие.
Но тут за Фаину Григорьевну, не выдержав, вступилась Лизхен, которая обычно соблюдала нейтралитет.
– Чего орешь, дура! – с размаху швырнув нож на изрезанную выцветшую клеенку, напористо закричала она. – Или со вчерашнего не протрезвела? Думаешь, если тайком пьешь, то никто не видит? Вон, полная сумка бутылок! Общие конфорки, общие!
Характером Лизхен не уступала Караваевой, и та сразу переключилась на более опасную противницу.
– А, немчура за жидовку заступается! – Надя уперла руки в бока и ядовито осклабилась, открывая плохие зубы. – В войну вы их расстреливали, а теперь из одной чашки пьете! Такие же сволочи!
Услышав последнюю фразу, из комнаты выскочил Генрих. В одних тренировочных штанах, босой, с перекошенным лицом и вытаращенными глазами. Володя никогда не видел отца в таком виде.
– Кто расстреливал?! – страшным голосом заорал он. – Я расстреливал? А где твой отец и брат Степан? Это не они полицаями были? Не они в Змеиной балке из пулеметов тысячи людей положили? Тогда за что их трибунал повесил?!
Наступила звенящая тишина. Не сняв замызганного фартука, Надя опрометью бросилась из кухни, хлопнула своей дверью, щелкнула замком. В коммунальных битвах такой чистой и очевидной победы еще не случалось.
– Откуда ты это знаешь, Генрих? – удивленно спросила Лизхен.
Отец дрожащими руками налил из-под крана воды, залпом выпил стакан.
– Люди рассказали! – постепенно успокаиваясь, ответил он. – Люди все помнят. А эти... Свои делишки на других перекладывают... Негодяи!
Фаина Григорьевна выпила сердечные капли и, раскачиваясь, как утка, ушла в комнату. Володя решил не напрягать Витьку и спрятал самопал себе под матрац.
Вечером неожиданно приехал дядя Иоган, Лизхен на скорую руку нажарила картошки с колбасой, открыла соленья, застелила на стол белую крахмальную скатерть, поставила праздничную посуду. Независимо от количества разносолов, стол у нее всегда выглядел торжественно.
За ужином Генрих рассказал другу о кухонном скандале.
– Ничего странного, – констатировал тот. – В чужой среде тебя всегда будут считать фашистом и убийцей. Сейчас я еду на съезд, в очередной раз предлагаю тебе: поедем со мной! Прими участие в нашем деле – оно выгодно для тебя и твоей семьи!
– Ты опять за свое, – устало отозвался Генрих. – Разве в национальности дело? Это только предлог, повод... Меня вот на днях три наших слесаря избили в кровь, немчурой обзывали... Но если бы я драл со старушек по трояку и пил с ними водку каждый день, то был бы лучшим другом. И о национальности никто бы не вспомнил.
– Так-так! – дядя Иоган насторожился, как сеттер, почуявший дичь. – Значит, тебя избили, ты утерся, обидчики торжествуют и показывают на тебя пальцем, и все хорошо, ты доволен?
– Они не торжествуют, – Генрих тяжело вздохнул. – Один в больнице, один уволился, а тот, что остался, меня за десять метров обходит. – И на немой вопрос Иогана пояснил: – Володя подоспел с дружком – тот лысый такой, здоровый, вид бандитский – любой испугается... Он сразу двоих вырубил, а третьего Володя проучил. Я даже удивился – одним ударом сбил с ног, и тот встать не мог... Так что у меня есть надежный защитник!
Дядя Иоган кисло кивнул.
– Чему же ты радуешься? Что твой сын дружит с бандитами и научился сбивать с ног людей? Но такая дорожка ведет в тюрьму! Защищаться надо цивилизованно, отстаивая национальное самосознание и добиваясь своего государства. Автономного немецкого государства, где будет порядок и твоему сыну не придется нарушать законы! – И обратился к Володе: – А почему ты водишься с бандитами? Знаешь, чем это может кончиться?
– Никакой он не бандит! – огрызнулся тот. – Просто отцу не понравилось, что он лысый!
Когда ужин заканчивался, в коридоре раздались два звонка.
– К нам, – сказал Генрих. – Лизхен, открой. Может, авария где...
Но в комнату вошел участковый дядя Коля Лопухов.
Поздоровавшись, он сразу повернулся к вспотевшему, как мышь, Володе.
– Ну, где твой пистолет? Быстро давай сюда!
– Пистолет? – настороженно переспросил дядя Иоган.
– Да нет, какой пистолет, – спокойно сказал Генрих. – Пистолета никакого нет. Были только разговоры про пистолет. Чего не болтают мальчишки... Они не понимают, что слово не воробей.
Но Лопухов молча смотрел на младшего Вольфа, и тот, как загипнотизированный, подошел к кровати и вытащил из-под матраца самопал. Лизхен ахнула, у Генриха отвисла челюсть, дядя Иоган переводил испытующий взгляд с Володи на его родителей, потом на участкового, потом опять на Володю.
– Это не разговоры, не слова! – Лопухов выразительно подкинул самопал на ладони, понюхал ствол. – Это статья Уголовного кодекса – незаконное хранение оружия. Тем более из него недавно стреляли.
Лизхен обессиленно опустилась на табуретку, Генрих побледнел. Чувствуя, что на этот раз он таки влип в историю, Володя ощутил прилив дерзости.
– Меня никто не посадит! – уверенно заявил он. – Мне еще нет четырнадцати лет!
– Вот как? – остро глянул Лопухов. – И кто тебя этому научил?
– Кент научил.
– Кто?! – выдохнул Генрих.
– Кент. Его Иваном зовут.
– Ты что, Кента знаешь? – Лопухов присвистнул и сдвинул на затылок форменную фуражку. – А еще кого?
– Мотрю. И Филькова...
– Кто это такие? – прошептала Лизхен. – Мы их никогда не видели... Правда, Генрих?
– Это уголовные элементы, – пояснил участковый. – Преступники. Не думал, что ваш сын с ними водится: рано еще. И вообще... Теперь придется разбираться...
Он сунул самопал в планшетку, а оттуда извлек бланк протокола и принялся заполнять пустые графы.
– Распишитесь, – он протянул протокол Генриху. – Завтра ко мне в отдел, кабинет двадцать два. В десять.
Когда дверь за участковым закрылась, дядя Иоган тоже стал собираться.
– Извини, Генрих, я не могу у тебя оставаться. Ты же знаешь мое положение: в любой момент могут сделать провокацию и упрятать в тюрьму. Когда милиционер зашел, я подумал, что именно это и началось... Но мне кажется, мальчик не на правильном пути. Он пошел по другой дорожке. Не по той, по которой стоит идти немцу-патриоту. Это очень печально, Генрих. И очень плохо. Ты тоже в этом виноват.
– Подожди, Иоган, я сейчас не могу ничего сообразить, – Генрих сморщился и тер виски кончиками напряженных пальцев. – Оставайся у нас, тебе ничего не грозит, а утром поговорим...
– Не могу. Слишком важное дело на мне, чтобы рисковать. И слишком много людей за мной... Если надумаешь присоединиться к нам, можешь найти меня в гостинице. В «Кавказе» скорей всего.
– Я... Я присоединюсь к вам.
Генрих перестал тереть виски, лишь сильно сжимал их, будто стараясь успокоить пульсирующую боль.
– Я поеду с тобой на съезд.
– Наконец-то ты сделал выбор! – Иоган подошел к товарищу, крепко обнял, прижал к себе. – Ты все понял, молодец! Это единственный выход для тебя и твоей семьи! Единственный! И Вольдемару так будет лучше, мы сумеем его защитить. В случае чего можно поднять шум, что через сына сводят счеты с активистом немецкого освободительного движения!
– Нет! – Генрих резко высвободился. – Вольдемара в эти дела не вмешивать – это мое условие. Обязательное условие!
Стальной взгляд отца напоминал клинок выброшенной в защитном выпаде шпаги.
– Как скажешь, дружище. Завтра в семь вечера я жду тебя на вокзале, возле касс.
Когда Иоган ушел, Генрих опустился на диван, обхватил голову руками и долго сидел не шевелясь. Лизхен опустилась рядом, обхватила мужа за плечи.
– Зачем? Ты же всегда держался в стороне...
– Так будет лучше, – глухо ответил Генрих. – Все равно всю жизнь не отсидишься...
Володя почувствовал, что происходит что-то непоправимое и это непоправимое связано с ним. Стало горько и страшно, к горлу подкатил комок. Он вышел в высокий, гулкий, пахнущий мочой туалет и, дернув тяжелую фаянсовую ручку на свисающей из бачка цепи, разрыдался под шум сбегающей воды. Он сдергивал несколько раз, но бачок наполнялся медленно, к тому же в дверь стал стучать одноногий инвалид Фомичев, поэтому выплакаться так и не удалось. Умывшись, он вернулся в комнату и залез под одеяло, мечтая о том, что когда-нибудь у него будет место, в котором можно уединиться – хотя бы такой же туалет, но только не коммунальный, а свой, потому что человеку иногда необходимо остаться наедине с самим собой, а сделать это в густонаселенной квартире практически невозможно.
В ожидании рокового времени – десяти часов следующего дня – спал он плохо, мучили тревожные, страшные и противные сны. Несмотря на недавнюю браваду, он понимал, что, кроме тюрем, есть и трудколонии для несовершеннолетних, поэтому вполне вероятно, что завтра его отправят именно туда...
Но утром все разрешилось чудесным образом, даже идти в милицию не пришлось: отец ушел рано, а когда вернулся, сказал, что все уладил и на первый раз его простили. Володя испытал прилив любви и нежности к отцу, обнял его за шею и уткнулся головой в грудь, как в глубоком детстве. А заметно опечаленный Генрих гладил сына по затылку, тяжело вздыхал и наконец произнес:
– Не допускай ошибок, сынок. Имей в виду, они только этого и ждут...
Вечером он ушел на вокзал, не разрешив себя провожать. Проснувшись ночью, Володя услышал, как мать приглушенно всхлипывает в подушку.
В аттестате зрелости у него было всего три пятерки: по физкультуре, первоначальной военной подготовке и немецкому языку. Последняя считалась самой ценной – до сих пор Клавдия Ивановна считала, что на высший балл знает только она сама. Троек тоже оказалось немного: рисование, химия и география. По меркам их выпуска, результат считался неплохим.
К моменту окончания школы Володю уважали и соученики, и все пацаны микрорайона. Причиной тому, конечно, была не хорошая учеба, а успехи в драках, в которые с восьмого класса он ввязывался с большой охотой. «Двойка», исполненная под руководством Пастухова в заплеванной подворотне, сформировала личность Вольфа больше, чем годы, проведенные в боксерском зале. Она связала силу и технику удара не с гулким тренировочным мешком и не с очками, присуждаемыми рефери, а со страхом в выпученных глазах противника, мягкой податливостью его тела, рефлекторно выскочившим языком, короче – с настоящей победой, которая не присуждается судейской коллегией, а берется своими руками без чьего-то посредничества.
После первого опыта он несколько раз приходил к Филькову в общагу и дрался на темных пустырях стенка на стенку, или вдвоем-втроем против пяти-шести. Численный перевес всегда был на стороне пьяных или обкурившихся жителей «нахаловки», потому что инициатива исходила от них, но точные и сильные удары боксеров компенсировали это преимущество. К тому же оказалось, что печальный пример нокаутированных сотоварищей мигом охлаждает пыл остальных и они, неожиданно протрезвев, покидают поле боя.
Несколько раз Фильков предлагал «ставить удар» на случайных прохожих, но Володя категорически отказывался. Не захотел он и драться на стороне Кента против «кильдюмских», хотя придумал для отказа какой-то благовидный предлог.
В девятом классе Вольф стал ухаживать за Симоновой, перейдя дорогу Вальке Ромашову из десятого «Б». Тот считался приблатненным и водился с «мясокомбинатовской» кодлой, школьные пацаны боялись его как огня. Как-то после вечера танцев к подъезду школы подошел десяток отпетых хулиганов, вооруженных палками и цепями, верховодил в этой компании дважды судимый Бычок, он стоял посередине, засунув руки в карманы, лыбясь щербатым ртом и выплевывая семечную шелуху на опасливо пробирающихся вдоль стенки школьников. Ромашов держался в сторонке, будто он здесь вовсе и ни при чем, только губы его змеились в загадочной торжествующей улыбке.
Все знали, что «мясокомбинатовские» пришли «гасить» Немца, и он тоже об этом узнал, но деваться было некуда. Хотя Саша Погодин предложил ему выдавить стекло в туалете и по пожарной лестнице спуститься в темный двор, а оттуда через забор рвануть домой, но Вольф не согласился: слишком сложно, не факт, что уйдешь, а если и уйдешь – все равно потом поймают.
Довольно спокойно Володя вышел на улицу: боевой опыт помогал преодолеть страх – он знал, что если не отобьется, то убежит, не убьют ведь, в худшем случае получит несколько ударов, но это дело привычное...
– Здорово, Немец! – возбужденно выкрикнул Ромашов и, не удержавшись, взглянул на Бычка – понял ли тот сигнал. Тот сигнал понял, и стоящие поодаль в ожидании зрелища школьники поняли – сценарий-то стандартный: сейчас Бычок отзовет Вольфа в сторону, скорей всего в темноватый и пустынный двор, следом подтянутся остальные и «замесят» обреченную жертву. Погодин потом рассказывал, что у него даже мороз прошел по коже.
Но Вольф сам шагнул к Бычку.
– Слышь, чувак, дай закурить, – пританцовывая, будто от холода, сказал он.
– Что?! – Бычок ошеломленно вытаращил глаза.
– Закурить...
Резкое движение руки, кулак скользнул по небритому подбородку, костяшки угодили прямо в нокаутирующую точку, и Бычок обмякшим кулем рухнул вперед, прямо Вольфу под ноги. Тот опасливо отскочил.
– Гля, чего это он? – недоумевающе спросил Вольф у следующего – рыжего крепыша с надетой на запястье веревочной петлей от палки – чтоб не выскочила из вспотевшей ладони. – Больной, что ли?
– Хы, – тот или не понял, или не успел осознать, что произошло, и бессмысленно пялился на недвижное тело вожака.
Вольф опять сделал резкое движение и снова попал удачно – рыжий повалился рядом с Бычком. То ли оттого, что падали они, не опрокидываясь навзничь, как обычно в драках, то ли потому, что происходящее не укладывалось в привычный сценарий подобных игр, но остальные будто впали в транс, загипнотизированно рассматривая тела товарищей и явно не связывая их состояние со смирно стоящим Вольфом.
– Тю! – Володя удивленно развел руками перед худым парнем со злым лицом и тихо позванивающей цепью в дрожащем кулаке. – Может, надо «Скорую» вызвать?
На этот раз он промахнулся и попал в скулу, худой развернулся вполоборота и, хлестнув в падении цепью кого-то из своих, опрокинулся на спину. Спектакль закончился. Вольф рванулся вперед. Удар! Удар! Еще удар!
Двое упали, один скорчился, зажимая разбитую сопатку, остальные, позабыв про цепи и палки, бросились бежать. Быстро, но не суетливо Вольф пошел в другую сторону, через проходной двор вынырнул в кривой, с разбитыми фонарями проулок и вернулся обратно, наблюдая из темноты за дальнейшим развитием событий. На месте происшествия уже распоряжалась директриса, и ее гулкий голос разносился по всей округе.
– Раз это не наши – срочно вызовите милицию! Смотрите: палки, цепи... Кто их сюда привел?
– Безобразие! – в унисон кипятился Псиныч. – Они тут друг друга убивать будут, а пятно ляжет на всю школу!
Прочухавшийся Бычок с товарищами по несчастью не стали дожидаться милиции и, пошатываясь, вытирая кровь и матерясь, побрели в сторону набережной. Зеваки расходились. Вольф выделил в толпе фигуру Ромашова и по другой стороне двинулся следом.
Назавтра школа гудела, как растревоженный улей. Подвиг Немца передавался из уст в уста, обрастая все новыми и новыми деталями и подробностями. Печальный вид Ромашова, который пришел только к третьему уроку весь в кровоподтеках и шишках, подтверждал достоверность этих рассказов. А после занятий к школе подошел Фильков с дружками из общежития, которые по виду мало уступали «мясокомбинатовским». Вольф присоединился к ним, и пацаны битый час рассказывали анекдоты и смеялись, поплевывая под ноги и ожидающе поглядывая по сторонам. Эта компания встречала Володю еще несколько дней, но заинтересованная сторона не сделала попытку взять реванш.
К окончанию школы Володя имел рост сто восемьдесят три сантиметра и весил восемьдесят килограммов. Последние годы он усиленно занимался атлетической гимнастикой и теперь весь бугрился мышцами. Рывкин был этим недоволен, считая, что излишняя мускулатура снижает резкость удара, но Володя выполнил кандидатский норматив и считал, что достиг своей вершины в боксе. Можно, конечно, идти выше, но зачем? Теперь он был уверен в себе, пользовался уважением сверстников, да и взрослых мужиков, а уличная шпана никогда не спрашивала у него закурить.
Книжки с комплексами силовых упражнений ему дарил Александр Иванович, но в девятом классе их дружба закончилась, причем совершенно неожиданно: отец встретил их в парке Революции и устроил комсомольскому работнику настоящий скандал.
– Я же вам говорил, чтобы вы оставили сына в покое! – кричал Генрих, петушком наскакивая на крепкую фигуру Александра Ивановича.
Тот был моложе, выше и явно сильнее, но почему-то стушевался и отступал на шаг при каждом наскоке, растерянно бормоча что-то вполголоса, так что до Володи доносились только интонации оправдания. Наконец Александр Иванович кивнул, помахал Володе и, не оглядываясь, ушел.
– Что случилось? – спросил Володя. – Ты его знаешь? И что ты против него имеешь? Хороший мужик!
– Все они хорошие! – Генрих нервно дернул шеей. Хрустнули позвонки. – Когда спят зубами к стенке!
В объяснения он вдаваться не стал, только больше Володя Александра Ивановича не видел.
Генрих уже не работал в жэке: последний год он был бригадиром аварийной бригады райжилуправления и, как сам объяснял, теперь приравнивался к сотрудникам местной власти: исполкома, коммунхоза и других районных служб. Подтверждением его слов явился тот факт, что вскоре они получили новую квартиру – двухкомнатную, изолированную, на пятом этаже только что отстроенного дома на Богатяновском спуске. Это считалось большой удачей. Когда они съезжали из коммуналки, Фаина Григорьевна Розенблит по-хорошему завидовала и плакала оттого, что лишается замечательных соседей. Надя Караваева, почернев лицом, скрежетала зубами и вполголоса проклинала проклятую немчуру.
Почти сразу после выпускного вечера Вольф получил повестку на призыв в армию. Проводы отметили скромно: Лиза запекла в духовке свиной окорок, наготовила салатов, Генрих купил бутылку водки и бутылку портвейна, в гости позвали Витьку Розенблита с матерью, Погодина, Филькова и Катю Симонову с подружкой, но девчонки почему-то не пришли.
– А дядя Иоган почему не приехал? – вдруг вспомнил Володя. – Что-то он давно не появляется...
– Много дел, – мрачно сказал отец. – Бесконечные разъезды. Некогда ему.
С мясом разделались довольно быстро, спиртное тоже подошло к концу. Володя пил лимонад, он вообще не был приучен к выпивке. Настроение было плохим: может, потому, что не пришла Катя, может, от предстоящего разрыва с привычным миром и образом жизни. Два года неизвестности пугали...
– Очкуешь, пацан? – проявил неожиданную прозорливость Фильков. Он принес бутылку вина с собой и, не найдя компаньонов, выпил ее в одиночку. – В какие войска идешь?
– В десант вроде...
– Слышь, что Еремин про армию говорил? – прищурившись, Фильков положил руку Вольфу на плечо. – Вначале надо пахать, пока молодой, а потом будешь кантоваться. Там такое правило: приказали – скажи «есть!». А потом можешь и не выполнять, начнут докапываться – придумаешь чего-нибудь. Что они тебе сделают? Служба-то идет...
– Я в машиностроительный поступать буду, – делился планами Витька. В армию его не брали из-за неправильного обмена веществ, но как с троечным аттестатом он собирался в институт, Володя понять не мог.
– А я на юридический, – озабоченно говорил Погодин. – Если срежусь, меня тоже загребут.
– Какая у вас чудесная квартира! – не уставала восхищаться Фаина Григорьевна. Она была в мятом платье и старомодных пыльных туфлях. – И ванная своя, и туалет, и кухня... Мне такого никогда не дождаться!
– Скорей бы прошли эти два года! – пригорюнилась Лиза. – Да хоть бы в Афганистан не попал...
Генрих поиграл желваками.
– Надо было еще водки взять...
Розенблит и Погодин вышли на балкон, раздался смех, запахло табачным дымом, потом внизу со звоном разбилась о мостовую бутылка. Фильков вышел следом.
– Кто бросил? – спросил он таким тоном, что веселье на балконе мгновенно прекратилось.
– Я... – улыбка на лице Погодина стала напряженной.
– А зачем? – тем же тоном спросил Фильков.
Саша пожал плечами:
– Не знаю. Просто так...
– А ты не подумал, что ты уйдешь, а людям тут жить? – Фильков наставил на провинившегося заскорузлый палец.
– Действительно, не подумал...
– Так думай и больше так не делай! В одиннадцать гости стали расходиться. В коридоре Фильков поманил Вольфа за собой.
– Я прогуляюсь, – сказал Володя родителям и вслед за Фильковым выскочил на лестницу.
Сейчас, как ни странно, он испытывал к похожему на питекантропа парню дружеские чувства. Потому что, не считая родителей, только он проявил понимание к его, Вольфа, проблемам.
– Куда ты хочешь идти? – поинтересовался он. Фильков привычно сплюнул.
– К бабе, конечно. Ты ведь еще мальчик? Разве можно мальчиком в армию идти?
– Что за баба? – от неожиданности Володя даже не возразил, хотя в его планы на сегодняшний вечер подобные похождения не входили.
– Обыкновенная. Тебе же не жениться. Дырка есть – и ладно... Надо только бухла взять...
В скверике напротив госбанка у каменных львов толклись неряшливые старухи с большими сумками. Фильков купил за трояк поллитру самогона, вынув пробку, понюхал и, одобрительно кивнув, сделал большой глоток.
– Бр-р-р, хорошо забирает! Градусов семьдесят...
– Стаканчик одолжить? – торговка привычно сунула руку в сумку. – Всего двадцать копеек. Лучше, чем из горла...
– Не надо, мы здесь пить не будем, – Фильков закашлялся. – Ты лучше нам девочек найди.
– Какие тут девочки... Вино есть, первачок, стаканчик есть, бутылки пустые собираем. Вот и все дела.
– А ты на что?
Морщинистое лицо со слезящимися глазами и смотрящим в сторону носом никаких эмоций не выражало.
– А я бабка...
Фильков глотнул еще раз, снова закашлялся и повернулся к Вольфу.
– Слышь, а бабки долбятся?
– Пойдем, Филя! – Володя потащил приятеля в сторону. – Кажется, ты перебрал...
– Нормаль! Самогонка в голову ударила. Они туда табак кладут, известь подмешивают... Пошли на автобус – тут недалеко, да пешком не хочу: чтоб менты не повязали... Глотнуть хочешь для смелости?
– Не хочу. Давай, может, по домам?
– Ты что! Нас же бикса ждет! Так нельзя... Фильков еще раз приложился к бутылке, громко отрыгнул. Вольф подумал, что, если поднести спичку, изо рта у него вырвалось бы пламя.
– Ты же раньше не бухал...
– Еще как! Думаешь, я по трезвянке этому мудаку ножом в глаз заехал? Это после зоны завязал. Они ж на учет берут, могут обратно отправить. И бокс опять же... Григорьич сразу бы выгнал. Да и не попрыгаешь на ринге после буховки, и удара не будет...
– А теперь чего ж?
– Чего, чего... Менты про меня уже забыли, что хочу – то и делаю. И на фиг мне бокс? В чемпионы уже не пробьюсь, в тренеры тоже... Значит, бабки заколачивать перспектив нет... Григорьич, конечно, мужик хороший, но он мне не отец, не дядя... Уйду я от него!
Они приехали в район центрального рынка, в самое чрево Тиходонска, где вдоль трамвайной линии стояли древние, дореволюционной постройки дома. Вошли в пахнущий сортиром двор, поднялись по железной лестнице, Фильков кулаком постучал в обитую истлевшей клеенкой дверь. Из многочисленных прорех выбивалась наружу серая вата.
Лязгнула щеколда, повеяло нищетой и безысходностью. На пороге появилась женщина в халате, лица ее против света Вольф разглядеть не мог.
– Кто там, Надя? – донесся из глубины помещения надтреснутый старушечий голос. – Ты смотри, не вздумай уйти... У Пашки жар, может, «Скорую» звать придется...
– И чего они так поздно шастают! – возмутился другой старушечий голос. – Ни днем ни ночью покоя нет!
– Гони их в шею и закрой дверь! – крикнула первая старуха.
– А, это ты, Филек, – у женщины оказался низкий прокуренный голос. – Выпить принес?
– Ага, – Фильков достал из-за пазухи бутылку. – Тут такое дело, Надюха, друг завтра в армию уходит, надо ему дать.
– Если каждому давать, поломается кровать! Закусь есть? В квартире заплакал ребенок.
– Надо, Надюха, он еще ни разу не пробовал. А вдруг в Афган попадет? Убьют пацана, так и не узнает, что такое баба...
– Ладно, заходите! – женщина посторонилась. – Раз такое дело... Только у меня краски. Не испугается?
– Да ты что! У него очко железное!
Володя повернулся и побежал вниз по лестнице.