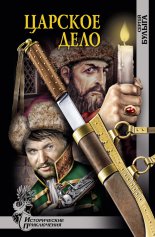Аэроплан для победителя Плещеева Дарья

Рижские полицейские уже неплохо говорили по-русски – а ведь еще двадцать лет назад им бы пришлось переводчика звать. Старый немецкий город долго сопротивлялся, долго отбивался, даже вся документация в магистрате и в полиции велась на немецком. Но настали новые времена, пришлось покориться.
Танюша, понимая, что уж ипподром-то с аэропланами точно не имеют отношения к убийству, отвечала, как все: спала, ничего не слышала. И фактов, которые пролили бы свет истины на это непонятное убийство, не знает.
Ей Регина фон Апфельблюм не нравилась – уж больно задирала нос. И потому у девушки было что-то вроде угрызений совести: вот ведь невзлюбили артисты гордячку, а ее и на свете больше нет; может, недодали ей хотя бы малость душевного тепла, хотя могли, могли, трудно, что ли, сыграть эту малость тепла?
А вот Стрельский огорчился не на шутку.
– Какая красивая женщина была… – вздыхал он. – В хороших руках ей бы цены не было…
Кокшаров пригласил инспектора рижской сыскной полиции Горнфельда к себе в комнату, открыл деревянный ящичек с сигарами, достал бутылку хорошего французского коньяка.
– Фрау Магда! Фрау Магда! – крикнул он хозяйке. – Сварите хороший крепкий кофе и не экономьте на зернах! Я ее знаю, она тайком высушивает единожды заваренный кофе и подмешивает его к свежемолотому.
– Похвальная экономия. Моя супруга тоже этой гадости научилась, – уныло ответил полицейский.
Горнфельд Кокшарову не очень нравился – скучный, всем на свете недовольный, чем-то похожий на артиста Лиодорова: тот тоже считал, что жизнь не состоялась, но Лиодоров мечтал совершить усилие, выгодно жениться и вырваться из актерского сословия; о чем мог мечтать Горнфельд, Кокшаров и вообразить не мог – разве что о более высоком чине, но ведь чин – дело житейское, рано или поздно начальство его даст.
Разговор предстоял неприятный – подозрения падали на труппу. О романе Сальтерна с Селецкой инспектор первым делом узнал – про него весь штранд знал. И Кокшарову стоило некоторого труда объяснить, что курортный роман с актеркой – дело пустяковое, это вроде непременной принадлежности летнего отдыха богатого человека, причем роман не предполагает обязательных постельных шалостей – часто артистки подарки-то берут, а расплачиваются за них тем, что позволяют возить себя по ресторанам.
– И ничего более? – удивился Горнфельд.
– Иному пожилому господину лишь хочется, чтобы его считали счастливым любовником, – терпеливо растолковывал Кокшаров. – Чтобы слух прошел о его амурных подвигах. Отчего ж не уважить щедрого господина?
Когда Горнфельд задал все свои вопросы, в комнату опять заглянула дачная хозяйка.
– Господин Кокшаров, к вам Шульц просится, пускать?
– О господи! – простонал Кокшаров. – Что они еще натворили?
– Кто натворил? – осведомился Горнфельд.
– Аяксы мои, будь они неладны! Мне уж перед Шульцем стыдно, ей-богу, – всякий раз что-то новое учудят!
– Кто такие Аяксы?
– Это два моих ходячих несчастья! – и Кокшаров вкратце рассказал, как был вынужден нанять двух совершенно незнакомых артистов. Потом впустили Шульца, и он, немного смутившись при виде рижского инспектора, доложил: Аяксы были найдены на берегу реки, Курляндской Аа, в том месте, где она впадает в залив, спящими под перевернутой лодкой. Нашли же их рыбаки, которые спозаранку обнаружили, что ограблена коптильня, и пошли по следу воров. Вместе с Аяксами были найдены корзинка с пустыми бутылками, рыбьи скелеты и шкурки от камбалы – то есть они стянули себе закуску.
– Выходит, господа Енисеев и Лабрюйер на даче не ночевали? – уточнил Горнфельд.
Кокшаров, которому и в голову не пришло назвать настоящие фамилии своих артистов, подтвердил: выходит, не ночевали; выходит, сразу после концерта отправились на поиски приключений, а где и что они пили – одному Богу ведомо.
Привезенные на ормане Аяксы заявили, что решили устроить пикник по английскому образцу: взяли корзину с бутылками, колбасок на закуску и ушли в дюны; шли, шли и устроились в очень милом местечке где-то между Бильдерингсхофом и устьем, там пили и пели, потом оказалось, что спиртное взяли в правильном количестве, а закуски – недостаточно…
При этом Енисеев держался так прямо и с таким достоинством, что ввел бы в заблуждение любого, не знакомого с нравами и повадками великосветских пьяниц. Лабрюйер же имел жалкий вид, отводил взгляд, отмалчивался, тер ладонью лоб, потом взялся растирать уши – некоторые полагают, что это способствует протрезвлению. Наконец он печально попросил Кокшарова о стопочке коньяка на опохмелку.
– Приличные люди не опохмеляются, – свысока бросил ему Енисеев.
– Зачем вы взяли в труппу этих господ? – спросил Горнфельд, с презрением глядя на Лабрюйера.
– Больше некого было. С господином Енисеевым буквально в последнюю минуту в Москве сговорились, а господина Лабрюйера нашел нам господин Маркус в Риге. А голоса у них хорошие, именно то, что требовалось. И публике их дуэт очень нравится. Вы полюбуйтесь на них – это же именно дуэт! Им довольно в обнимку выйти на сцену, чтобы публика рыдала от смеха.
– Понятно. Нижайшая просьба – никуда из Майоренхофа не уезжать, с репортерами поменьше разговаривать, – приказал Горнфельд.
– Да куда мы поедем?! Контракт! С неустойкой!
Репортеры уже торчали во дворе, фотографировали роковую беседку, налетели с вопросами на уходящего Горнфельда, но он только отмахнулся. Их, понятное дело, больше интересовало убийство, но и новое приключение двух Аяксов с воровством копченой камбалы тоже годилось. Кокшаров выставил своих пьянчужек и попросил позвать к себе Терскую. Нужно было вместе обсудить, какими неприятностями грозит труппе покойница.
Каким-то образом Енисеев улизнул со двора, оставив на расправу репортерам Лабрюйера. Тот, совсем разбитый после ночных подвигов, кое-как отбрехался и притащился к Кокшарову оправдываться и жаловаться.
– Ну вот как, как он, сукин сын, опять меня в историю втравил?! – восклицал Лабрюйер. – Как это могло произойти?
– Пить меньше надо, – хладнокровно отвечал Кокшаров. – Еще одна такая выходка – обоих прогоню к чертовой бабушке. И найму парочку Аяксов в Дуббельне – там этого добра хватает!
Как Эдинбург был штрандом русско-аристократическим, где знатные господа имели собственные особняки, как Бильдерингсхоф был штрандом немецким, как Майоренхоф был штрандом демократическим – там всякую публику можно было встретить – так Дуббельн был штрандом иудейским, хотя именно с этого поселка началась история здешнего штранда вообще и русские генералы после войны двенадцатого года там раны залечивали. В Дуббельне Маркус нанял подходящий оркестр для «Прекрасной Елены», а захотел бы – и певцов бы там же раздобыл, музыканты в Дуббельне водились хорошие и опытные.
– Воображаю этих Аяксов! – возмутился Лабрюйер. – С их парижским прононсом!
– Ваш не лучше! – отрубила Терская.
– Я убью этого верзилу, – пообещал Лабрюйер. – Он же видит, что мне просто нельзя пить, я теряю память и смысл… Видит! И тащит за собой!
– Ступайте и хоть немного поспите перед спектаклем, – велел Кокшаров. – Не отменять же его из-за этой печальной истории.
– История не печальная, а дурацкая, – возразил Лабрюйер. – Похищено восемь штук больших «бутов» – что тут печального? Мы заплатим рыбакам и за рыбу, и за то, что трубу коптильни сломали…
Тут только выяснилось, что Аякс-маленький еще не знает про убийство.
– Так вот для чего сюда Горнфельд притащился! – воскликнул Лабрюйер. – А я сразу и не сообразил! Послушайте, Горнфельд про меня… про нас с Енисеевым вопросов не задавал?
– Нет, ему и без вопросов все было ясно, – ехидно заметил Кокшаров.
Дивным образом похмелье оставило Лабрюйера. Он схватил стопку Кокшарова, где еще оставалось на два пальца коньяка, вылил в рот и выскочил из комнаты.
– Селецкую утешать побежал! – догадалась Терская. – Вот ведь герой-любовник!
– Лариса права, ее теперь по допросам затаскают, – Кокшаров вздохнул. – Но, с другой стороны, и это – реклама… Зинульчик, ты скажи дамам, чтобы в грязных капотах во двор не выскакивали, сюда сейчас все здешние бездельники понаедут – на беседку смотреть. И вообще – сидели бы они в комнатах и не высовывались, а то наговорят репортерам ерунды. Заметила, какой нехороший взгляд у этого Горнфельда? Он на бедного Лабрюйера так уставился – я думал, ткнет пальцем и рявкнет: «Убийца!»
– Он гадкий, – ответила Терская.
Лабрюйер первым делом побежал к колонке. Она была за дачей, на вымощенном брусчаткой, явно где-то уворованной, пятачке. Пользоваться насосом можно было двояко – либо повесить на специальный крюк ведро и уныло качать, пока не пойдет наконец из неведомых глубин вода, выскакивающая с брызгами и особенным подземным запахом, либо, выманив воду, после каждого движения насоса подскакивать к трубе, подставляя ладони и плеща себе в лицо. Умывшись таким причудливым способом, Лабрюйер пригладил волосы и действительно побежал искать Селецкую.
Он нашел ее во дворе дамской дачи, за цветником, посреди которого торчали стеклянные шары на палках. Там, за кустами шиповника, особого местного шиповника – белого и с очаровательным ароматом, – стояли два венских стула, и если сидеть пригнувшись – посторонний и не догадался бы, что между шиповником и забором находятся люди.
Это было место, нарочно устроенное для курильщиков. Фрау Лемберг, хозяйка дамской дачи, утверждала, что у нее от дыма делаются головные боли. Поблизости была калитка, соединявшая два двора, так что и мужчины могли спокойно проходить в этот укромный уголок.
Селецкая сидела с самым горестным видом и держала в опущенной руке листок – письмо в пару строчек. Все-таки она была прекрасной артисткой – и в настоящей беде, в истинном горе, неосознанно приняла изящную позу, наводившую на мысль о сломанной лилии.
– Сударыня, – собравшись с духом, сказал Лабрюйер, – если я чем-то могу быть полезен…
– Вот, – ответила Селецкая. – Вот, посмотрите. Он с ума сошел. Я не все поняла, правда… Переведите, прошу вас…
Лабрюйер взял письмо.
Сальтерн от расстройства чувств написал его по-немецки.
– «Дорогая Валентина, – прочитал Лабрюйер, сразу переводя на русский. – Я очень виноват перед вами. Я прошу меня простить. Возможно, мы больше никогда не встретимся. Я недостоин быть вашим мужем. Эту записку сожгите».
– Он сошел с ума, – повторила Селецкая. – Записку принес какой-то рыбак. Лабрюйер, я вас умоляю – пойдите в участок – ведь его привезли в участок, да? Чтобы он забрал тело бедной Регины, да? Пойдите, ради бога, скажите ему, что я должна его видеть!
– Да, я пойду, – хмуро ответил Лабрюйер. – Его сюда привести?
– Сюда? Боже мой… нет, конечно… я не знаю… нет, не сюда… вы просто скажите ему, что я должна его видеть!
– Хорошо.
Лабрюйер пошел прочь, но был остановлен. Селецкая, вскочив со стула, схватила его за руку.
– Скажите ему, что если он меня бросит, я – я не знаю, что я с собой сделаю! Генриэтта говорила, что всегда возит с собой цианистый калий – после одного случая! Я возьму у нее – скажите ему это!
– Прямо в участке?
Селецкая посмотрела на Лабрюйера так, словно у собрата по сцене вдруг вырос на голове кочан капусты. Ей казалось дико, что он пытается успокоить ее какими-то практическими соображениями.
– Простите меня, – сказала наконец она. – Я в отчаянии, и вам трудно это понять… Я должна сейчас быть рядом с ним, я должна знать, отчего он меня вдруг бросает! Как вы думаете – может, его уже выпустили из участка? Может, он уже мчится в Ригу? Вот что – давайте пойдем туда вместе, я подожду на улице!
– Боже мой, что вы говорите?
– Ох, да… я сама не знаю, что говорю…
Улица предназначена для того, чтобы дамы по ней ходили. Если же дама на улице стоит, пусть не одна, пусть вместе с подругой, с теткой, с бабушкой, с дедушкой, – тем самым она губит свою репутацию, потому что стоят на тротуарах только женщины известного поведения.
– Как же быть? – спросила Селецкая.
– Валентиночка, он сейчас очень взволнован и подавлен, – ответил Лабрюйер. – Он может наговорить вам глупостей. А мне – так тем более. Давайте лучше дадим ему немного времени, чтобы успокоиться. Пусть похоронит свою бедную сестрицу, пусть погрустит. Может быть, его совесть в чем-то нечиста перед ней, он уделял ей мало времени, обижал ее, почем нам знать? Лучше телефонировать ему дня через два после похорон.
– Да, кажется, вы правы, – подумав, сказала Селецкая. – Он действительно ее обижал – она была больна, а он все время ездил ко мне… да, это я понимаю… он способен тонко чувствовать… Боже мой, Лабрюйер, как хорошо вы это объяснили… Не оставляйте меня сейчас, прошу вас!
– Да уж не оставлю, – буркнул смущенный Лабрюйер. – Если позволите.
Как он случайно стал спасением для расстроенной Селецкой, так сама она могла стать теперь его спасением и не позволить ему поддаться на провокации Енисеева.
Труппа показала себя наилучшим образом – все старались поддержать Селецкую, а когда Савелий Водолеев брякнул что-то циническое, на него не только дамы, но и мужчины напустились с руганью.
Енисеев, полностью оправдывая репутацию московского шалопая, привез чуть ли не полпуда пирожных и печенья из дорогой кондитерской Отто Шварца, присовокупив к угощению пару бутылок местного кофейного ликера «Мокко» – тоже не дешевое удовольствие. Все это он в кульках, коробочках и корзиночках приволок на веранду дамской дачи, чтобы после концерта устроить легкий ужин.
Должно быть, аромат белого шиповника сыграл особую роль – когда образовалась пауза, Енисеев вдруг запел. Голос у него был прекрасный, звучный, поставленный, но сейчас он не дал воли этому голосу, способному заполнить собой кубическую версту пространства, не меньше; он пел тихо, словно бы для одного себя:
- – Льет жемчужный свет луна,
- В лагуну смотрят звезды.
- Ночь дыханьем роз полна,
- Мечтам любви верна…
– Баркарола… – прошептала Селецкая. А Лабрюйер промолчал.
Он не раз слышал эту «Баркаролу» Оффенбаха – дамы любят исполнять ее дуэтом и даже трио, если найдется добрая душа и хорошо составит им это трио. Но только слышал – по-французски. И русский перевод не очень соответствовал – в оригинале баркарола начиналась так: «Ночь-краса, о, ночь любви…»
Енисеев пел про жизнь, которая промчится, как волна, и что останется – только эта ночь, поселившись в душе, только звезды, что, сорвавшись с неба, все летят, летят к воде и никак не могут упасть – пока ты жив…
– Боже мой, – сказала Селецкая, когда отзвучала баркарола и нужно было прервать затянувшееся молчание. – И вы тоже?..
– Да, – ответил Енисеев. – Ее невозможно не любить. Если я когда-нибудь встречу женщину… Я спою ей это и посмотрю – поймет ли она?
– Да, да… Пусть так и будет…
Селецкая была удивительно взволнована баркаролой, и Лабрюйер даже встревожился – не расплакалась бы. И точно – у нее на глазах выступили слезы, но она улыбалась.
– Может быть, и я когда-нибудь… – прошептала она.
– Но по-французски, – посоветовал Енисеев. – Непременно по-французски. По-русски будет уже не то.
– Петь я буду по-русски, а думать – по-французски, – сразу ответила она, и очарование баркаролы, владевшее душой Лабрюйера, вмиг пропало.
– А чувствовать – по-немецки, – заметил Водолеев. – Это же не настоящая баркарола, а что-то такое, вроде «берлинера» в сахарной глазури и полным брюшком малинового варенья, сладенькое и сентиментальненькое.
Лабрюйер нахмурился – ему стало немного стыдно, что он, взрослый человек, немало испытавший, все еще клюет на сентиментальную наживку.
– И что же? – спросил Енисеев. – Отчего человек не имеет права слушать сентиментальные песни? Я в Москве бывал в обществе старых боевых генералов – они в восторге от Оффенбаховой «Баркаролы». Мне даже кажется, что сильный духом человек может позволить себе все что угодно – и «берлинеры» обожать также. А слабый непременно должен корчить из себя сильного, понятия не имея, что это за зверь такой.
Отповедь Савелию не понравилась, но дамы ей зааплодировали – и он промолчал. А Лабрюйер посмотрел на своего демона-искусителя с любопытством. Впрочем, любопытства хватило ненадолго, и утром он уже не помнил об этом.
Три дня после убийства Сальтерн не появлялся. Полиция тоже оставила кокшаровскую труппу в покое. Танюша со дня на день откладывала ночную вылазку – ей было страх как жаль Селецкую, и она вместе с Терской старалась проводить с ней все время после концертов и спектаклей – а спать ложились за полночь.
На четвертый день к Кокшарову приехал из Риги инспектор сыскной полиции Горнфельд.
– Я хотел бы решить этот вопрос конфиденциально, – сказал он казенным голосом. – Поднимать шум не в моих правилах.
Но Кокшаров, сам неплохой актер, да еще предводитель целой банды разнообразных дарований, уловил в голосе фальшь.
– Чем могу служить? – осведомился он.
– Велите позвать ко мне госпожу Селецкую.
– Сейчас…
– И пусть она возьмет с собой все необходимое.
– Что – необходимое?
– Мыло, гребешок, смену белья, – заунывно принялся перечислять Горнфельд. – Зубную щетку и порошок, теплый халат, платок на голову…
– Помилуйте, для чего ей теплый халат?
– Для того, что я забираю ее с собой на… – инспектор задумался. – Допустим, на неопределенный срок.
– Господин Горнфельд, я с уважением отношусь к полиции вообще и к сыскной в особенности, – с пафосом произнес Кокшаров, – но для чего вам мои артистки? Женщины, которые не сделали вам ничего дурного? Угощайтесь сигарой.
– Благодарю. Ничего против госпож актрис не имею, – сказал Горнфельд. – Да вот какое дело – открылись новые обстоятельства. Покойная фрау Апфельблюм герру фон Сальтерну вовсе не сестра.
– А кто ж?
– Супруга, господин Кокшаров, супруга. Это уж многие подозревали, и вот оно открылось – когда телеграфировали родственникам покойной. Сальтерн, видите ли, вдовец, женился смолоду на очень богатой даме старше себя и вряд ли был хорошим мужем. А она решила его проучить – в завещании написала, что имущество ее он получит только в том случае, ежели ни с кем себя более не свяжет брачными узами. Как вступит в брак – так наследство переходит к дальнему родственнику, обремененному семейством. Такое вот загробное мщение, господа. У Сальтерна доподлинно была сестра по имени Регина, но она с мужем уж лет десять как в Америке. А еще у него была подруга юных лет, которую он покинул, чтобы жениться на богатой даме. Она замуж так и не вышла, хотела соблюдать верность, невзирая на такое предательство. А Сальтерн, овдовев, отыскал ее и тайно на ней повенчался. И привез ее в Ригу под именем сестры своей. Как видите, все очень просто.
– Но какое отношение это имеет к госпоже Селецкой? – уже подсознательно понимая правду, спросил Кокшаров.
– А такое, что убивать сестру своего любовника ей незачем. А освободить любовника от постылой тайной жены, чтобы самой вступить с ним в брак…
Тут ровный тон полицейского инспектора переменился – в голосе зазвучало тайное торжество. Но Кокшарову было не до психологических изысканий.
– О господи…
– Это вы правильно подметить изволили.
Кокшаров задумался.
– Это не довод, – сказал он. – Актрисы слишком часто изображают бурные страсти на сцене, чтобы испытывать их в жизни. И слишком часто размахивают бутафорскими кинжалами – им оружие и в трагедиях надоело. Если они при вас заламывают руки, брызжут слезами, рвут в клочья кружевные платочки и клянутся жестоко отомстить – это чистейшее актерское мастерство, и это все, на что они способны. Я их не первый год знаю…
– Но ведь фон Сальтерн ухаживал за госпожой Селецкой?
– Ну и что? Между прочим, раз уж он так хотел на ней жениться, то он и убрал с дороги покойницу. Это ведь логично?
– Логично, – согласился Горнфельд. – Но, как вы полагаете, каким способом он бы это проделал?
– В этих способах я не знаток.
– Зато я уже знаток… Жену могут удавить, а труп вывезти и утопить в болоте, благо болотами здешние места богаты. Жену могут сгоряча пристрелить. Могут ткнуть ножом. Один флегматичный господин год назад нанес супруге одиннадцать ударов малахитовым пресс-папье по голове. Очень деловито, знаете ли, бил…
– Ну и что? – повторил свой постоянный вопрос Кокшаров.
– Отчего бы вам не спросить, как была убита фрау Сальтерн? Думаете, ей всадили нож в сердце?
– Так говорили… Разве нет?
– Хорошо, я сразу скажу: ее закололи шляпной булавкой. Знаете эти длинные булавки, которые уже немало господ и дам оставили одноглазыми? Стальной острый штырь, на котором крепится головка, опаснейшее оружие, если знать, куда бить. Но и случайно можно попасть в нужное место. Госпоже Селецкой удалось. А вы, обнаружив труп, не увидели головку булавки под шалью, да и никто не заметил, пока тело не оказалось на столе в прозекторской.
– Но почему именно ей? Мало ли дам могли иметь виды на Сальтерна?
– Наши агенты получили эту булавку, когда доктор вынул ее из тела покойницы, и пошли с ней по лавкам. Поиски заняли ровно час. Булавка – работы рижского ювелира Моисея Рехумовского. Он сдает свои произведения в лавку мадам Арнольд. Рехумовский показал, что сделал всего одну такую булавку – у него были два одинаковых хорошо отшлифованных небольших аметиста, только два, и он додумался сделать из них крылышки золотой мухи.
– Мухи? – кокшаровская память выкинула из закромов два лиловых пятнышка.
– Да, сударь. Мы спросили приказчика мадам Арнольд, и он показал – в лавку приходили четыре дамы, подняли много шума, нарочито толковали о театре, в котором служат. Они приходили дважды и оба раза набирали много товара. Приказчик запомнил, что они искали диадемку для некой Елены в древнем греческом вкусе, но диадемки не было. А один из наших агентов имеет осведомителя в театральных кругах. Тот и навел на мысль, что дамы – из труппы господина Кокшарова. Вчера агенты приводили приказчика на ваше представление, и он опознал госпожу Селецкую – именно она взяла булавку с мухой…
– Ч-черт… Но она не могла убить! Не могла, понимаете? Булавку у нее похитили!
– И какой же потомственный кретин, смею спросить, станет похищать булавку, чтобы при ее посредстве совершить убийство? Когда столько иных способов, а этот совершенно ненадежен?
– Такой, которому нужно отвлечь от себя подозрение и подставить под удар постороннее лицо!
– Мы опросили всех знакомцев Сальтерна. У него не было другой дамы сердца, кроме мнимой сестрицы, – может, иногда захаживал в известные заведения, может, говорил дамам комплименты, не более того. А в госпожу Селецкую он, судя по всему, не на шутку влюбился, и она ответила ему взаимностью. Чего ж не ответить – он мужчина видный и, как это по-русски? Жених завидный. Для такого можно и потрудиться, – неприятным голосом сказал Горнфельд. – А у мнимой фрау Апфельблюм врагов в Риге не было – напротив, все ее любили…
– А из ее прошлой жизни? До той поры, когда она приехала сюда в качестве сестры Сальтерна?
– До той поры она была смиренной девицей и готовилась честно нести звание старой девы. Очевидно, вы не знаете нравов в небольших германских городках. Там очень – очень! – пекутся о репутации. Господин Кокшаров, я вам соболезную, но с Селецкой вам придется расстаться.
Глава девятая
Лабрюйер и Енисеев были вызваны в полицейский участок по делу о покраже «бутов» из коптильни и злоумышленном повреждении трубы оной. Убытки они компенсировали, о том же, для чего поломали трубу, ничего сказать не могли, поскольку сами не знали.
– Угомонитесь, господа, – сказали им.
– Мы угомонимся, – хором ответили Аяксы. И отправились на дачу, по дороге выясняя отношения.
– Господин Енисеев, – сердито говорил Лабрюйер. – Простите, не знаю настоящего вашего имени. Я прошу вас прекратить втравливать меня во всякие дурацкие истории.
– Вас никто не втравливает, господин Лабрюйер, – возражал Енисеев. – Вы сами плететесь за мной, как привязанный, и мне приходится еще следить, чтобы вы не потерялись.
Вся труппа уже отметила: Енисеев может при необходимости быть изумительно высокомерен.
– Вам приходится еще следить, не торчит ли где труба от коптильни!
– Мне приходится еще подсаживать тех, кому непременно нужно сломать трубу!
За то время, что Аяксы отсутствовали, Горнфельд увез Селецкую.
На дамской даче царило трагическое уныние: Танюша плакала, Терская ругалась, Эстергази с горя пила мадеру и рассказывала об Акатуйских рудниках, где трудятся каторжане (откуда знала каторжные нравы – бог весть). Генриэтта Полидоро, которая, как выяснилось, очень полюбила Селецкую, грозилась дойти до самого государя императора:
– У меня в столице связи! Я с Малечкой Кшесинской знакома! С самой Кшесинской! Вы что, не знаете, в каких она была отношениях с государем? Не знаете?! Боже мой, куда я попала?!
Горнфельд изложил очень связную версию событий: Регина фон Апфельблюм (на самом деле – Доротея-Марта фон Сальтерн) приехала, чтобы попробовать договориться с Селецкой, пообещать ей денег, лишь бы актерка отстала от Сальтерна; разговор вышел злобный, и Селецкая не сдержалась. Это произошло ночью – выманить Селецкую во двор было нетрудно, она спала у открытого окна, делить Сальтерна пошли в беседку, и актриса накинула на себя поверх ночной сорочки свой серый шелковый сак, широкий и длинный, а на голову надела шляпу по той простой причине, что приличная женщина простоволосой из дому не выходит. В шляпе же торчала злосчастная булавка.
Естественно, Селецкая плакала и кричала, что невиновна, отказывалась собирать нужные в заключении вещи. Но это ей не помогло. Узелок с какими-то кофточками, платочками и сорочками увязала не потерявшая присутствия духа Терская. Туда же она вывалила половину добра из дорожного несессера Селецкой.
– Чертова булавка! – сказал, узнав печальную новость, Енисеев. – И ведь как нарочно создана для смертоубийства. Это же не булавка, а целый эспадрон. Ею фехтовать можно! Она же длиной в пол-аршина!
Если артист и преувеличил, то ненамного.
Лабрюйер, узнав у дам подробности, ушел в цветник, за кусты, и сел на один из венских стульев. Просидел он там не меньше часа. А когда выбрался – обнаружил во дворе мужской дачи военный совет. Пришли и дамы. Нужно было вводить Танюшу на роль Ореста, а Эстергази – на роль гетеры Леоны. Это требовало по меньшей мере двух репетиций – под фортепиано (сойдет и скрипка) и под оркестр. Стрельский, представив, каково он будет выглядеть в объятиях Эстергази, пришел в ужас и умолял сделать второй гетерой кого-нибудь другого – ну хоть Алешку Николева, так будет даже забавнее. Кокшаров от этой выдумки схватился за голову и объяснил, что здешние бюргеры таких шуток не понимают – того гляди, влепят штраф за оскорбление общественной нравственности. Гетера мужского пола – существо, которое вызовет протест: пусть в Петербурге этакие гетеры и шуточки по их поводу в моде, а Рига все еще благопристойна, такой и останется.
– Дамам в кавалеров рядиться – это их нравственность любит! – загремел бывалый трагик Стрельский. – А наоборот – так уж и безнравственность!
– У дам ножки, – объяснил Кокшаров.
– Пусть первым бросит в меня камень тот, кто считает, будто это – не ножки! – Стрельский указал на ботинки Николева. Размер соответствовал немалому росту бывшего гимназиста.
– Пока найдем сапожника, который сделает Николеву античные сандалии, сезон кончится!
Лабрюйер молчал. В сущности, его этот спор не касался. И ему было все равно, кого поставят изображать гетеру Леону. Он так же молча, как пришел, удалился. Многое следовало обдумать.
Старик Стрельский нашел его за шиповником, на венском стуле.
– Очень удобное место, чтобы покурить в тишине, – сказал он, добывая из кармана серебряный портсигар. – Угощайтесь.
– Благодарю. Не хочется.
– Молодой человек, – произнес Стрельский каким-то не своим, отлично поставленным и громоподобным голосом, а тихим и тусклым. – Вы думаете, как можно помочь бедной Валентиночке. Послушайте доброго совета – это вопрос денег, постарайтесь собрать деньги на адвоката. Мы артисты, и наше место – в буфете…
Эту старую шутку он не окрасил непобедимой артистической гордостью, она прозвучала скорее жалобно.
– …но мы не бросаем своих в беде. Мы можем скинуться на адвоката. Ничего с дамами не сделается, если каждая откажется от одной брошечки или одной проклятой шляпной булавки. Вон у Эстергази уже целый сундук побрякушек, и хотел бы я знать…
– У Эстергази брать нельзя, – ответил Лабрюйер. – Во всяком случае, из тех побрякушек, которые прислал неведомый поклонник.
– Почему же? А! Я понял! – Стрельский снова перешел на актерский голос. – Эти подарки – ловушка! Тот, кто их посылает, однажды потребует расплаты! И очень может быть, что все это золото с камушками Ларисе придется швырнуть ему в рожу! Боже, какой роскошный жест! Послушайте, это где-то уже было? В какой-нибудь старой пьесе?
Лабрюйер невольно улыбнулся.
– Давайте начнем с меня, – предложил Стрельский. – Вот портсигар, держите, я только папироски выну. Вещица недорогая, серебряная, но важно сделать почин. Да держите же!
– Нет, – ответил Лабрюйер.
– Серебро для вас слишком дешево? – спросил, словно вырастая из кустов, Енисеев. – Господа, я тоже хотел спокойно покурить и невольно вас подслушал. Вы, Стрельский, отличный товарищ. Я тоже внесу вклад…
И Енисеев снял с пальца золотой перстень-печатку с тусклой и неразличимой, но, похоже, старинной и дорогой сердоликовой геммой.
– Это ценная вещица, – заметил Стрельский. – Подарок прелестницы или фамильная роскошь?
– Выиграл в карты у одного балбеса. Думаю, вещица, которая пришла незаслуженно, вряд ли принесет удачу. А это для нее – лучшее употребление, – беззаботно сказал Енисеев.
– Вам зачтется, – пообещал Стрельский. – Лабрюйер, берите перстень. Вот уже начало положено. Потом съездим в Ригу, и коли не удастся продать – сдадим это добро в ломбард и забудем выкупить. Вы ведь знаете, где в Риге хорошие ломбарды?
Но Лабрюйер не протянул руки, вместо него перстень взял Стрельский.
– Знаю. Но пока мы строим прожекты – она в тюрьме. Ее нужно как можно скорее вызволить… – Лабрюйер насупился. – Я поеду к Сальтерну.
– Не делайте этого, – строго сказал Енисеев. – Сальтерн сейчас в аховом положении. Его тайна открылась, он может быть сочтен сообщником Селецкой.
– Как?! – изумился Стрельский.
– А так – может, он должен был забрать из беседки труп. Ведь Селецкая, заколов фрау Сальтерн…
– Это не она, – перебил Лабрюйер.
– Теоретически! Она некоторое время была в ужасе от собственной прыти, – преспокойно продолжал Енисеев, – а потом должна была что-то предпринять. На даче господина Кокшарова есть телефон, она могла прокрасться туда, телефонировать Сальтерну и попросить его спрятать тело. Только уверенная в помощи Сальтерна, она могла вернуться в свою комнату, а не пытаться самостоятельно утащить труп ну хоть в смородинные кусты. Почему Сальтерн этого не сделал – пусть докапывается сыскная полиция.
Стрельский, слушая, разглядывал гемму.
– Хорошо у вас в Москве играют, не по маленькой, – заметил он.
– Вы, Стрельский, пытаетесь понять, откуда я взялся на ваши головы, – хладнокровно ответил Енисеев. – Я обычный московский бездельник – как сказал всем с самого начала. Воспитан богатой маменькой в том понимании, что можно всю жизнь пропеть и проплясать для собственного удовольствия. В гвардию служить не пошел из-за слабого здоровья. Это чистая правда, доктора нашли у меня что-то непотребное в легких и в костях, точнее, в костной ткани. Говорят – нужно себя беречь, всякое падение грозит страшными переломами. Вот я и берегу себя. Служил по финансовой части, в банке, скучно это… Доходы позволяют обойтись без этой тягомотины. Увлекся вдруг театром, играл в домашних спектаклях, приятельствовал с актерами, один такой верный друг и сосватал меня господину Кокшарову. Я подумал – отчего бы не провести сезон на Рижском штранде? Все веселее, чем киснуть в Москве. Да еще должность Аякса. Моя истинная болезнь – скука, господа, всеобъемлющая и глобальная скука. «Прекрасная Елена» меня порядком развлекает.
– Так вы могли бы и побольше дать на спасение Селецкой? – осведомился старый актер.
– Мог бы, пожалуй. Давайте-ка соберите в труппе, сколько возможно, и найдите адвоката. Когда станет ясно, во сколько все это обойдется, я, пожалуй, добавлю недостающее.
Сказано это было уж слишком свысока.
– Не нужно адвоката. Я эту братию знаю – он три шкуры с нас сдерет, чтобы в итоге внушить суду, будто Селецкая убила соперницу в состоянии помешательства и заслуживает легкого наказания. А она не убивала, – заявил Лабрюйер.
– Вы беретесь это доказать? – ухмыльнулся Енисеев.
Ответ последовал не скоро. Лабрюйер смотрел на носки своих светлых летних туфель. Что-то его сильно беспокоило, он кривил рот и кусал губы. Стрельский с большим любопытством наблюдал за его мимическими экзерсисами.
– Если Селецкая не убила эту проклятую немку, значит, ее убил кто-то другой, – вдруг сказал Лабрюйер.
– Сложное умозаключение, – усмехнулся Стрельский. – Весьма!
– Он прав, тут уж не поспоришь, – такой же ехидной усмешкой ответил старику Енисеев.
– Будем мы исходить из того, что Селецкая невиновна? – сердито спросил Лабрюйер. – Или смиримся с тем, что ее назначили убийцей? Я, между прочим, ничего от вас не прошу и никакой вашей помощи не ожидаю. Вы свободны, господа. А я займусь делом…
– До ближайшей возможности приложиться к бутылке кюммеля, – заметил Стрельский. При необходимости он мог изобразить и суровый тон. – Господа, я предлагаю не валять дурака поодиночке, а в складчину нанять для Валентиночки адвоката. Это самое разумное, что мы можем сделать. Остальное чревато склокой с полицией, а она нам вовсе не нужна.
Стрельский имел в виду, что самостоятельное расследование этого дела привлечет внимание сыскной полиции и будет прервано самыми жесткими мерами.
– Нет, – отвечал Лабрюйер. И Енисеев очень внимательно посмотрел на него.
В самом деле, до сих пор собрат Аякс во всех подвигах шел у него на поводу, время от времени комически возмущаясь результатом; Лабрюйер, например, не мог понять, как вышло, что он ночью оказался в купальне, одетый в дамский плавательный саржевый костюм с ленточками и кружевными оторочками. Но, оказывается, этот пьянчужка умел сказать «нет».
– Молодые люди, без адвоката не обойтись, – настаивал Стрельский.
– Это будет рижский адвокат. Вы не знаете рижан – он попытается защитить Селецкую, но всей душой будет против нее, и у него ничего не получится, только вместо десяти лет каторги добьется пяти. Она здесь – чужая, а чужих рижские бюргеры не любят, – объяснил Лабрюйер. – Самое разумное, что мы можем сделать, – это собрать доказательства невиновности Селецкой. Нужны серьезные доказательства, чтобы противопоставить их орудию убийства и веской причине.
– Я понятия не имею, где такие доказательства берут, – сказал Енисеев. – И если мы начнем сейчас их искать и приставать с расспросами к чужим людям, это добром не кончится. Мы даже можем ненароком причинить большой вред Селецкой. Ну как выяснится, что ее до убийства встречали с покойницей и что она покойнице угрожала?
– Как? Госпожа Селецкая по-немецки знает очень мало, а покойница приехала из какой-то германской глуши и по-русски была – ни в зуб ногой!
– Угроза не обязательно должна быть словесная. Прости, брат Аякс, но я в эту авантюру не полезу, – четко сказал Енисеев. – Из самых разумных соображений.
– А я полезу.
С тем Лабрюйер и ушел.
– Вот ведь дурак, – буркнул Енисеев.