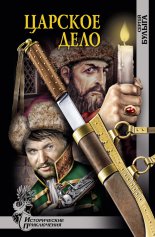Аэроплан для победителя Плещеева Дарья

– Я с вами в сумасшедший дом попаду, – ответил Кокшаров.
– Ты уже в сумасшедшем доме, – утешил его Стрельский. – Ибо что есть театральная антреприза? Сборище безумцев, полагающих, будто они, вырядясь в пестрые тряпки и завывая загробными голосами, покорят мир… Вот что, Иван, раз уж «Елена» имеет такой успех, не попробовать ли в будущем сезоне еще что-нибудь из Оффенбаха? Хотя бы «Званый ужин с итальянцами»? Очаровательная пародия. Придется, правда, набрать полдюжины статистов, но Зиночка в роли Эрнестины будет просто божественна. А я, так и быть, сыграю Шуфлери…
Терская стояла тут же и наградила Стрельского улыбкой.
– Кое-что из Оффенбаха можно и в этом сезоне включить в концерт. Наш дирижер показал мне ноты чудной «Баркаролы» из «Сказок Гофмана», – сказала она.
– Чур меня, чур! – закричал Стрельский и даже осенился крестом. – Ничего из этой оперы исполнять нельзя! Это – к беде! К пожару!
– Точно, – согласился, вспомнив, Кокшаров. – Из-за этих «Сказок» театр в Вене сгорел. Опера с дурной репутацией.
– А дирижер Фельдман сказал, что ее после того наперекор всему поставили в Монте-Карло, и с большим успехом! – возразила Терская. – Но ведь мы всю оперу ставить не будем, это разве Мариинке под силу. А «Баркарола»… Пойдем, я сыграю на пианино и напою…
Пианино было на дамской даче, взятое напрокат. Терская, уверенная, что мужчины покорно устремятся за ней, не оборачиваясь, поспешила к калитке, выскочила на Морскую и увидела выходящую со двора дамской дачи Танюшу.
– А ты куда, душа моя, собралась? – спросила Терская.
– Прогуляться по пляжу. Вот и зонтик…
– С Николевым?
Тут Танюша струхнула. Терская могла, заподозрив роман с Алешей, начать слежку, венчание было под угрозой. Николев действительно был, с ее точки зрения, неподходящим женихом и даже обожателем, увлеченная им девушка могла оттолкнуть поклонников более подходящих. Танюша все эти хитросплетения интрижек уже знала, понимала она также, что Терская возлагает на нее большие надежды.
– Да нет же, какой Николев? – тут Танюша увидела выходящего из-за угла Лабрюйера. – Мы с господином Лабрюйером хотели пройтись. Вот и он!
– На что тебе? – удивилась Терская.
– А он много интересного рассказывает про Ригу и про штранд, он ведь здешний. И мы иногда по-немецки говорим, ты же знаешь, у меня немецкий – совсем швах, а он поправляет.
– Что-то я не замечала, чтобы вы вместе прогуливались и по-немецки говорили…
Танюша, игнорируя это разумное замечание, кинулась к Лабрюйеру:
– Господин Лабрюйер! Ну наконец-то!
Незаметно для Терской она сжала его руку и продолжала с великолепным азартом:
– Когда в прошлый раз вы мне Шиллера читали, я потом даже нашу хозяйку спрашивала, где в Майоренхофе или в Бильдерингсхофе библиотека. Хотела взять Шиллера на немецком. Так ведь разве она знает? Господин Лабрюйер, пойдем, поищем библиотеку!
Рукопожатие Танюши было более чем выразительным – она впивалась в кисть собеседника ногтями, не больно, но со смыслом: выручай, пропадаю!
– Простите, мадмуазель Оленина, что задержался, – сказал Лабрюйер. – А в библиотеку я вас отведу. Без Шиллера не останетесь.
Терская с подозрением посмотрела на новоявленных любителей германской поэзии. Но Лабрюйер менее всего был похож на совратителя и донжуана. К тому же, как знала вся труппа, он влюбился в Валентиночку Селецкую и не имел ни малейшей надежды на взаимность.
– Вы ведь не возражаете? – спросил Терскую Лабрюйер.
Она окинула его взором – невысокий круглолицый рыжеватый крепыш, не из той породы, которую окрестили «девичья погибель», и природного артистизма в нем мало, только звучный голос, на который и клюнул Маркус. Такие мужчины, по мнению Терской, не умея ухаживать за дамами, бродят в холостяках годов до сорока пяти, а потом окрестные кумушки ухитряются сосватать их с безнадежными старыми девами или вдовами, имеющими по шестеро детей от первых мужей. Хотя вон Савелий Водолеев – того же типа мужчина, а вниманием не обделен, потому что умеет предлагать себя куда шустрее записных красавцев и щеголей.
– С чего бы мне возражать? – тоном вышколенной светской дамы сказала Терская.
И Лабрюйер, предложив согнутую в локте руку Танюше, увел ее в сторону моря.
Первые полсотни шагов они шли молча, потом девушка заговорила:
– Вы не представляете, как я вам благодарна!
– Рад помочь прелестному созданию. Моя роль сыграна?
– Ой, блистательно сыграна! Вы замечательный! Я так боялась, что вы не поймете!
Танюша не была слишком высокого мнения о Лабрюйере. В кокшаровской труппе, как во всякой другой, существовала своя табель о рангах, в ней героем-любовником и на сцене, и в жизни был Славский, второе место держал Лиодоров, очень стремившийся возвыситься – для этого он завивал волосы, пудрился ради роковой бледности и всячески придавал себе сходство со знаменитым поэтом Блоком. Третье место Танюша отдала бы усатому Енисееву, если бы не его странные поступки и высокомерие. Задавак девушка страсть как не любила. Четвертое – Кокшарову, Иван Данилович был, как говорили артистки, интересным мужчиной. Потом шел бы Стрельский, невзирая на преклонные годы, потом уж Водолеев. И на последнем месте у Танюши, да у остальных артисток тоже, стоял Лабрюйер. Дело было даже не во внешности – он оказался в труппе еще более чужим, чем Енисеев. Тот все-таки был прирожденным, хотя и плохо обученным, артистом. А Лабрюйер артистом не был вообще – он только пел, и Танюша это прекрасно понимала.
– Как видите, понял, – ответил ей Лабрюйер. – Куда вас проводить?
– Меня?
– Вас же ждет кто-то… или нет?..
Танюша задумалась, глядя на Лабрюйера. Чувства, которое она сейчас испытывала, ни в одном психологическом учебнике, пожалуй, не нашлось бы: благодарность пополам с жалостью. Да, ей вдруг стало жаль бедного пьяницу, который прибился к труппе лишь потому, что Маркусу лень было искать более подходящую персону.
– А вы знаете, господин Лабрюйер, что ваш Енисеев вас обманывает? – вдруг спросила Танюша.
– Как – обманывает? – Лабрюйер совершенно не ожидал такого ответа на свой галантный вопрос, а разгадать Танюшину логику даже опытному Стрельскому было бы мудрено.
– Ей-богу, обманывает! Дайте слово, что никому не проболтаетесь!
– Даю слово! – тут же ответил заинтригованный Лабрюйер. – И нарушу его только с вашего позволения, мадмуазель Оленина.
– Понимаете, господин Лабрюйер, я страстно желаю летать, как Зверева, как баронесса де Ларош, как княжна Шаховская! Я сплю и вижу, как лечу!
– В ваши годы это естественно, – со вздохом сказал Лабрюйер.
– Да нет же, не просто лечу, как маленькая, когда без всяких крыльев, я на «фармане» лечу! Так вот… только Терской не говорите, она скандал закатит!
– Я же обещал.
– Я недавно решила приехать на ипподром с самого утра, чтобы посмотреть, как Зверева летает на рассвете, когда нет публики. Ну а первый поезд идет слишком поздно. Я вечером села на велосипед и поехала в Солитюд. Я взяла с собой одеяло, воду в бутылке, хлеб с маслом, я очень хорошо собралась. А переночевать я решила в сенном сарае – ведь где конюшни, там и сенной сарай.
– Отчаянная вы девушка.
– Да! А что делать, если хочется летать? Ну так вот – ночью на ипподроме я видела Енисеева.
– Ничего себе! – изумился Лабрюйер. – Что он там забыл?
– Я не знаю, что он там забыл, – серьезно ответила Танюша. – И я даже не была уверена, что это он, хотя его усы с другими не спутаешь. Там есть еще наездник, фон Эрлих, тоже высокий. А потом, когда я вернулась, в то же утро пришел полицейский и рассказал, что вы с Енисеевым ночью рыбу воровали и коптильню поломали. Ну, я и подумала, что раз вы опять всю ночь, как два Аякса… ну…
– Да говорите уж прямо, Тамарочка: пьянствовали, и не как два Аякса, а как две свиньи.
– Мерси, мсье Лабрюйер. Ну, значит, я подумала, что нельзя же одновременно громить коптильню и прятаться на ипподроме, ночь же, извозчика не поймать, чтобы доехать, а расстояние там, наверно, верст больше десяти. А потом, буквально пару дней назад, мы с Николевым решили утром пойти в церковь, к самому началу службы, исповедаться и причаститься. Надо же, а то живем тут, как нехристи, лоб перекрестить забываем!
– Это точно, – немного удивленный страстью в Танюшином голосе, согласился Лабрюйер.
– Я стояла у калитки дамской дачи. Было очень рано, еще даже молочница не приходила, на Морской улице – ни души. И тут слышу – велосипед едет. Я встала за акацию – мало ли кто там, а я на улице одна, а Николев за тужуркой побежал…
И Танюша подробно рассказала, как приехал пассажиром на велосипеде Енисеев и как он правдоподобно изобразил пьяного – до такой степени, что лег спать на клумбу с ноготками.
– Вот я и подумала – раз он для чего-то прикидывается пьяным, и у него есть товарищ с велосипедом, то, может, там, на ипподроме, все-таки был он. То есть он с вами пошалил, коптильню поломал, а потом уложил вас под лодку, а товарищ на велосипеде его забрал.
– Ясно…
– А мне вот не ясно – зачем он это делает? Так что я вас предупредила, господин Лабрюйер. У нас в театре есть такое слово – «ширма». Это человек, которым прикрываются. Скажем, актриса выходит замуж за кого-то ради приличия, чтобы потом продолжать роман с покровителем, так этот муж – «ширма». Вот я и думаю, что вы для Енисеева – тоже «ширма». Все же знают, что вы вместе гуляете по штранду и…
– Шатаемся по штранду, как две пьяные свиньи, и безобразничаем?
– Ну, я примерно это хотела сказать…
Лабрюйер молчал довольно долго. Танюша смотрела на него сперва с недоумением, потом с тревогой: это была как раз та пауза, которую на сцене выдерживает актер, чтобы показать, что его герой под гнетом обстоятельств теряет рассудок.
– Знаете, Тамарочка, – произнес Лабрюйер, – устами младенца… Меня многие пытались отвадить от пьянства – и нужно было, чтобы пришла такая милая девушка, чтобы она сказала: старый дурак, из тебя сделали игрушку, а ты и доволен!
– Я так не говорила!
– Тамарочка, я очень редко прошу о помощи. А вас попрошу.
– Но тогда и я вас попрошу! – воскликнула Танюша.
– Можете на меня рассчитывать. Так вот – наблюдайте за Енисеевым. Наблюдайте, но ничего не предпринимайте! У меня есть подозрение, что это мошенник высокого полета. А уж в мошенниках я разбираюсь, то есть должен был бы разбираться.
– Кем вы были, прежде чем пойти на сцену? – спросила сообразительная Танюша.
– Служил, – кратко отвечал Лабрюйер. – А службу бросил потому, что не оправдал доверия начальства. Я совершил ошибку, желая казаться более значительным и способным, чем я есть. После этого я проклял свое дурацкое самолюбие и самолюбование…
– Но, господин Лабрюйер, отчего же вы тогда пошли в артисты? Ведь артисту нельзя без самолюбия и самолюбования! – удивилась девушка. – Вон на Славского посмотрите! У него всякая поза выверена и отрепетирована перед зеркалом! Но бог с ним, со Славским! Вы обещали мне помочь!
– Я готов!
– Нам с Николевым нужно будет… Ну… ну, зайти кое-куда… Так вы пойдите с нами, как будто мы все втроем собрались на прогулку, а потом посмотрите – не идет ли следом кто-то из наших. Покараульте, понимаете?
– Что вы затеяли?
– Узнаете!
– Надеюсь, что-то хорошее и полезное?
– Душеспасительное! – не желая раньше времени выдавать секрет, ответила Танюша и рассмеялась.
– Тамарочка, у меня просьба. На дачи доставляют свежие газеты. Сколько я знаю род человеческий, старые обычно складывают в стопочку и держат в каком-нибудь неподходящем месте, пока они не пригодятся для растопки. Так вот – не могли бы вы принести мне стопку с вашей дачи? У нас она тоже имеется, но я не хочу, чтобы Енисеев видел мой интерес к газетам и что-то заподозрил.
– Принесу, конечно, а на что вам?
– Вы ведь знаете, что мои с Енисеевым похождения – просто золотое дно для местных репортеров. «Два Аякса угнали купальную повозку!», «Два Аякса пели и плясали на крыше киоска мадам Вассерман!» Так вот, я хочу сличить – не было ли в те ночи, когда он накачивал меня спиртным, так что в ушах плескалось, каких-то странных и или вовсе противозаконных происшествий.
– Я же вам сказала – в ту ночь, когда вы воровали копченую рыбу, убили жену Сальтерна.
– Вот как раз это может быть случайным совпадением. Но если выяснится, что, пока мы колобродили, где-то воры обчистили дачу и взяли добра на сто тысяч рублей, так это уже ближе к истине…
Расставшись с девушкой, Лабрюйер крепко задумался.
Он был из тех людей, что не производят впечатления злопамятных и мстительных. Но он правильно сказал о себе Танюше: самолюбие у него имелось, и немалое. Другое дело – что он сам себя наказывал, смиряя и загоняя в самый дальний угол сознания это самолюбие. Это можно проделывать долго, но не бесконечно – если ты, разумеется, не отшельник-аскет в пустыне Фиваиде, и то – в самые первые века христианства.
Подарки, которые получала госпожа Эстергази от неведомого поклонника, навели его на мысли, далекие от любовных. И странные действия Енисеева легли горстью совершенно необходимых кусочков смальты в ту мозаику, что начала составляться в голове Лабрюйера.
Если бы Енисеев попался ему сразу после рассказа Танюши, возможно, Лабрюйер бы не сдержался, брякнул от возмущения какую-то глупость. Но у него было время успокоиться.
Вечером предстоял концерт, а после концерта они со Стрельским собирались исчезнуть.
Старый артист додумался поселить Вильгельмину Хаберманн где-нибудь на штранде, сняв комнату у рыбаков. Уж там-то ее бы искать не стали. Лабрюйер вспомнил, что имеет там знакомца, владеющего хутором за Дуббельном, в Ассерне. Переезд совершился успешно. И Лабрюйер хотел вместе со Стрельским, умеющим очень хорошо располагать к себе людей, навестить старушку и расспросить ее более толково.
Глава тринадцатая
В антракте Енисеев подошел к Лабрюйеру и предложил ему после представления побаловаться пивком.
– Опять ведь набубенимся, – сказал ему Лабрюйер. – Может, хватит?
– А что плохого? Тут курорт, ремесло у нас необременительное, так пусть уж будут все радости жизни, – ответил Енисеев. – Осенью я вернусь в Москву, и там уж баловство придется оставить. Родня хочет силком загнать меня обратно на службу. Ей кажется, будто одна служба способна сделать из меня человека. Но я счастлив тут, на штранде, когда могу петь всякую дребедень и пить все, до чего дотянусь. Забудьте свои заботы, брат Аякс, наслаждайтесь мгновением.
И Енисеев тихонько запел:
– Вдыхай же этот воздух и бокал свой пей до дна – на миг нам жизнь дана!..
Лабрюйер узнал мелодию и слова. Но он уже знал – так начинается дорожка из зерен, ведущая неопытную птичку прямиком в ловушку. А поморщился он потому, что это была баркарола для женского голоса, и он даже знал, для какого именно. Селецкая спела бы баркаролу так, что зал замер бы от предчувствия любви. А Енисеев изобразил пьяного Аякса – и только.
– Хорошо, уговорили. Но только пиво, ничего больше.
Однако когда Енисеев после концерта стал искать Лабрюйера, то не нашел. И никто не мог понять, куда брат Аякс подевался.
Стрельский в концерте не участвовал. Он ждал Лабрюйера в переулке за концертным залом, сидя в извозчичьей бричке. Извозчика он нарочно взял латыша, не знавшего по-русски. И они покатили в Ассерн.
– Если бы я мог разорваться на две части, – сказал старику Лабрюйер. – Одна бы ехала сейчас с вами, а другая проследила за Енисеевым.
– Вам любопытно, как он взбесится?
– Мне любопытно другое. Какие у него на самом деле были планы на эту ночь.
Лабрюйер, просмотрев русские газеты, узнал, что многие дамы дали объявления о потерянных или украденных драгоценностях. Кое-что он выписал на особый листок. Кроме того, он изучил несколько краж – беспечные дачники, уходя на пляж, оставляли окна открытыми, а дорогие вещи – лежащими на видных местах. Но его интересовали ночные безобразия – кроме собственных, конечно. Такое обнаружилось одно – налет на богатую дачу адвоката Рибенау, уехавшего с семьей на два дня в Ригу. В том же номере «Рижского курорта» было очень ехидное описание пляски двух Аяксов на крыше киоска. Из чего следовало, что налет и пляска по времени совпали. Подробности той ночи Лабрюйер помнил плохо. Проснулся он уже на даче, куда его как-то дотащил Енисеев, – если, конечно, верить енисеевским словам.
Но делиться со Стрельским своими подозрениями Лабрюйер не стал – во-первых, преждевременно, а во-вторых, хватало старику и размышлений о печальной судьбе Селецкой, которая ему очень нравилась. Незачем было прибавлять подозрение, что в труппу затесался предводитель воровской шайки.
– Какие у него могут быть планы? Напиться и покуролесить. Хотя без вас настоящего безобразия не получится.
– Да уж… Ну, хоть тут мы можем поговорить спокойно. Вы все хотели знать, как я уговорил старуху сбежать из дома Сальтерна.
– Молодой человек, знаете, что самое ужасное в старухах? А я знаю! Они до гробовой доски мнят себя юными прелестницами. Вот нашей дачной хозяйке, поди, шестьдесят. Но если за ней возьмется ухаживать хотя бы наш Николев, она скажет «ах!» и выкинет из головы всякое попечение о своих преклонных годах. Поэтому я допускаю…
Лабрюйер расхохотался.
– Видите ли, я рижанин, – сказал он актеру. – И знаю множество рижан, и они меня также. Чтобы выманить Хаберманшу из дома, я употребил старого знакомого, которому она доверяет. Этот знакомец – дворник дома, где живут Сальтерны. Когда они выезжали из Риги – а Сальтерн возил жену на Бальдонский курорт, в Ревель и еще бог весть куда, – сторожить квартиру оставались кухарка и этот дворник Иоахим Репше. Он – полукровка, отец – латыш, мать – немка, говорит на обоих языках одинаково скверно, такое в Риге случается. Но он хитер и сообразителен. Он объяснил старухе, что люди, убившие ее хозяйку, очень скоро и до нее доберутся…
– Но почему?..
– Вот тут я малость сблефовал, – признался Лабрюйер. – Я исходил из того, что Селецкая убийства не совершала. И я представил себе портрет воображаемого истинного убийцы. Это мог быть человек, которого фрау Сальтерн чем-то обидела или оскорбила, возможно, даже обокрала. По моему разумению, это скорее женщина, чем мужчина. Женщина, у которой помощник – мужчина, понимаете? Только женщина так хорошо все рассчитает, чтобы свалить вину на другую женщину. Отсюда и воровство булавки у Селецкой, и доставка трупа в Майоренхоф.
– А вы по дамской части, оказывается, знаток.
– Если бы… – Лабрюйер уныло покачал головой. – Для дам я – вроде мебели в тетушкиной гостиной, стоит какая-то рухлядь, но пользоваться ею можно, и на том спасибо. И вот я научил Репше, как объяснить Хаберманше, отчего ее жизнь в опасности. Ведь хозяйка с ней всем делилась – значит, она знает, кто убийца.
– Не слишком ли суровая месть за обиду или воровство? – спросил Стрельский. – Такое только в театре бывает, в плохой трагедии. Хотя – смотря как написано. Вон у Островского Карандышев от жесточайшей обиды стреляет в невесту – а как достоверно, а?
По физиономии Лабрюйера было видно, что обе эти фамилии ему совершенно не знакомы.
– Судя по тому, что убийство состоялось, причина была очень значительная, – сказал он. – И это не убийство в порыве гнева, оно продуманное. Чтобы заполучить булавку Селецкой, нужно было предпринять действия… Погодите, после беседы со старухой я докопаюсь, кто стянул булавку. Я уже знаю, как это сделать.
В Ассерне они оставили извозчика неподалеку от железнодорожной станции, велев ждать, и дальше пошли сквозь лес пешком. Для удобства дачников там была устроена ровная дорожка, а освещение у Лабрюйера оказалось с собой – он достал из кармана металлический цилиндр с линзой в торце, нажал кнопку, и не ожидавший сюрприза Стрельский ахнул:
– Это что такое?
– Электрический фонарь. Я думал взять у Олениной велосипедный, но потом понял, что мне для розыска нужен свой собственный. Вот что в Майоренхофе хорошо – на Йоменской черта в ступе можно купить. Если бы мне потребовался парадный мундир китайского мандарина – и он бы там тоже нашелся.
– Как далеко шагнула наука… – пробормотал Стрельский.
– Это самая современная модель, в металлическом корпусе, а раньше делали в картонном. Я решил не экономить.
У Стрельского были кое-какие вопросы к Лабрюйеру, но он решил с ними обождать. Старый актер был человек опытный – он мог кокетничать, изображая дамского угодника, мог громогласно причитать в стиле чуть ли не позапрошлого века, мог свободно цитировать Корнеля на французском (и вряд ли сумел бы точно перевести зазубренный наизусть монолог), мог обыграть любую нелепицу артистического быта, а еще он был наблюдателен – его смолоду научили подсматривать в человеческом поведении всякие штучки и изюминки, которые непременно пригодятся в будущих ролях. В деятельности Лабрюйера этих штучек накопилось уже изрядно. И они не очень соответствовали образу потомственного горожанина, бывшего чиновника.
– Репше объяснил старухе, что бояться меня не надо, но она все еще дичится, – сказал Лабрюйер, но в первой части фразы было что-то подозрительное; Стрельский сыграл бы иначе, более правдоподобно, что ли.
– Как вам удалось уговорить ее ехать с вами в Майоренхоф?
– Репше и уговорил. Мы ей пообещали – как только полиция найдет убийцу, она получит награждение.
– За что?!
– Придумаем, за что. Лишь бы заговорила. Мне жаль ее, – признался Лабрюйер. – Ей соседки напели в уши ерунды, она уже и Сальтерна боится. О том, что Сальтерн влюбился в Селецкую, она явно знает.
– Так и хорошо, что она Сальтерна боится. Значит, не захочет жить с ним под одной крышей, пока вся эта интрига не прояснится.
– Вот и я так полагаю.
Рыбацкий хуторок, куда поместили Вильгельмину Хаберманн, был из зажиточных. Его хозяйка привозила дачникам свежую и копченую рыбу. Вместе с женщиной был сын-гимназист – ассернский рыбак Янис Осис зарабатывал достаточно, чтобы из троих сыновей самому способному дать образование. Это был средний, он помогал матери объясняться с дачниками-русскими и дачниками-немцами, свободно переходя с языка на язык. Старший вместе с отцом ходил на лов, младший имел свои обязанности по хозяйству, а хозяйство было немалое – хороший дом, крытый камышом, огородик (землю для него привозили, потому что на песке ничего путного не вырастишь), клеть для припасов, в которой летом жили дочери, баня, ледник (за льдом далеко бегать не приходилось, и последние куски сохраняли холод чуть ли не до июля), сарай для сетей, коптильня на курляндский лад, из составленных вместе половин распиленной старой лодки, хлев, свинарник – его-то и учуяли первым.
Ассернский рыбак – человек практический, и когда ему предложили взять на полный пансион старушку, совершенно не возражал.
Ночью хуторяне спускали с цепи двух псов, они предупредили хозяев о гостях громким лаем. Вышел с фонарем старший сын, Кристап, детина ростом с самого Стрельского. Лабрюйер заговорил с ним, и вскоре гости были впущены в дом.
Стрельский впервые оказался в рыбацком жилище и с любопытством его разглядывал. Все там было очень просто – грубая мебель, в углу – прялка, у окна – узкий ткацкий станок, домотканые покрывала на кроватях, колыбелька с пологом, полосатые половики, разрисованная фигурками печь. Но на стене он увидел полки с книгами, на столе с края – латышскую газету «Вестник родины», освещалось жилище не лучиной в светце, а хорошей керосиновой лампой.
Середину стола занимали шерстяные клетчатые юбки, складки на которых были сметаны белыми нитками. Поверх юбок на расстеленных полотенцах лежали уже остывшие хлебные ковриги. Это был обычный сельский способ заглаживать складки на праздничной одежде. А праздник предстоял знатный – даже Рождество так пышно не справляли на побережье, как Янов день, и особенно – Янову ночь.
Осис велел дочкам, девицам на выданье, убрать юбки, хозяйка постелила вышитую скатерть. Гостей усадили на стулья и привели к ним Вильгельмину Хаберманн.
Стрельский впервые увидел ее – опрятную маленькую старушку в старомодной черной кружевной наколке. Увидев Лабрюйера, Хаберманша заулыбалась – и это было еще одним пунктом в списке странностей. А уж когда Лабрюйер достал из кармана блокнот с карандашом, Стрельский начал кое-что понимать.
Средний хозяйский сын сел с ним рядом и тихонько переводил разговор.
– У нас, фрау Хаберманн, не было возможности толком поговорить, – сказал Лабрюйер. – Нам пришлось очень спешить. А сейчас любезные хозяева нам не помешают. Хотите отвечать на мои вопросы?
– Я боюсь, – прошептала старушка. – Я боюсь наговорить глупостей, герр Гроссмайстер. Вы же знаете, как легко это получается.
– Ничего не бойтесь, фрау Хаберманн. Я ведь не герр Горнфельд, я на вас кричать не стану, – Лабрюйер улыбнулся. – И к тому же, вы уже начали рассказывать про ипподром. Давайте вспомним! Вы сказали – не надо было бедной Доре ездить на этот ипподром, летают там сумасшедшие по воздуху – ну и пусть себе летают, большое удовольствие – смотреть, как эти люди падают с неба и разбиваются насмерть. Это ваши слова, фрау Хаберманн?
Стрельский поразился – сам он так разговаривал бы с ребенком, с непослушным захворавшим ребенком, которого нужно успокоить и убедить принять лекарство.
– Да, я так считаю, я и Доре так говорила. Но она всегда была непослушной девочкой. Когда Эрнест ее бросил, а ведь они уже были обручены, я сказала ей: Дора, этот красавчик не стоит твоего ноготка, но ты очень нравишься булочнику Пфайферу, посмотри, какой красивый мужчина! Будешь булочницей, будешь весь день сидеть в лавке, все к тебе туда придут за булками и пирожками, расскажут новости, это прекрасное замужество, прекрасная жизнь… Вы знаете, герр Гроссмайстер, ее упрямства хватило на десять лет. Если бы она вышла замуж за Пфайфера, у нее уже были бы взрослые детки… а я бы… я бы их растила…
Старушка расплакалась.
Ей дали платочек, принесли воды – здешней воды из колонки с особенным, штрандовским запахом, в воду накапали коричневых капель из пузырька, фрау Хаберманн выпила и понемногу успокоилась.
Стрельский смотрел, как Лабрюйер терпеливо нянчится со старушкой, и усмехался. Наконец допрос – а Стрельский уже знал, что это именно допрос, – возобновился.
– Она ни за кого не выходила замуж, потому что дала слово Эрнесту. Для нее слово было свято, ведь она Богу пообещала, что обвенчается только с Эрнестом. А она была настоящая красавица! Потом он приехал и сказал: я теперь вдовец, но открыто на тебе жениться не могу. Он все ей объяснил. Бедная Дора целую ночь проплакала. Потом она сказала ему: я тебя люблю, и я на все согласна. И они тайно поженились, в церкви были только пастор Глютеус и я. Ведь матушка Доры семь лет как умерла, и мы с ней жили вместе. Потом мы переехали в Ригу. Эрнест все хорошо придумал – все знали, что он привез свою сестрицу Регину. Но он запретил Доре иметь детей… а она так хотела девочку и мальчика…
– Почему он на ней женился? – спросил Лабрюйер.
– А кто бы еще согласился с ним жить и столько лет притворяться? Только моя бедная Дора, и он знал это…
Фрау Хаберманн еще долго жаловалась бы на Сальтерна и оплакивала воспитанницу, но Лабрюйер все же перевел речь на ипподром и полеты. Он попросил старушку описать с самого утра тот день, когда Сальтерн и Доротея-Марта поехали на Солитюдский ипподром. Она начала с завтрака, с наряда фрау Сальтерн, и понемногу разговорилась.
– Эрнесту было любопытно посмотреть, как люди летают. Дора потом сказала мне, что он хочет открыть свое дело. А все эти полеты и летательные машины – там очень легко открыть свое выгодное дело, если вовремя этим заняться. Так она сказала. Они уехали, я осталась дома. Ильза прибрала в комнатах, я проверила, всюду ли она вытерла пыль, потом Берта взяла ее на кухню чистить серебро, у нас прекрасное старое столовое серебро. Я вязала теплые носки для Эрнеста, у него постоянно мерзнут ноги… Дора с Эрнестом вернулись к обеду… Эрнест уговаривал ее поехать с ним на штранд… Я видела, что ей не хочется никуда ехать. Потом я позвала ее в свою комнату… да, после обеда Эрнест сел курить сигару, а я позвала Дору… Дора сама хотела поговорить со мной! Она сразу спросила меня, помню ли я Дитрихсов. Как не помнить, сказала я, как не помнить! Алоиз Дитрихс украл у бедной Катрины Мейнсдорф золотую цепочку с крестом, но как это доказать? Все знают, что украл он, а доказать нельзя! И бумажник с деньгами у пастора он вытащил. И когда ограбили Айзеншписа – тоже все понимали, чья работа. Но тогда полиция все-таки стала его искать…
Лабрюйер терпеливо слушал, записывал фамилии.
Стрельский смотрел на него и усмехался. Теперь он был уверен, что Селецкую удастся спасти. Он окончательно убедился в своих подозрениях. Лабрюйер никогда ничего не говорил о своем прошлом – и вот его тайна раскрылась.
Глава четырнадцатая
Городишко, откуда были родом Эрнест фон Сальтерн и Доротея-Марта, насчитывал хорошо если пять тысяч жителей. Был он почти на границе с Российской империей, но большие деньги сквозь него не шли, и городишко влачил довольно унылое существование. Эрнест фон Сальтерн вынужден был там оставаться – как единственный наследник деда с бабкой: они содержали его, когда он учился в Кенигсбергском университете; юноша из старого дворянского рода просто обязан учиться в университете… Он женился бы на Доротее-Марте, спрятал свой диплом юриста в шкаф, нашел более подходящее занятие и стал добропорядочным небогатым бюргером, если бы однажды не выехал по делам в Берлин. Там на высокого и статного молодого человека обратила внимание богатая дама, приехавшая развлечься после смерти супруга и годичного траура. Домой он уже не вернулся.
Это было по-своему правильно – молодежь старалась покинуть городишко, ей было там тесно, она не желала себе такого будущего, как жизнь отцов и дедов. Одни уезжали чинно-благородно, с благословения родни; другие сбегали, как Сальтерн, – не очень-то красиво, но без скандала; третьи удирали, потому что им уже наступала на пятки полиция. Так сбежал и старший сын Дитрихсов Алоиз – красавчик, бездельник, вор и подлец. После того как он скрылся в направлении российской границы, выяснилось, что матушкин любимчик сколотил шайку из четырех человек и промышлял с ней на дорогах.
В городишке все друг друга знали в лицо – разумеется, Доротея-Марта знала Алоиза; он был моложе ее, кажется, на пять лет, стало быть, сейчас ему могло стукнуть тридцать четыре или тридцать пять. Внешность у него была приметная – лицо узкое, аристократическое, по мнению горожан, глаза темные, выпуклые. Когда он исчез из городишка, ему было не более двадцати пяти лет; в эти годы уже становится ясно, как будет выглядеть мужчина в зрелом возрасте.
Вильгельмина Хаберманн тоже прекрасно помнила Алоиза. Она когда-то приятельствовала с его матерью. И, как женщина высоконравственная, потом очень осуждала мать за то, что та не сумела должным образом воспитать сына. Сама Вильгельмина, не нажив собственных детей, воспитала дочку своей болезненной родственницы и весьма этим гордилась: Доротея-Марта выросла красавицей, умницей, крайне порядочной девицей.
Привязанность к воспитаннице оказалась очень сильна: когда Дора, простив Эрнеста, решила стать его тайной женой, Вильгельмина поехала вместе с ней в чужую, холодную, шумную Ригу с ее новомодными шестиэтажными домами (на которых кривлялись и скалились каменные морды, изворачивались, показывая груди и бедра, голые каменные женщины) и всеми кошмарами портового города.
Ей жилось неплохо – она редко выходила из дома, прислуге было велено всячески показывать свое уважение, и Доротея-Марта часто звала ее в спальню для приватного разговора. Хаберманн очень любила такие разговоры – они ее вроде как поднимали над прочей прислугой. После возвращения с ипподрома Дора завела разговор о семействе Дитрихсов. Вспомнили всех троих сыновей, особо – Алоиза. Дора спросила Минну, узнала бы она Алоиза, десять лет его не видев. Минна ответила в том духе, что зрение у нее уже не прежнее, но если бы этот шельмец остался жив и с годами стал похож на своего папеньку, она его узнает.
– Он остался жив и стал похож на своего папеньку.
– Мой бог! Не может быть! Фрау Дитрихс носила траур! Он умер плохой смертью, так все говорили, она получила письмо от какого-то большого начальника, Алоиза больше нет! – настаивала фрау Хаберманн.
– Но я своими глазами видела его, – ответила Дора и, разволновавшись, попросила принести бутылочку с алашем – этот слабенький и сладенький ликер рижские кумушки очень уважали.
– Где ты его встретила, мое сердечко? – спросила фрау Хаберманн.
– На ипподроме, – сказала Дора. – Я сперва удивилась и даже испугалась – как вышло, что он остался жив и оказался в Риге? Потом мне стало смешно – он видел меня так же ясно, как я его, и не поздоровался. Потом я поймала его взгляд, и мне стало страшно… Он так смотрел, словно хотел сказать: а я все про тебя знаю!
– О мой бог! – воскликнула Минна. Продолжать Доре было незачем.
Дальше вопрос встал так: говорить или не говорить Эрнесту про это несчастье?
Возможно, женщина, воспитанная более практичной родственницей и с меньшим количеством возвышенных чувств в душе, поступила бы проще: все рассказала мужу. Поскольку муж эту кашу заварил: он тайно приехал за Доротеей-Мартой, уговорил ее тайно выйти за него замуж, и далее слово «тайно» сопровождало их все время жизни в Риге. Стало быть, Сальтерн и должен решать, что делать, если Алоиз вдруг объявится.
Ждать от Дитрихса милосердия было то же, что ждать посреди января розовых бутонов на еловых ветках. Значит, и с ним можно было при нужде поступить совершенно немилосердно. Так рассудила бы женщина практическая – и доверила решительные действия мужу. Но Дора решила: нужно уберечь Эрнеста от этого несчастья, нужно справиться самой.
Только женщина, воспитанная на сентиментальных историях о верных возлюбленных, взялась бы за такую задачу. Дора многое простила Эрнесту, потому что добрая жена должна прощать мужа и оправдывать во всем. Она и увлечение заезжей актеркой простила – ясно же было, что Сальтерн никогда на Селецкой не женится. Если посмотреть на дело с другой стороны, опасность угрожала более ему, чем Доре. Он, если выяснится, что Регина фон Апфельблюм на самом деле – Доротея-Марта фон Сальтерн, терял бы все свое имущество вкупе с положением в обществе, и ладно бы сразу! Родственник, к которому должно было перейти наследство при несоблюдении главного условия, затаскал бы Сальтерна по судам и замучил процессами. Деньги уходили бы понемногу, на адвокатов, на судебные издержки, и приходилось бы продавать вещи, в которых, за неимением детей, был смысл жизни семьи: автомобиль, столовое серебро, дорогие безделушки. Дору рижское общество бы пожалело – нельзя же не пожалеть бедную обманутую женщину. А на Сальтерна рухнуло бы, как гора кирпичей с крыши, всеобщее презрение. Он же был горд, он не вынес бы этого испытания.
Дора решила кинуться навстречу опасности.
Пока Сальтерн болтался между Ригой и Майоренхофом, развлекая артисток, она подговорила приятельницу еще раз съездить на ипподром, посмотреть полеты Зверевой и Слюсаренко. А фрау Хаберманн получила тайное задание – продать кое-какие драгоценности, чтобы при необходимости деньги всегда были под рукой.
Старушка долго ломала голову, как это проделать. Если продавать в Риге – это скоро станет всем известно, город-то маленький. Наконец придумала: лет ей уже много, надо бы посетить племянников и племянниц, пока жива. Сальтерн, которого она попросила устроить путешествие, купил ей железнодорожные билеты и сам посадил в берлинский поезд.
Фрау Хаберманн вернулась с деньгами, которые ее совершенно измучили, – она страшно боялась воров, смастерила пояс с карманами, который носила под сорочкой, но все равно не спала и, высадившись утром на Туккумском вокзале, мечтала об одном – избавившись от золота, рухнуть в постель и проспать по меньшей мере сутки.
Она взяла извозчика, приехала на улицу Альберта (Сальтерн мог купить себе квартиру только на самой модной и шикарной улице, в самом великолепном доме, сплошь отделанном лепниной и всякими архитектурными выкрутасами), поднялась на третий этаж, Ильза впустила ее – и тут выяснилось, что Доры дома нет. Сам Сальтерн, приехавший во втором часу ночи, спит мертвым сном, а Дора пропала, когда – непонятно.
Потом нагрянула полиция.
Фрау Хаберманн безумно перепугалась. Она решила, что ее обвинят в махинациях с продажей хозяйкиных драгоценностей. Когда соседки показали ей газеты, а в газетах – новость об аресте Селецкой, Минна совсем растерялась. Конечно, Дора переживала из-за внезапного романа между мужем и артисткой, но не настолько же, чтобы ехать среди ночи в Майоренхоф и устраивать скандал? Или она нарочно услала свою воспитательницу, чтобы никто не помешал ей, перечисляя правила поведения приличной женщины?
В результате на все вопросы Горнфельда Минна твердо отвечала «нет».
Она хотела просить Сальтерна, чтобы он отправил ее к племянникам навсегда, и ждала подходящей минуты, но однажды ее остановил на лестнице дворник Репше и предупредил, что приходили какие-то подозрительные мужчины, любопытствовали о ней, и мужчины эти уж точно не из полиции, тут у него, дворника, глаз наметанный.
Первым делом подумав на Алоиза Дитрихса, простодушная Минна стала спрашивать: высок ли один из них ростом, худое ли у него лицо? Сообразительный дворник отвечал утвердительно. Окончательно ее запугав, Репше сказал, что лучше бы ей пока укрыться в надежном месте, и буквально через час свел с Лабрюйером. Тот добавил страха и увез фрау Хаберманн на извозчике. Но при посторонних он ей вопросов не задавал, а когда поселил на чердаке, не имел достаточно времени для основательной беседы. Однако Лабрюйер ей понравился – она вспомнила, что встречалась с ним раньше возле старой Гертрудинской церкви, куда исправно ходила по воскресеньям, а он в тех местах снимал комнату и иногда провожал на службу свою квартирную хозяйку – когда ревматизм не позволял ей двигаться самостоятельно.
Все это фрау Хаберманн рассказала за час, спотыкаясь и мучаясь, а Лабрюйер терпеливо ей помогал наводящими вопросами. Наконец стало ясно, что больше она действительно не знает.
– Мне вовремя удалось спрятать вас от Дитрихса, фрау, – сказал Лабрюйер. – Поживите пока что здесь. Я за все заплачу.
– А вы можете телефонировать бедному Эрнесту? – спросила старушка.
– Фрау Хаберманн, подумайте сами – ведь Дитрихс теперь начнет преследовать господина фон Сальтерна. Они наверняка встретятся, будут говорить о деньгах и о многом другом. Что, если Сальтерн проболтается, где вы? Дитрихс может придумать какую-то пакость для вас обоих.
Но старушка только качала головой – ей казалось, что Сальтерн будет о ней сильно волноваться. Лабрюйер не сразу нашел нужный довод.
– Фрау Хаберманн, это дела мужские, а вы слабая женщина.
– Да, да!
– Вот и позвольте нам, мужчинам, – Лабрюйер указал на Стрельского, который выглядел именно так, чтобы внушить Минне доверие: огромный, осанистый, седой. – Позвольте нам о вас позаботиться.
Она подумала и позволила.
Лабрюйер оставил Осису деньги на содержание Минны и позвал Стрельского – извозчик их заждался.
Сперва они шли к лесу молча, потом Стрельский заговорил.
– Шантаж? – спросил он.
– Смешно было бы, если бы Сальтернов в конце концов кто-то не стал шантажировать, – ответил Лабрюйер. – Отчего бы и не Алоиз Дитрихс? Но тут у нас неувязка.
– Какая?
– Сальтерн богат и мог бы платить несколько лет. Дитрихс и фрау Сальтерн встретились совсем недавно и совершенно случайно. Покойница очень хотела откупиться от подлеца и, возможно, пообещала ему: милый Алоиз, деньги придут на следующей неделе. Так отчего ему убивать женщину, которая может хорошо заплатить?
– Отчего убивать женщину, которая еще не заплатила, – поправил Стрельский.
– Да, верно. И вот я думаю… я думаю…
Лабрюйер опять замолчал. Стрельский, шагая рядом, не мешал ему – хотя очень хотелось порассуждать.
– Я знаю случаи шантажа, – не объясняя, откуда, продолжал Лабрюйер. – Обычно жертва убивает шантажиста…
– Так, может, покойница и была шантажисткой? Мы-то знаем о ее добродетелях только по рассказам Хаберманши, – напомнил Стрельский. – А у нее были для этого основания! Она могла шантажировать собственного мужа, например, – если он будет ферлакурничать с Селецкой…
– Что делать?!
– Куры строить. В годы моей молодости было слово «ферлакур». Это то же, что «ловелас», только по-французски.
– Буду знать, – пообещал Лабрюйер. – Да, конечно, жена может шантажировать мужа – я и такой случай наблюдал. Только там муж оказался убийцей и грабителем. А наша покойница могла, наверно, пригрозить, что обнародует правду об их браке, но ведь Сальтерн прекрасно понимал – дальше угроз она не пойдет. Ведь если в Риге узнают правду – примерно полгода спустя фрау Сальтерн обнаружат себя в хибаре на окраине Московского форштадта с ножом в руке, очищающей гнилую картошку в ожидании мужа, который целый день, в фартуке и с бляхой на груди, бегает по улице с совком и метлой, убирая конский навоз.
– Логично, – согласился старый актер. – Знаете, когда учишь монолог, нужно сперва определить в нем главные слова, чтобы преподнести их публике на серебряном подносе. Может ли в этом деле главным быть слово «шантаж»?
– Может, – твердо сказал Лабрюйер. – Вы на верном пути, Стрельский. Похоже, дело не в том, что Дитрихс узнал фрау фон Апфельблюм, а наоборот – она узнала Дитрихса. И его появление в Риге показалось бедной женщине каким-то сомнительным, а он это понял. Может ли это стать поводом для убийства?