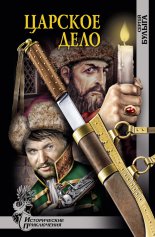Аэроплан для победителя Плещеева Дарья

– А может, и не дурак. Он ведь здешний. Может, он сообразит, кого спрашивать, – примирительно сказал Стрельский. – Я, конечно же, против авантюр, кроме амурных, конечно… Однако для него немецкий язык – почти родной…
– Эй, Стрельский, Лабрюйер, Енисеев! Пожалуйте репетировать! – крикнул им издали Славский.
– Черт бы побрал эту «Елену»! – воскликнул Славский. Ему предстояло плясать в обнимку с Полидоро (тут он не возражал) и с Эстергази (а это его приводило в ужас).
Репетиция была очень важная: уже и ввод одного актера в готовый спектакль – порядочная морока, а тут наметились сразу два ввода: Танюши на роль Ореста и Эстергази на роль Парфенис. При этом за Эстергази еще оставалась роль Елениной рабыни Бахизы.
И нужно было пройти хоть в полноги все сцены с участием Ореста. Скучно, а ничего не поделаешь – обстоятельства вынуждают.
Когда удалось согнать во двор весь состав «Прекрасной Елены», оказалось, что куда-то сгинул Лабрюйер. Его вызвался поискать Николев – и не нашел.
Первым сообразил, в чем дело, Енисеев.
– Этот чудак вообразил себя сыщиком!
– И что? – спросил Кокшаров.
– Ничего – отправился искать настоящего убийцу фрау фон Апфельблюм.
– Ого… – даже с некоторым уважением произнес Лиодоров, а Савелий Водолеев выразил общее мнение одним-единственным словом:
– Допился!
Глава десятая
Все смешалось в голове у новоявленной солистки Тамары Олениной: новая роль, аэропланы, велосипеды, венчание, убийство, Селецкая… И потому она не сразу вспомнила о странном явлении мужчины, сильно похожего на Енисеева, на ипподромной конюшне.
С одной стороны, когда пытаешься уснуть в незнакомом месте, непременно всякая чушь в голову лезет; могло привидеться и кое-что похуже, чем Енисеев; опять же – перед глазами было яркое пятно света из торца электрического фонарика. А с другой – уж больно похожий профиль. И были вроде усы, торчащие из-под носа на вершок. Если бы артист прилепил себе, играя отставного вояку, такие усищи, то публика бы его освистала. А у Енисеева это украшение было природным, оставалось лишь причесывать его и подкручивать кончики.
Но это, очевидно, был фон Эрлих. Не мог Енисеев оказаться на ипподроме – он в это время колобродил с Лабрюйером, воровал «бутов» и громил коптильню. Просто не мог!
И, в общем-то было не до него – предстояло во всей этой суете найти время и возможность, чтобы вместе с Николевым исповедаться и причаститься перед свадьбой. А это значит – хотя бы накануне исповеди отстоять в церкви службу. Но как ее отстоишь, когда то спектакль, то концерт?
Алеша Николев тоже был озабочен и церковной службой, и исповедью. Дело в том, что он пытался быть современным молодым человеком и, учась в гимназии, еле-еле получил тройку по Закону Божию; получить больше было среди одноклассников просто неприлично. Вот и вышло, что он в последний раз причащался больше года назад. И имелись основания полагать, что отец Николай в церкви отчитает его и прогонит: ступай, чадо, замаливай грехи и не приходи, пока не исправишься. У Алеши же просто не было времени на исправление. Плюс к тому – ближайшие вечера были заняты спектаклем и концертами.
Он вызвал на свидание Танюшу и все ей объяснил.
– У нас есть вечер четверга, – сказала она. – Мы вот что сделаем – скажем всем, что идем молиться за Селецкую. И это же не будет враньем – мы действительно за нее помолимся! Мы свечки поставим и Спасителю, и Богородице!
– Ставить свечки противно моим убеждениям, – ответил Алеша. – Это смешной обряд, выгодный лишь попам.
– А входить в раздевалку только с левой ноги не противно вашим убеждениям? – спросила Танюша. – А искать на сцене ржавые гвоздики от декораций – не противно?
– Так все же ищут! Это – к новой роли!
– Ага! Уже выучили, что гвозди – к роли, а если кому свое мыло на минутку дашь – так это свою удачу ему отдашь и вообще без ролей останешься! Боже мой, Алешенька, двадцатый век на дворе! Люди в небе летают! И дамы тоже! А вы?..
Решили – чтобы отпроситься в церковь, любой повод хорош, и Танюша может хоть всю службу молиться за Селецкую, а Алеша просто постоит рядом, чтобы батюшка его видел. И пусть изобразит полнейшее раскаяние, отбивает земные поклоны хотя бы. Или он не актер, или считает себя принцем Датским, а сам не в состоянии на часок проникнуться сознанием собственной греховности?
Этот разговор состоялся между двухчасовой репетицией и концертом. Танюша хорошо вошла в роль Ореста – быть бойким мальчиком ей нравилось. Только Селецкая в пляске с гетерами обнимала их пикантным образом, к радости публики, а Танюше было неловко. И ладно бы Генриэтту – вон подружки-гимназистки тоже порой страстно обнимаются, особенно встретившись после каникул. Но Эстергази, которая жеманничает и кокетничает, вертя плечами и выставляя ножку?! Это было выше Танюшиных сил.
Перед началом концерта выяснилось, что нет Лабрюйера.
– Невелика потеря, – сказал, подумав, Кокшаров. – Вот что Селецкой нет – это скверно. Зиненочек, тебе придется самой вытаскивать эту телегу. Дважды поменяешь туалеты. Будешь петь «Песенку Фортунио», ту ариэтку из «Цыганского барона», чардаш из «Летучей мыши»… Да, «Летучая мышь»! Госпожа Полидоро, как насчет куплетов Адели? Публика их любит!
Концерт прошел лучше, чем надеялись. Публика сбежалась скорее из любопытства – новость об аресте Селецкой облетела весь штранд, и нужно было держаться бодро, стойко, независимо, всем видом показывая – служить по Селецкой панихиду еще рано. Репортеры пытались пробиться за кулисы, чтобы задавать дурацкие вопросы, их не пускали. Спасаясь от их внимания, труппа, когда стемнело, покинула концертный зал не через калитку, а с другой стороны, через забор.
Ночевать Лабрюйер не явился. А прибыл аккурат к завтраку, первым поездом. Вид у него был такой, что Стрельский ужаснулся:
– Боже мой, либо вы всю ночь провели с ненасытной прелестницей, либо на вас всю ночь возили воду!
– Второе вернее, – заметил Енисеев.
– Придумайте что-нибудь правдоподобное, – посоветовал Лиодоров. – Хозяин зол, как черт.
– Живот схватило. Ездил к своему врачу, – тут же ответил Лабрюйер.
Артисты переглянулись – когда схватывает живот, бегут не на железнодорожную станцию, чтобы провести час в поезде, а совсем в другое место.
Невзирая на милосердные советы, Лабрюйер именно так и сказал Кокшарову, невзирая на присутствие дам.
– Еще один такой приступ – и можете из Риги не возвращаться, – ответил на это Кокшаров. – А теперь – всем репетировать «Елену»! В костюмах! Николев, сбегайте за извозчиками.
Когда приехали в концертный зал, оказалось, что Лабрюйера опять нет. Когда и как его потеряли – никто не понял.
Блудный Аякс появился час спустя, причем вид у него был довольный. Ему повезло – Кокшаров рассердился на Эстергази, Терская вступилась за актрису, началась склока, и когда заново погнали спектакль, опуская вокальные номера, Лабрюйер уже выходил в обнимку с Енисеевым особой, нарочно для Аяксов разработанной поступью: как будто правая нога Енисеева и левая нога Лабрюйера были связаны веревочкой. Потом, правда, веревочка развязывалась, и четыре ноги плели замысловатые кренделя, цепляясь друг за дружку. Все это, сопровождаемое куплетом «Мы шествуем величаво», заставляло публику киснуть со смеху.
Танюша удостоилась похвалы – за неимением Селецкой, она была вполне приличным Орестом, и вокальные номера ей удались неплохо. Николев, игравший Агамемнона, по сюжету – Орестова папеньку, тоже ее втихомолку похвалил и даже поцеловал ручку, при этом оба прыснули: хорошие же рожи будут у труппы, когда все узнают про венчание!
До четверга Танюше с Николевым нужно было еще один подвиг совершить – купить наконец Алеше велосипед. И они его совершили – в Майоренхофе как раз был магазин, где торговали и рижскими велосипедами «Лейтнер», и французскими «Клеман», и английскими «Ровер». Через полчаса выяснилось, что Николев не столь уж лихой велосипедист, как сам о себе рассказывал, и едет не по прямой линии, а по такой, которую в гимназии называют «синусоида».
Узнав, что молодежь собралась в дуббельнский храм помолиться, Терская остолбенела – во-первых, не ждала от Танюши такого всплеска религиозности, а во-вторых, проснулась совесть – ей и самой не помешало бы попросить Господа, чтобы пришел на выручку подруге. Но в этой суете и нос-то попудрить забываешь, а не то что молитву прочитать…
Танюше с Николевым было предложено пойти в эдинбургскую церковь, где собираются столичные аристократы, но они наотрез отказались. Сказали – молиться нужно там, где никакие светские господа не отвлекают, потому что нужно всю душу вложить – речь не о чужом человеке, речь о Валентиночке Селецкой! Потом они сели на велосипеды и покатили в Дуббельн, а Терская, Полидоро, Эстергази, Лиодоров и Водолеев все-таки пошли в Эдинбург, в прекрасную деревянную церковь, украшенную совершенно кружевной резьбой.
Молилась Танюша искренне, от души, а после службы они с Алешей подошли к батюшке и пообещали приехать утром.
– Пост-то держали? – имея в виду три дня без скоромного перед причастием, спросил отец Николай.
– Я молочное ела, – призналась Танюша.
– И я, – честно сказал Алеша.
– Ну, Бог с вами, но потом, как поженитесь, я уж вас прошу…
– Конечно, батюшка!
Спозаранку жених с невестой тайно покинули дачи и вывели велосипеды на Морскую улицу.
– Вперед, – сказала Танюша. Если не считать странной и страшной истории с фрау Апфельблюм и Селецкой, все шло прекрасно, и с каждым днем все ближе был белокрылый «фарман». А о моторе и машинном масле девушка старалась не думать.
– Холодно, – сказал, ежась, Николев.
– По дороге согреетесь.
– Я лучше возьму тужурку.
Оставив Танюше свой велосипед, Алеша побежал обратно.
Морская улица, хотя и не такая роскошная, как главный променад штранда, Йоменская, была благоустроена для гуляний и обсажена жасмином и акациями. Чтобы не попасться на глаза молочнице (во сколько приходила молочница, Танюша, понятно, не знала, но предполагала – ни свет ни заря), девушка встала за кустами.
Ей не так уж часто приходилось видеть летнее утро – а на штранде оно было просто замечательное, пели незнакомые птицы, пахло морем, если задрать голову – взор радовали янтарные под солнечными лучами стволы сосен, куда более высоких и прямых, чем под Петербургом, да красиво кружащиеся чайки. Чаячья романтика объяснялась просто – птицы высматривали рыбачьи лодки, идущие с ночного лова. Крупную рыбу понесут сразу же на рынок или к коптильням, а попавшая в сети мелочь – законный завтрак чаек. У них и ужин бывал законный – вечером, когда на пляж выходили дачники, у многих был припасен кусок хлеба для птиц. Насладиться закатом и развлечься чаячьей ловкостью – они же ловят кусочки на лету, стремительные, куда до них аэропланам! – вот прекрасное завершение долгого, спокойного и полного маленьких радостей летнего дня. Потом – взойти по дощатым настилам, пересекающим полосу прохладного мелкого песка, по щиколотку глубиной, и медленно разойтись по дачам, перекликаясь напоследок, уславливаясь о завтрашнем дне…
Танюша замечталась: обо всем сразу, и о своем явлении на ипподроме в качестве замужней дамы, и о подвенечном платье – жаль, что не будет настоящего, с дорогими кружевами, но если стянуть прекрасную белую блузку госпожи Терской, с шитьем и ленточками, и белую юбку Полидоро с пуговичками на подоле, а на голову – утащить газовый шарф опять же у Терской, то получится неплохо. Только нужно будет все это проделать ночью…
Девушка как раз думала, как бы исхитриться отутюжить блузку, когда услышала шум велосипедных шин. Она удивленно повернулась на звук – те дачники, что приехали на штранд лечиться, конечно, вставали очень рано, брали ванны, пили особую сыворотку и взятую с глубины морскую воду, делали на пляже гимнастические упражнения, совершали часовой моцион, но рассветное катание на велосипедах вроде бы доктора никому не прописывали.
К калитке мужской дачи действительно приближался велосипед, но – с двумя ездоками. Один, стоя, крутил педали, другой ехал в седле. Первый был кто-то совсем незнакомый, с широким и простым лицом, с седоватыми усами, в фуражке и рубахе из небеленого холста, перехваченной черным кожаным ремнем, в зеленых штанах и высоких сапогах. На голове у него была фуражка с кокардой – в овале два почтовых рожка и молнии. На раме он пристроил большую сумку, ремень которой наподобие портупеи пересекал грудь. Словом, человек этот был почтальон – один из тех, кого нанимали на летнее время, когда на штранде появляется несколько тысяч бездельников, развлекающих себя перепиской.
Почтальон остановил велосипед у калитки, пассажир соскочил, и тут оказалось – это Енисеев.
Он что-то сказал велосипедисту, хлопнул его по плечу, и тот укатил в сторону Дуббельна. Енисеев же огляделся, снял соломенную шляпу-канотье, без которой уважающий себя дачник не выйдет из дому даже в ливень, расстегнул просторный светлый пиджак – и заорал бесстыжим пронзительным голосом:
– Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво, два Аякса два! Ох, два Аякса два!
Распевая эти осточертевшие Танюше куплеты, он ввалился в калитку и пошел через двор, выписывая ногами загогулины. Вдруг он замолк.
– Боже мой… – прошептала Танюша. Ей отчего-то стало страшно.
Минуту спустя из той же калитки выскочил Николев в тужурке. Девушка бросилась к жениху.
– Алешенька, это что-то ужасное…
– Да, я видел. Тамарочка, он упал на клумбу, ту, с ноготками, и сразу заснул. Кокшаров с него шкуру спустит… извините…
– Алеша, он вас заметил?
– Не знаю, Тамарочка, он шел прямо на меня и, наверно, видел, но он шел прямо, понимаете? Я от него шарахнулся…
– И после этого он заснул на клумбе с ноготками?
– Ну да… Тамарочка, давайте я его попробую в дом затащить. Утром прохладно, он схватит какой-нибудь ревматизм, он же человек пожилой.
Пожилой возраст для Николева пока что начинался лет с двадцати пяти и сильно зависел от наличия бороды. Что касается дам – тридцатилетнюю кухарку он полагал старше, чем мадам Эстергази, и не скоро должен был наступить для него возраст точного понимания таких тонкостей.
– Нет, Алешенька, – твердо сказала Танюша. – Во-первых, нам надо спешить, опаздывать к началу исповеди не в наших интересах. А во-вторых… Вот увидите, он очень скоро встанет и дойдет до своей кровати.
– Почему вы так считаете?
Алеша и не думал, что ревность может зародиться столь нелепым образом. Тамарочка откуда-то знала повадки пьяного Аякса!
Когда девушка вовлекла Николева в свою авантюру, он сперва растерялся, потом испугался (совсем ненадолго!), потом воспарил душой, потом и вовсе преисполнился гордости: он станет женатым человеком, у него будет жена! Ровесники еще только будут бегать на свидание, вымаливая позволения чмокнуть в щечку, а он – он станет мужем в полном смысле этого слова! (Затею жить, как брат с сестрой, он не принял всерьез.) Вообразив атмосферу общей зависти – артист, надежда русской сцены, муж красавицы! – Николев понял, что даже неприлично быть таким знаменитым и счастливым.
И вот в его райскую эйфорию вползла зеленоглазая змея (какой актер не помнит, что Шекспир называл ревность зеленоглазым чудовищем?). Повода не было – однако пожилой пьяница Енисеев носил роскошные усы, а выправку имел – впору столичному гвардейцу, какому-нибудь полковнику лейб-гвардии Гусарского его величества полка в синем доломане, высоком кивере, с саблей на боку.
– Вы полагаете, я за то время, что в театре служу, мало пьяных повидала? – спросила Танюша, даже не подозревая, какие страсти вскипели в Алешиной душе. – Один купец в Костроме, он еще Селецкой маленькое изумрудное колье подарил, приплелся к нам в гостиницу ждать нас из ресторана и на лестнице заснул, прямо на ступеньках, а он толстый, как слон, пройти было невозможно. Ничего – проспал часа два, сам поднялся, поехал с горя к цыганам. Едем, Алеша, ну совершенно же нет времени!
Ее голова уже не предстоящей исповедью была занята, не списком грехов (который умные люди готовят заранее и каются по бумажке), а странными приключениями Енисеева. Для чего бы ему изображать пьяного? И не изображал ли он выпивоху все время, что труппа живет в Риге и на штранде? И – для чего эта комедия? Что этот верзила скрывает?
Вдруг Танюша чуть с седла не слетела – одновременно колесо попало в ухаб, а в голове совпали три события. В одну и ту же ночь два Аякса ограбили коптильню, безумно похожий на Енисеева человек носился по ипподрому и была убита фрау фон Апфельблюм.
Глава одиннадцатая
Кокшаров и Маркус зря времени не теряли.
Маркус, как всякий человек, живущий зимой в небольшом городе и занятый делами артистическими, имел множество самых разнообразных знакомцев: и его пол-Риги знало, и он пол-Риги знал. Как на грех, в сыскной полиции никого не нашлось, зато кузина Луизы Карловны имела жениха, очень почтенного господина, Леопольда Дюрренматта, который служил в нотариальной конторе и занимался купчими на недвижимость. Маркус не раз приглашал помолвленную пару в свой концертный зал – настала пора и жениху кузины оказать хоть какую-то услугу.
Курляндский вице-губернатор князь Николай Дмитриевич Кропоткин, которого лифляндское рыцарство внесло в свои матрикулы и осчастливило его правом именоваться «князь фон Кропоткин», имел земельные владения возле городка Зегевольд, ближе к северу Лифляндии. Городок был известен развалинами рыцарского замка. Князю пришло в голову устроить там знаменитый курорт, и он даже придумал название – Лифляндская Швейцария. Местность действительно была очень живописная.
Для воплощения этой идеи он стал продавать земли обширного Зегевольдского имения рижским богачам под пансионаты и дачи. Маркус знал, что будущий родственник время от времени занимается именно этими купчими, и положил выйти через него на хороших знакомцев князя, и уже через них – на его сиятельство. Судьба несчастной оклеветанной артистки – русской артистки, оклеветанной немцами, – должна была разжалобить Кропоткина. Тут даже его особого вмешательства не требовалось – узнав, что князь заинтересовался делом, сыщики сами постараются действовать разумно и не пренебрегать мелочами, которые бы свидетельствовали о невиновности Селецкой.
Именно в среду, когда ни спектакля, ни концерта не было предусмотрено, Кокшаров принарядился и поехал с Маркусом в Ригу – беседовать с Дюрренматтом.
Нотариальная контора, где он служил, располагалась на улице Валов, очень близко от Рижского вокзала, и, возвращаясь после беседы, в которой были получены кое-какие деловые обещания, Маркус предложил перекусить в ресторане гостиницы «Метрополь». Это было дорогое заведение, но иногда, в пору треволнений, нужно себя побаловать, дать голове отдых от забот, пока будет занят делом желудок.
– А это что? – спросил Кокшаров, указав на трехэтажное здание напротив «Метрополя». Он был в Риге впервые, и ему многое казалось любопытным
– А это наше главное полицейское управление.
– И сыскная полиция тут?
– Раз уж она формально называется сыскным отделением полиции, то, наверно, тут.
– А что, если мы нанесем визит Горнфельду?
Маркус пожал плечами. Ему эта затея не очень понравилась, но Кокшаров вдруг загорелся: подай ему инспектора сыскной полиции, вдруг появились новые сведения, вдруг наметился новый подозреваемый?
Им повезло – Горнфельд сидел в кабинете и сличал донесения агентов.
– Здравствуйте, господа, – сказал он уныло. – Садитесь.
Кокшаров и Маркус сели напротив стола на обшарпанные стулья. Они, видно, предназначались для тех мазуриков и мошенников, которых инспектору приходилось допрашивать.
– Уже который день госпожа Селецкая находится в заключении, – грозно начал Кокшаров, – и мы, не имея никаких сведений о ходе этого дела, хотим привлечь к нему внимание известных в Риге и высокопоставленных особ. Если понадобится, будут привлечены особы, не только в Риге известные. Мы, артисты, имеем связи и в самом высшем обществе, и при дворе. В этой истории есть моменты, которые свидетельствуют в пользу госпожи Селецкой…
– Вот ими я как раз и занимаюсь, – сразу ответил Горнфельд. – Господин Кокшаров, в деле вашей артистки появился, как это по-русски… просвет. Да, в облаках просвет. И как раз там, где его не ждали.
– Что же это такое? – спросил Кокшаров. – Нашлись враги семейства Сальтернов? Выплыли старые счеты?
Он бы на радостях много чего предположил, но Маркус ткнул его локтем. Это означало: замолчи, дурень, не раздражай инспектора. Но Кокшаров был слишком взволнован, да и стремительно вошел в роль – роль знатного человека, который привык диктовать свои условия.
– В доме Сальтернов прислуги было немного – сами понимаете, когда там обитает мнимая сестра… – начал Горнфельд.
– Да уж понимаю!
– Так вот, в доме жила прислуга, которая приехала в Ригу вместе с фрау фон Сальтерн. Это старая женщина, дальняя родственница покойницы. Покойница была к ней сильно привязана, и она также была предана покойнице, эта Вильгельмина Хаберманн. Она, как я понимаю, знала тайну Сальтернов и помогала ее скрывать. Ее допрашивали дважды – и она ни слова лишнего не сказала. Знала ли фрау фон Сальтерн о сношениях Сальтерна с Селецкой – ей неведомо. Собиралась ли фрау встретиться с Селецкой – ей неведомо. Посылала ли фрау той ночью за извозчиком – ей неведомо…
– А извозчика-то, что якобы отвез ночью фрау фон Сальтерн в Майоренхоф, нашли?
Вопрос явно был нетактичным.
– Вы представляете себе, сколько в Риге орманов? – вопросом же ответил Горнфельд. – Полторы тысячи, не считая грузовых. Агенты работают, всех опрашивают, это займет время. И неизвестно, наняла ли она извозчика или с кем-то, имеющим лошадь, тайно сговорилась. Хаберманн на вопрос о таких знакомцах ответила одно – ей неведомо. Простые люди, особливо старухи, часто при одном слове «полиция» так пугаются, что произносят лишь слово «нет» – нет, не видел, не слышал, не знал. Им кажется, будто это надежнее. Если ей поверить – выйдет, что фрау Сальтерн из дому той ночью вообще не выходила, а тело перенеслось на штранд по воздуху.
Горнфельд впервые посмотрел на посетителей с интересом, и они, к счастью, сразу разгадали этот интерес: инспектор хотел убедиться, что они оценили шутку.
– Понятно, – улыбаясь и кивая, согласился Кокшаров.
– Мы полагали, что это обычный страх глупого свидетеля на первом и даже на втором допросе. Мы хотели дать Хаберманн время, чтобы опомниться и успокоиться. Мы просили Сальтерна оказать на нее влияние. Так вот, прислуга пропала, – сообщил Горнфельд.
– Как – пропала?
– Исчезла. Вещи на месте, женщины нигде нет. И это наводит на мысль, что она знала кое-что любопытное про убийство, потому и пропала.
– Я же говорил вам, что убийца – сам Сальтерн! – обрадовался Кокшаров. – И у него есть собственный автомобиль, на котором он мог ночью приехать в Майоренхоф…
Тут Кокшаров осекся – и впрямь, зачем бы Сальтерну оставлять тело там, где оно наведет на мысль о виновности его любимой женщины?
– А я полагаю, что не мог он заколоть жену шляпной булавкой, – отвечал Горнфельд. – Это неподходящее орудия для убийства супруги.
– Не мог – а заколол! Впрочем, мне до него дела нет, пусть это будет не Сальтерн, пусть кто-то другой, лишь бы не Селецкая! – таким манером Кокшаров загладил свою глупость.
– Кроме Хаберманн, которая была чем-то… помесью? Няньки и горничной. Кроме нее в доме жили старый служитель, кухарка, еще девица для черной работы, латышка, Ильза Круминг.
Латышскую фамилию инспектор произнес на немецкий лад.
– Не много для такого богача, как Сальтерн, – заметил Кокшаров, для которого понятие «богач» означало взбесившегося от невозможности истратить все свои миллионы нижегородского купчину.
– И богатый человек должен быть разумен. Когда Сальтерн и покойница устраивали дома приемы, они брали прислугу из ресторана и там же угощение заказывали. Можно устроить так, что получится недорого. Механик для автомобиля получал небольшой ежемесячный оклад денежного содержания, большую уборку весной и осенью делали женщины из соседнего дома, которым фрау Сальтерн доверяла. Если швыряться деньгами, очень быстро перестанешь быть богатым, – нравоучительно сказал Горнфельд. – Все эти люди опрошены. У Хаберманн в Риге почти не было знакомых, она иногда ходила в кондитерскую со вдовой Вейнбранд, которая держит бакалейную лавочку. Еще она была прихожанкой старой Гертрудинской церкви. Опрошено восемнадцать человек, никто не знает, куда бы Хаберманн могла исчезнуть. Селецкая дала показания: она не знакома с Хаберманн, но со слов Сальтерна знает, что эта особа имеет некоторое влияние на фрау Сальтерн и даже на самого хозяина.
– А Сальтерн что говорит?
– Сальтерн клянется, что сам ничего не понимает. Если бы не булавка, а хотя бы кухонный нож, то он был бы у меня главным подозреваемым. Теория может быть такой – Хаберманн знала о каком-то рижском недоброжелателе своей хозяйки. Опасаясь, что она заговорит, ее похитили или даже убили. Пренебрегать таким фактом, как исчезновение прислуги, нельзя. Предположить, что ее где-то спрятал сам Сальтерн, чтобы спасти ее жизнь, можно…
– Ну так допросите как следует Сальтерна!
– За ним установлено скрытое наблюдение. Вот все, что я могу вам сказать, господа. Следствие продолжается.
Это означало: мне нужно дальше работать, и я хотел бы надеяться, что вы не поторопитесь с привлечением к делу знатных и высокопоставленных особ.
Маркус с немалым трудом увел Кокшарова из кабинета.
Селецкая содержалась в недавно построенной Центральной губернской тюрьме на Малой Матвеевской, за кладбищем. Было это на краю Московского форштадта. Кокшаров с Маркусом взяли извозчика и поехали сперва в Гостиный двор – собирать передачу. Луиза Карловна уже ездила в тюрьму и привезла артистке все необходимое, но Кокшаров хотел показать, что он Валентиночку в беде не бросает.
Ни Кокшаров, ни Маркус в тюрьме отродясь не сиживали и нужды страдальцев представляли себе теоретически. Но у них хватило ума купить Валентине чай – удалось найти знаменитый «Русский чай Дядюшкина», получивший золотую медаль на Парижской выставке, – сахар, баночку меда, баранки, кусок швейцарского сыра. Отчего-то Кокшарову втемяшилось в голову купить чулки, но Маркус его угомонил, сказав, что дамскими мелочами пусть лучше заведует его супруга. Тогда Кокшаров купил шерстяной павловопосадский платок, темно-вишневый, с турецкими огурцами.
Свидание с Селецкой вышло совсем коротким – артистка попросту расплакалась, и надзирательница ее увела, не столько из строгости, сколько из милосердия.
– Не поехать ли к Сальтерну? – спросил Кокшаров.
– Незачем! – чуть ли не заорал Маркус. – Ну, подумай, чем Сальтерн-то может помочь? И, между прочим, если Валентиночка не виновата – то, скорее всего, виноват он сам.
– Чертов бюргер… Но булавка?.. И он же здоровенный детина! Отчего он не уволок тело ну хоть в дюны?..
– Высматривай извозчика, а то на поезд опоздаем.
Расписание поездов Маркус, как многие рижане, странствующие меж городом и штрандом, держал в записной книжке.
Уже в вагоне Кокшаров принялся рассуждать о положении Селецкой и сделал вывод: в поисках пропавшей то ли няньки, то ли горничной полиция может напасть на след истинного убийцы, который вовсе даже не Сальтерн, а кто-то еще – может статься, житель штранда, со злым умыслом подбросивший тело в беседку.
– Вся надежда на это, – в двадцатый раз повторил Маркус. – Майоренхоф, нам выходить.
На дачах царили тишина и относительный покой – дамы чистили перышки перед грядущими концертами и спектаклями; Славский, Лиодоров и Водолеев ушли в баню; Енисеев учил Алешу Николева петь «Серенаду» Шуберта по-немецки.
Лабрюйер и Стрельский играли на веранде в шахматы, причем Стрельский явно выигрывал, а Лабрюйерова голова была занята чем-то другим. Увидев Кокшарова с Маркусом, все засуетились, поспешили к ним с единственный вопросом: ну как?..
– Есть надежда, господа, есть надежда! – отвечал Маркус. – Никто мою супругу не видел?
– Она на дамской даче.
Кокшаров наскоро сообщил о визите в полицию и о пропавшей прислуге. Маркус ушел искать жену, Николев, которому немецкая серенада малость надоела, увязался за ним – в надежде проникнуть в комнату невесты. Он подозревал, что не всеми правами жениха пользуется, ему хотелось целоваться за жасминовым кустом или поздно вечером в дюнах.
От новости, рассказанной Кокшаровым и Маркусом, Лабрюйер помрачнел. Партию он сдал, сделав совершенно нелепый ход, к большому восторгу Стрельского.
– Этому ходу вообще нет оправдания, – заметил старик. – Никаким количеством водки его не объяснить.
– Я сегодня не в шахматном настроении. Господин Кокшаров, я имею вам сообщить нечто важное, – сказал Лабрюйер. – Наедине. С глазу на глаз. Так что попросите этих господ выйти ненадолго.
– Экие у нас тайны мадридского двора, – высокомерно заметил Енисеев.
– Если вы, молодой человек, опять влипли в неприятности, то сию тайну мы завтра из газет узнаем, – добавил обиженный недоверием Стрельский. – И даже увидим фотографии.
И они вышли с подозрительно независимым видом.
– Ну, что вы еще натворили? – спросил недовольный Кокшаров.
– Я воспользовался своими старыми связями и поговорил с Минной Хаберманн.
– Хаберманн?.. Постойте! Где, как? Вы что, нашли ее?!
– Ну… можно сказать и так… – Лабрюйер отвел взгляд, но ненадолго.
– Где и как вы ее нашли? – строго спросил Кокшаров. – Нужно же немедленно сообщить полиции!
– Нет, вот как раз полиции ничего сообщать не надо, – твердо ответил Лабрюйер. – Потому что я тогда не поручусь за жизнь старушки. Сперва мы должны сами разобраться в этом деле. Но я затем хотел говорить с вами наедине, что нужно дать Хаберманше убежище. Она потому лишь еще жива, что после смерти хозяйки не выходила из дома.
– Как вы это себе представляете?
Кокшаров был не на шутку сердит – ему только склоки с местной полицией недоставало.
– А что тут представлять? Вы же видите, какая тут, на штранде, архитектурная мода – витражики дешевые из цветных стеклышек и башенки. Если у дачи нет веранды с витражами и этой дурацкой башни на одном углу, так это уже не дача, а недоразумение. Уважающий себя столичный дачник такую халупу не снимет. Так вот, в доме, который мы занимаем, вот в этом самом доме, тоже есть башенка, в которую можно попасть из гостиной на первом этаже – той, где спим мы со Славским. Пространство в башне такое, что разве стол и два стула поместятся. Но, скажем, барышня Оленина могла бы там соорудить себе ложе – с ее крошечным росточком.
– Вы к тому клоните, что хотите поселить в башне Хаберманшу? – изумился Кокшаров.
– Да уж поселил.
– Что?!
– Там же, над башней, купол есть, а между куполом и первым этажом – что-то вроде чердака. Если приставить лестницу к крыше, то даже дама легко вскарабкается – лазят же они на чердаки с корзинами мокрого белья, и ничего, управляются.
– Какие, к черту, корзины?! – взревел Кокшаров. – Вы хотите сказать, что вон там сидит сейчас эта старуха?!
Он ткнул пальцем вверх и наискосок.
– Да, господин Кокшаров, именно она там сидит. Я добыл для нее одеяла, дал ей кувшин с водой и корзинку с продовольствием. У нее с собой молитвенник…
– Вы с ума сошли!
– Нет.
Уж что-что, а говорить «нет» Лабрюйер умел. И это чувствовалось.
– Немедленно снимите старуху с чердака и отправьте в полицию.
– Нет. Пусть пока там посидит. Видите ли, господин Кокшаров, ей нужно вспомнить слова своей покойной госпожи очень точно. Да вы садитесь, в ногах правды нет.
– Господин Гроссмайстер! – по такому случаю Кокшаров даже настоящую фамилию Лабрюйера вспомнил. – Мне дела нет до покойниц и до их прислуги! Если вы не сдадите старуху в полицию – это сделаю я!
Он устремился к двери, распахнул ее – и уперся лбом в плечо Енисеева. Тут же находился Стрельский с перепуганной рожей.
– Вы подслушивали! – крикнул он. – Ну что это такое?! К черту! Стрельский, все из-за вас! Калхас чертов! Навязали мне на шею свою «Прекрасную Елену»! К дьяволу! Я снимаю ее с репертуара! Господа Аяксы, вы оба свободны! Убирайтесь ко всем чертям!
– Боже мой! – завопил Стрельский вслед выбегающему с дачи Кокшарову. – При чем тут Оффенбах?! Иван, ты в корне неправ!
Енисеев расхохотался.
– Вот ведь дьявольщина, – сказал он. – Раз в кои веки решил сделать артистическую карьеру – и полный провал! Нужно телефонировать репортерам – пусть повеселятся.
– Нет, – ответил Лабрюйер. – Вы все слышали?
– Полагаю, что все.
– Про старуху на чердаке мы разобрали, – добавил Стрельский. – Послушайте, мой юный друг, отдайте вы старую ведьму полицейским.
– Этого нельзя делать, Самсон Платонович. По весомой причине.
Лабрюйер вдруг сделался хмур, как осенняя туча.
– Лично я таковой причины не вижу, – заметил Енисеев. – Для чего вы ее спрятали – понятно. Вы уводите следствие от Валентиночки. Сие похвально. Однако, если старуха действительно знает что-то важное, нужно передать ее следователям…
– Нет, говорю вам. Я сам с ней разберусь.
– Вообразили себя Пинкертоном?
– Вы не знаете рижской полиции. При господине Кошко это была лучшая городская полиция Российской империи, а теперь… теперь… Никто не будет заниматься перепуганной старухой, понимаете? Ее только еще больше запугают! У них же есть Селецкая! У них же драма страсти, кошмар ревности! Актриса-убийца! Вся Рига в восторге! – выкрикнул Лабрюйер. – Горнфельд уже ходит индюком, он уже всем репортерам рассказал, как напал на след Селецкой! И очень складно рассказал, вы уж мне поверьте!
– Горнфельд? – переспросил Стрельский.
– Ну да, он занимается этим делом. А он – индюк, понимаете? Надутый индюк! Это его бенефис! Раскрыть убийство тайной жены самого фон Сальтерна и предъявить Риге убийцу-актрису! Да он об этом с пеленок мечтал! А изволь вести следствие о жестяном ведре, похищенном у дворника Берзиня! А тут – актриса, красавица! Смерть от шляпной булавки! Да он своими руками удавит Минну Хаберманн! Чтобы ее показания не заставили двигаться в другом направлении, тратить время и силы!
– Ничего себе! – изумился Стрельский. Енисеев же очень внимательно смотрел на Лабрюйера и даже не пытался вставлять язвительные колкости.
– Я сегодня смотрел газеты – всюду его рожа! «Инспектор Горнфельд раскрыл убийство века!» Думаете, после такого взлета он захочет кувырнуться вниз? Теперь поняли, отчего я решил спрятать Хаберманшу?
– Теперь поняли, – ответил Енисеев. – Только нашему хозяину сейчас лучше этого не объяснять.
– Он вам больше не хозяин, поскольку вы оба уволены, – напомнил Стрельский.
– Он бросил Кокшарову с Маркусом кость – нате, подавитесь и успокойтесь! Думайте, будто полиция всерьез ищет пропавшую старуху, а вместе с ней – доказательства невиновности Селецкой, и не ходите никуда жаловаться! Он решил потянуть время – а за это время найдется какой-нибудь орман, который побожится, что ночью вез фрау Сальтерн в Майоренхоф! Мало ли их подрабатывают осведомителями? А осведомитель чаще всего, было бы вам известно, у полиции на крючке, и сведениями расплачивается за то, чтобы его не трогали…
– Похоже, вы в полицейских интригах лучше понимаете, чем в шахматах. И успокойтесь, ради бога, – сказал Стрельский. – Вы же не хотите, чтобы весь штранд знал, что у нас на чердаке сидит старуха.
Лабрюйер посмотрел на него взглядом рассвирепевшего кота, готового вцепиться в морду огромному псу. Стрельский усмехнулся и покачал крупной седой головой.
– Послушайте, Стрельский… Вы… вы точно на моей стороне? – спросил пораженный догадкой Лабрюйер.
– Мне жаль бедняжку Валентиночку, – ответил старый актер. – И если вы с таким пылом взялись за розыск – может статься, у вас что-то и получится. Енисеев, а вы?
– Я могу обещать разве что свое молчание, господа… пока трезв! – уточнил Енисеев.
– И на том спасибо! – с артистически сыгранной иронией ответил Стрельский.
Глава двенадцатая
Когда Кокшаров привел дворника с приставной лестницей и заставил его вскарабкаться на чердак, никакой старухи там уже не было.
– Что это значит?! – спросил антрепренер. – Лабрюйер! Вы мне голову морочили?!
– Я уговорил его отвести фрау Хаберманн в полицию, – вместо Лабрюйера ответил Стрельский. – Моего совета молодой человек послушался. И хватит тебе, Иван, вопить и буянить. Я в кассу заходил – так билеты на три ближайших спектакля распроданы. Без Аяксов тебе не обойтись. Прости дураков, Иван! Они больше не будут!