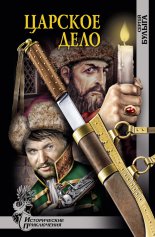Аэроплан для победителя Плещеева Дарья

– Господину Лабрюйеру не надо тратить деньги в аптеке, когда есть средство дешевле и полезнее.
– Что же это за средство?
– Мазь, которую конюхи готовят для лошадей. Не смейтесь, пожалуйста, мы все, когда нужно это средство, едем на ипподром и покупаем у конюхов. Она, правда, ужасно пахнет. Но старые конюхи умеют делать такую мазь, что хромая лошадь выздоравливает за сутки или немного больше. Что полезно лошади, не может быть вредно человеку!
– И что же, там все конюхи этим занимаются? – спросил удивленный Лабрюйер. Он полагал, что знает все причуды рижской жизни; оказалось, была еще и лошадиная мазь…
– Конюха зовут Карл, Карл Авотинг. Я у него брала. По-немецки говорит, но плохо. Если сказать, что мазь для лошадиных ног – он поймет. Только ее нужно долго и старательно втирать. Он этого не объяснит, но я знаю. Когда втирают – больное место разогревается и боль уходит.
– Прекрасно, – сказал Лабрюйер. – Фрау Магда, мы сделаем так. Сегодня господин Стрельский принесет мне совсем немного человеческой мази, а завтра я поеду за конской. Очень вовремя фрау про нее сказала, я теперь ваш должник. Фрау Магде угодно настоящий штрудель из кондитерской Отто Шварца?
– Настоящий штрудель нужно есть у Отто Шварца, пока он теплый. Разогревать еду вредно.
– А берлинеры с клубничным вареньем? Настоящие берлинеры? А баварские булочки?
– Господин Лабрюйер, наверно, не знает, что их запекают в большой чугунной сковородке с крышкой, в горячем молоке, и тоже подают теплыми.
– Было бы рождественское время – я привез бы вам баумкухен.
– В Риге не умеют делать правильный баумкухен. Его пекут в жестяной форме, а надо – на вертеле, над огнем. Я и сама, наверно, не сумею, а покойная бабушка могла…
– А, я придумал! Бутылочку самого лучшего алаша! У меня есть знакомый аптекарь, который сам потихоньку делает ликеры, я у него возьму. Фрау будет пить кофе с алашем и вспоминать меня.
С такими женщинами, как пожилая и жизнерадостная фрау Магда, Лабрюйер чувствовал себя легко, даже шутил, зная, что шутки будут приняты благосклонно.
– Господин Лабрюйер, наверно, слыхал ночью гром, как будто палили из винтовки, – немного смутившись, сказала фрау Бауэр. – Что это такое было?
– Воры лезли к кому-то, – без зазрения совести соврал Лабрюйер. – С утра приезжал Шульц и рассказал. Вон в тот дом вроде бы они хотели забраться.
И махнул рукой в сторону загадочной дачи.
– Так вот в чем дело, – сказала фрау. – Соседка сдала комнаты даме с детьми и одинокой даме. Сегодня она приходила ко мне в расстройстве – одинокая дама собрала вещи и уехала, не предупредив. До такой степени перепугалась, представляете – ночью стрельба, злодеи лезут в дом. Но соседка об этом ничего не говорила.
– И не заплатила за комнату? – увиливая от объяснений, спросил Лабрюйер.
– Нет, за комнату она как раз заплатила до августа. Она говорила, правда, что может уступить на время комнату своему брату, но отчего бы не предупредить?
– Главное – что соседка не понесла убытка, – нравоучительно заметил Лабрюйер. – Особы, которые летом сдают комнаты, должны быть очень осторожны.
– Да, да!
И ему пришлось выслушать путаную историю о семействе, которое сбежало, не заплатив, было найдено случайно, преследовалось чуть ли не до Либавы, и понять итог дела он не сумел, как ни пытался.
Стрельский принес баночку мази, Лабрюйер растер ею ногу, сам ее перебинтовал, как умел, а вскоре приехали Славский и Водолеев.
– Он самый, – сказал Славский. – В моем пиджаке и жилете!
– И в моих запонках, – добавил Водолеев. – Предлагаю деньги, собранные для Валентиночки, пустить на похороны. Потому что второй такой царский жест мне уже не по карману.
Глава двадцать четвертая
Если бы в этот вечер был спектакль или концерт – публика освистала бы кокшаровскую труппу, потому что настроение у артистов было препоганое. Приехал Маркус, заперся с Кокшаровым, они судили и рядили, как быть. Селецкая еще в тюрьме, Енисеев сбежал, Полидоро – также, Лиодоров мертв, Лабрюйер охромел, а Тамарочка сидит в башне на чердаке и боится слезать, потому что ей примерещились какие-то выстрелы. И кто же способен выйти на сцену? Эстергази во всем блеске огромных стразов, почтенный Стрельский, неопытный Николев и Андриан Славский, который и собой хорош, и поет неплохо, но в одиночку концерт не спасет.
По всему выходило, что нужно Маркусу искать еще кого-то, чтобы зал в самое бойкое время не простаивал зря.
Лабрюйер телефонировал знакомцу, владельцу синего «Руссо-Балта», и просил его не просто приехать утром, а привезти с собой газеты с автомобильной рекламой. Он знал, что энтузиасты, для которых двигатель внутреннего сгорания затмевает солнце и луну, собирают всякую печатную бумажку с упоминанием автомобилей, а шофер как раз и был энтузиастом.
Одновременно артисты занимались похоронными хлопотами. Решили, что отпевание будет в дуббельнской церкви, и там же можно договориться с кладбищенским смотрителем о могиле. Лабрюйер не смущал труппу домыслами о причине смерти, а доковылял до дачи на Йоменской, где жило семейство любителей театра, которое познакомилось с артистами. Там тоже имелся телефонный аппарат, и Лабрюйер полдня искал Линдера.
Наконец он узнал правду. Водолеев погиб примерно так же, как фрау фон Сальтерн, в сердце ему вонзили узкий и тонкий клинок, наподобие стилета, а тело выбросили в реку, по соображениям полицейских медиков – рано утром, а по расчетам Линдера – с моста, но убийцы не знали, каково течение Курляндской Аа, и не предполагали, что покойника довольно скоро выкинет на берег.
Чего и следовало ожидать, сказал сам себе Лабрюйер, чего и следовало ожидать…
На душе было тошно. Если схема, выстроенная им, верна, то он стал невольным виновником смерти артиста. Кто же другой спровоцировал Лиодорова начать осаду красавицы-соседки? А красавица, у которой рыльце было в пуху, не стала дожидаться, пока новоявленный кавалер узнает о ней побольше и доложит Лабрюйеру. Может, сама и отправила на тот свет.
Что же это за шайка такая? Главарь, очевидно, Енисеев – он очень ловко устроился, прибыв из Москвы уже под фальшивым актерским именем. Пособницы – Полидоро и красотка-соседка. Затем – тот, кто был за рулем «катафалка», как обозвала черный автомобиль Танюша. Шофер уж точно член шайки. Четверо… маловато, должны быть еще мужчины…
Речь идет не о больших, а о каких-то совсем гигантских деньгах, если шайка так легко расправляется с людьми. Вывод – нужно перепрятать старушку Хаберманн! И поскорее!
Лабрюйер опять телефонировал в сыскную полицию. Оказалось – Линдер уже подумал об этом. Была у него на примете квартира, где проходили иногда тайные совещания сыщиков и устраивались засады. Отчего бы там не пожить доброй женщине, которая при всей своей пугливости набралась отваги и опознала Дитрихса? Договорились, что рано утром Лабрюйер довезет ее до Зассенхофа и сдаст с рук на руки агенту Фирсту, которого пришлет к ипподрому Линдер.
Пока Лабрюйер занимался всеми этими делами, наступил вечер.
Печальный это был вечер. Артисты собрались на веранде дамской дачи и говорили о Лиодорове. Вспоминали его роли, его амурные победы, пытались понять – был у него ребенок от той худенькой блондинки в Ростове или дело ограничилось сплетнями. Естественно, немного выпили – как не выпить за упокой актерской души? И уныло разбрелись по своим комнатам.
Лабрюйер собирался встать пораньше – шофер обещал приехать из Риги часов в семь утра. Нужно было не только самому хоть чашку кофе выпить, но и вытряхнуть из постели Стрельского, который тоже пожелал встретиться с конюхом: ему не давали покоя какие-то ревматизмы.
Но не вышло.
Он как-то проворонил момент, когда Терская увидела Танюшу в окошке башенки. И их первый разговор, когда Терская еще очень миролюбиво уговаривала девушку слезть, проворонил. Естественно, актриса не поверила, что в Танюшу стреляли. На закате она опять пришла выманивать юную артистку из убежища, обещая ужин, конфеты и новую бледно-лиловую блузку. Как вышло, что они разругались в пух и прах, – сами потом не смогли бы объяснить. Скорее всего, стали припоминать друг дружке давние грехи.
Танюша в качестве главного и самого страшного аргумента привела свое замужество. Терская упрекнула ее в бесстыжей лжи и побежала искать Николева. Алеша страшно обрадовался, факт венчания подтвердил и, воспользовавшись благоприятной для него обстановкой, тоже забрался в башенку.
Лабрюйер поневоле слушал крики Терской, умиротворяющий бас Кокшарова, восторги Эстаргази и неуемный громовой хохот Водолеева. Потом все стихло – молодые остались в башенке, Терскую Кокшаров забрал к себе, Водолеев вспомнил, что в труппе траур, и пошел допивать со Славским кюммель.
Потом явились какие-то лица из прошлого, какие-то генеральские голоса принялись ругать Лабрюйера за непонятные грехи, и все это, к счастью, прервалось стуком в окошко.
Лабрюйер сел и выхватил из-под подушки револьвер.
– Александр Иванович! – жалобно позвала Эстергази. – Вы спите? Проснитесь, ради бога! К нам на дачу ломятся злодеи! Я убежала, в чем была…
И точно – она стояла под окном в ночной сорочке, матине с кружавчиками и с полной головой бумажных папильоток.
– Вам не приснилось? – спросил Лабрюйер.
– Какое там приснилось?! Топают, за дверные ручки дергают! Я в окно вылезла… Помогите, Христа ради!
– Хаберманша! – воскликнул Лабрюйер.
– Ей хорошо, она на втором этаже! – не поняв ужаса в голосе, ответила Эстергази.
Лабрюйер попытался, не выпуская револьвера из руки, натянуть брюки. Удалось с трудом. Нога, в которую втерли аптечное средство, уже не очень беспокоила. Взяв фонарик, он вышел во двор и направился к беседке.
– Вы куда? Калитка – вон там! – Эстергази, пытаясь внушить Лабрюйеру верное направление, даже схватила его за руку.
– Мне не нужна калитка.
К врагу нужно подкрадываться как раз с той стороны, откуда он не ждет нападения. Лабрюйер не читал трактата великого китайца Лао-цзы и не знал его стратегем, он сам мог бы написать похожий трактат о выслеживании, засадах и атаках. Следуя общей с китайцем стратегеме, он полез через забор и оказался во дворе дамской дачи.
Никаких злодеев он не услышал – возможно, они заметили, как Эстергази бежит за помощью, и отступили. Или же ворвались на дачу – но почему же там так тихо? Все-таки в доме живет еще хозяйка с семьей – вдовой дочерью и двумя внучками, услышь они что-то подозрительное – подняли бы шум на весь Майоренхоф.
Лабрюйер двинулся вдоль забора с револьвером и фонариком наготове.
Сперва он услышал легкий скрип калитки, а потом увидел человека, который медленно и осторожно входит во двор.
Человек этот был один и двигался так, как если бы шел по льду. Это ему не помогло – он споткнулся и упал на левое колено. Поднимался он с трудом, из чего Лабрюйер понял, что этот злодей немолод и, возможно, тоже нуждается в мазях конюха Карла Авотинга.
Он включил фонарик и направил луч прямо в лицо незваному гостю.
Гость был из той породы мужчин, у кого на лице написана способность отравить занудством и скукой всю окрестность в радиусе пяти верст. Опущенные уголки рта и бровей, оползающие щеки, самые унылые, какие только возможны, усы, глубоко посаженные глаза привели бы в восторг Стрельского – он недавно рассуждал о гриме для передачи мировой скорби.
– Господи Иисусе! – воскликнул мужчина.
– Кто вы такой? – спросил Лабрюйер.
– Я директор костромской мужской гимназии Валевич, а вы кто такой? – вопросом ответил почтенный господин.
– Я Александр Лабрюйер, артист труппы господина Кокшарова, – с издевательской вежливостью, позаимствованной у Енисеева, ответил Лабрюйер. – Что вам здесь нужно?
– Я ищу артистку, госпожу Полидоро.
– В такое время суток? Она что, назначила вам свидание?
– Нет, но я должен видеть ее и говорить с ней.
– Сдается мне, что вы такой же Валевич, как она – Полидоро. Молчите! Ступайте вперед, я пойду следом. При попытке бегства – стреляю.
– Да вы что, с ума сошли? – возмутился почтенный господин. – Да я сам вас в полицию сведу!
– Вот и прелестно, как раз туда я вас и хочу доставить! В Майоренхофский участок.
– За кого вы меня приняли?!
– Да уж никак не за директора мужской гимназии! Идите, идите! Ну?
– Перестаньте блефовать, сударь! Надо же, додумался! «Стреляю!» – господин передразнил Лабрюйера. – Вы не на сцене, милейший! Стрелять он еще будет!.. Вот послал Бог дурака…
– Руки вверх! – приказал Лабрюйер, показав в луче фонарика револьвер. – Вы сейчас с поднятыми руками через весь Майоренхоф у меня пройдете. Директор гимназии! Всяких мошенников видал, иноками притворялись, страховыми агентами, почтальонами, прислугой безместной, дворниками, графами, баронами, но чтоб директором гимназии?!
– Вы с ума сошли!
– А ну, пошел, пошел! Я и до мадам Полидоро доберусь! Ларисочка, где вы там? Будите Кокшарова, пусть телефонирует Линдеру – я сообщника Дитрихса поймал! Пусть свяжется с Майоренхофским участком!
– Я на вас жаловаться буду!
– Тюремному надзирателю! Я вас всех, сволочей, переловлю, – зловеще сообщил Лабрюйер. – И Дитрихса добудем! И мадам Полидоро. И красотку вашу, за которой покойный Лиодоров гонялся.
Очевидно, Валевич решил, что невысокий рыжеватый крепыш, явно охваченный безумием, легкий противник для него, мужчины высокого и крупного. Не тут-то было.
Он, шагнув вперед, попытался ухватить Лабрюйера за правую руку, чтобы отнять револьвер. Замысел был глупейший – Валевич и сам не понял, отчего рухнул на колени, потом – на живот, откуда взялась на спине болезненная тяжесть. А это Лабрюйер поставил ногу ему меж лопаток и нагнулся, чтобы вывернуть своей добыче руку.
– Лабрюйер, не надо! – раздался женский голос. В луче фонарика, аккуратно уложенного на траву, явилась Генриэтта Полидоро.
– Вот прекрасно, – сказал Лабрюйер. – Птичка попалась. Лариса, будите всех!
Он взял артистку на мушку. А по спине Валевича топнул, отчего директор мужской гимназии вскрикнул.
– Какой ужас! – закричала Полидоро. – Не трогайте его! Этот тип – мой муж! Ну да, что вы так на меня уставились? Я замужем за старым, гнусным, занудливым типом! Это позор всей моей жизни! Он и сюда за мной притащился! Ну что вы так на меня смотрите, господин Валевич?! Мне что – от вас в Америку бежать? В Африку? К голым дикарям? На Северный полюс?
– Ты моя жена, Лукерья, – прохрипел на это Валевич. – И я как муж настаиваю, что ты должна жить со мной.
– Я тебе уже сказала, тиран и мучитель, что в Кострому не поеду. Мое назначение – театр! И какая я тебе Лукерья? Забудь Лукерью, нет больше Лукерьи! Боже мой, Лабрюйер, вы посмотрите на него!
– Лабрюйер? Это из курса французской литературы времен Людовика Великого, – не в силах удержать эрудицию, прокомментировал Валевич. – Лукерья, я прошу тебя, брось этот вертеп разврата, поедем со мной. Ты три года была актрисой, теперь время опомниться и прийти в разум…
– Да я только тогда пришла в разум, когда от тебя убежала! Лучше помереть под забором от чахотки, чем к тебе вернуться! – воскликнула Полидоро, и в ее голосе была неподдельная искренность.
Лабрюйер, французской литературы не учивший и понятия не имевший, из каких дебрей памяти добыл для него Кокшаров этот звучный псевдоним, смотрел на супружескую чету с великим подозрением: не ломают ли злоумышленники перед ним комедию. Но Генриэтта, кажется, не врала: так яростно ненавидеть можно лишь нелюбимого мужа. Да и Валевич соответствовал ее описанию: стар, гнусен, занудлив.
– Госпожа Полидоро, откуда у вас этот псевдоним? – строго спросил Лабрюйер. – Вы ведь не Полидоро, настоящая Полидоро сейчас в Санкт-Петербурге. Что это за игры?
– Ах, неужели трудно понять? – высокомерно спросила Лукерья Валевич. – Мы встретились с Генриэттой, когда ее бросил этот мерзавец. Она хотела скрыться от всех! Ей были нужны деньги, мне было нужно другое имя. Я купила у нее имя, понимаете? Имя известное, его антрепренеры знают! Она мне его за двести рублей уступила! Я стала Генриэттой Полидоро – и он потерял мой след!
Она указала на мужа.
– Но если это правда – почему вы сбежали, когда был разоблачен Енисеев? Молчите? Кокшаров! Стрельский! Куда вы запропали?! Лариса, тащите их сюда! Сейчас мы эту парочку сдадим в полицейский участок!
Угроза возымела действие – Полидоро рухнула на колени.
– Ни за что! – крикнула она. – Скорее я повешусь!
– Но если вы не виноваты?..
– Вы что, не понимаете? Меня из участка так просто не выпустят! Меня мужу отдадут! Он только этого и добивается! Он для того и на дачу ломился, чтобы явилась полиция и нас обоих арестовали! Он же мне – муж! Глава семьи! Он меня выслеживает, как ищейка! Боже мой, почему я еще жива?! Почему я должна скрываться от этого чудовища?!
– Прелестно, прелестно! – услышал Лабрюйер за спиной знакомый выразительный голос. – Генриэтточка, я всегда говорил, что у вас прекрасное будущее! Сколько силы, сколько чувства! Истинная страсть! Браво!
И Стрельский зааплодировал.
Окруженная товарищами-артистами, Генриэтта рассказала свою печальную историю: брак по воле самодуров-родителей, смертная тоска в доме и на супружеском ложе, побег, необходимость скрываться от супруга, тайный сговор с подлинной Генриэттой Полидоро, которая, кстати, на самом деле – Фекла Куропаткина. И прочие события – вплоть до вчерашнего дня, который она провела на даче у новых знакомых, вечером же, дождавшись темноты, пошла вызволять свои чемоданы, чем смертельно перепугала Эстергази.
– Иван Данилович, я вас умоляю – не гоните меня! – воззвала она. – Эта беда завершится в последних числах августа – и я буду свободна от своего злодея!
– Он вроде помирать не собирается, – заметил Кокшаров. – Вы, кажется, хвастались, что носите с собой цианистый калий?
– Да нет же, какой калий? Я и не знаю, что это такое! Просто он, мой мучитель, по должности летом свободен, а с конца августа должен уже сидеть в своем кабинете. Он же – директор гимназии! Зимой-то он за мной не побегает!
– Хм… – сказал на это Кокшаров. – Господа, сами видите наше положение. Еще и мадам Полидоро утратить – там нам придется на паперти подаяние просить, изображая слепцов и увечных.
– А публике она нравится, – поддержал Славский.
– И у нее прелестные ножки, – добавил Стрельский. – Иван, будь вершителем судеб человеческих! Не отдавай газель на растерзание индюку!
– Кыш, индюк, кыш! – закричал Савелий Водолеев. – Пошла вон, глупая птица!
Директор мужской гимназии не имел опыта споров с артистами. Он мог призвать к порядку подчиненных – гимназистов и преподавателей. Но эти-то от него не зависели, из его рук не кормились, и родителей, которые устроили бы им взбучку, тоже не имели.
Дальше начался кавардак – Валевича гнали прочь свистом и слали ему вслед разнообразные пожелания.
– Вот такие мы и есть, – сказал Стрельский Лабрюйеру. – А завтра опять разругаемся из-за ерунды. Тонкие души, мой юный друг, весьма, весьма тонкие…
– Он может завтра пойти в участок и наябедничать, – заметил Лабрюйер.
– На здоровье! – от души пожелал Стрельский.
И все отправились спать.
Рано утром Лабрюйер растолкал Стрельского и очень деликатно постучал в дверь фрау Хаберманн. Пока собирались, прибыл синий «Руссо-Балт». Но когда стали в него усаживаться, как два чертика из табакерки, возникли Танюша и Николев. Они держались за руки.
– Александр Иванович, возьмите нас с собой, – попросила Танюша. – Я знаю, вы на ипподром едете. Возьмите, а? Пока Терская спит… Она уже поняла, что возражать бесполезно, только вы же ее знаете – она еще недели две будет сцены устраивать.
– Куда же вас усадить?
– Мы на пол сядем, правда, Алешенька? Я же совсем легонькая, и фрау легонькая, мы с ней вдвоем – как один человек обычного веса. Ну, Александр Иванович!.. Ну, миленький! Ах, какой вы душка!
Танюша даже не по лицу, не по улыбке, а по едва уловимому движению губ поняла, что Лабрюйер не возражает.
Глава двадцать пятая
По дороге Лабрюйер с любопытством поглядывал на Танюшу и Николева. Стрельский задремал, фрау Хаберманн молчала и вздыхала, а эти двое потихоньку переговаривались, причем Алеша даже держал Танюшу за руку.
Насколько Лабрюйер понимал девушку, она чего-то наобещала Николеву, лишь бы не мешал поступить в летную школу.
Когда «Руссо-Балт» катил по мосту, Лабрюйер изучал условия, позволявшие или же не позволявшие сбросить в воду тело. Решил, что раз тело вывозили утром, то вряд ли «катафалк» стал устраивать посреди моста этакое представление, – хотя машин на штранд приезжает немного, где гарантия, что в самую неподходящую минуту вдруг не всползет на мост какой-нибудь старый неторопливый «бенц» и там не застрянет? Опять же, телеги, на которых возят провиант и фураж. Опять же, извозчики… Похоже, «катафалк» съехал на берег и там отправил труп в плавание – потому и не унесло его в залив.
С вечера Линдер и Лабрюйер договорились, что автомобиль к ипподрому подъедет с черного хода – поближе к конюшням и сараям. Мало было надежды, что конюх Авотинг вместе с нарядной публикой сидит на трибуне и таращится на аэропланы. А вот застать его у конских стойл, в манеже или в шорной было куда реальнее. Агент Фирст должен был ждать у тех самых ворот, через которые на ипподром проникла Танюша.
Но его не было.
Лабрюйер достал часы и понял, что «Руссо-Балт» примчался раньше назначенного времени. До появления агента на извозчике было с четверть часа.
– Просыпайтесь, Стрельский, – сказал Лабрюйер. – Фрау Хаберманн, мы пойдем на ипподром и через четверть часа вернемся. Никуда не уходите, вообще не покидайте автомобиля.
– Мне тут стоять? – спросил шофер.
– Тут, Вилли, а что?
– Телеги с сеном тащатся, – со всем презрением владельца автомобиля к гужевому транспорту сказал шофер. – Вон, на повороте. Будут въезжать в ворота – обязательно меня заденут. Я вон там встану.
Вспомнив, что дал Фирсту полное описание «Руссо-Балта», Лабрюйер возражать не стал.
– Когда приедет господин на извозчике и будет меня спрашивать, пусть подойдет. Да, чуть не забыл! Газеты с рекламными страницами!
– Вот, я нарочно вырезаю и складываю в папку.
– Спасибо. Тамарочка, Николев! Стойте!
Пока Лабрюйер говорил с шофером и забирал картонную папку, Танюша увлекла Николева в приоткрытые ворота ипподрома. Лабрюйер вздохнул: умение держать мужчину в послушании девица, как видно, унаследовала от Терской.
– О-хо-хо, – проскрипел Стрельский. – Ну, пойдем искать конского эскулапа…
Как и следовало ожидать, Танюша потащила супруга к ангару и мастерским, где могла с гордостью представить его Зверевой и Слюсаренко. Они сперва шли, потом побежали и скрылись из виду.
– Что там говорил Фальстаф? – вдруг сам себя спросил Стрельский. – «Когда моя талия была не толще орлиной лапы…» Двадцать лет назад и я бы так бегал… А теперь должен брести, как усталый пилигрим…
Лабрюйер не имел дела с Фальстафом, но общий смысл тоски об ушедшей молодости понял.
– И ладно бы по тротуару. А тут ведь – солома вперемешку с навозом, или не солома? – Стрельский комично принюхался.
– Насколько я знаю, в здешних краях часто используют торф. Пошли, пока телеги не притащились. А то придется ждать, пока они проползут в ворота.
Лабрюйер взял из автомобиля свою щегольскую тросточку. Покупал – думал, что с ней будет больше соответствовать образу артиста. А вот ведь и пригодилась.
Войдя на территорию ипподрома, Лабрюйер со Стрельским стазу увидели человека, который мог знать про конюха Авотинга. Навстречу им шел высокий парень с навозными вилами на плече – небритый, в холщовых штанах, опорках на босу ногу, расхристанной рубахе и картузе – вроде тех, которые носят здешние крестьяне.
– Послушай, милейший, – обратился к нему Лабрюйер, и тем разговор кончился: парень замотал головой, замычал, показывая рукой на рот, и все это проделал так выразительно, что Лабрюйер сообразил: это глухонемой.
Парень ушел за ворота – видимо, встречать телеги, а Лабрюйер и Стрельский направились к длинному зданию, которое могло быть только конюшней, прошли вдоль длинной стены с маленькими окошками на высоте головы Стрельского, повернули за угол и заглянули в широкие двери, больше похожие на ворота.
Конюшня оказалась сквозной – в другом торце здания тоже были распахнутые ворота. Там возле шорной собрались мужчины – судя по доносящимся нервным голосам, обсуждали какое-то лошадиное недоразумение. Лабрюйер посмотрел себе под ноги – и понял, что через всю конюшню не пойдет. Попав в кокшаровскую труппу, он с первых же денег принарядился и вовсе не хотел пачкать красивые туфли.
Стрельский был того же мнения.
Пока они обходили конюшню, спор кончился. И у ворот Лабрюйер столкнулся с человеком, вид которого его озадачил.
Танюша, рассказывая, как ночевала в сенном сарае, говорила, что не сразу опознала в человеке с фонариком Енисеева, был под подозрением еще кто-то длинноногий. И вот он явился – в жокейском сюртучке, в высоких сапогах, красивый настолько, что даже Лабрюйер, не склонный восхищаться мужской красой, оценил это.
– Добрый день. Мы ищем конюха Авотинга, – обратился к красавцу Лабрюйер.
– Авотинг в шорной, господа, – любезно ответил красавец и ушел к манежу, где берейторы работали с лошадьми, обучая их брать препятствия, а у ворот собралось несколько всадников на породистых лошадях.
– Аристократ, – заметил Стрельский. – Порода чувствуется.
– Или воспитание.
– Нет, это кровь. Я на всяких франтов нагляделся. Бывает еще, что в простом семействе вдруг девочка или мальчик – словно феи дитя подбросили. Чаще всего этому имеется простейшее объяснение… – Стрельский усмехнулся. – Наш Алоиз Дитрихс, я полагаю, тоже из таких деток. Вырос в занюханном городишке, воспитания почитай что не получил, а какая выправка! Ведь безукоризненно московского недоросля изобразил! А речь какова? Способность к языкам тоже по наследству передается. Покойный Лиодоров никак французский одолеть не мог. А Савелий два дня с цыганами побалакает – и уже сам по-цыгански трещит, с грузинами – по-грузински. Сам не понимает, на что ему от Бога такая способность дадена…
Они вошли в конюшню и опять спросили про Авотинга. Им указали на коренастого низкорослого дедка с желто-седыми усами, в старой тужурке, в высоких сапогах, в фуражке, когда-то бывшей форменной, но лишенной кокарды или хоть бляхи на околыше. Авотинг выслушал Лабрюйера, но окончательно понял – лишь когда Лабрюйер показал на колено Стрельского и свою щиколотку.
– Вы не знаете чухонского языка? – спросил Стрельский.
– Здесь не чухонский, здесь латышский. Я несколько слов употребил, если вы заметили. Но слова «щиколотка» я просто не знаю, и слово «ревматизм» в латышском языке, боюсь, отсутствует, а мазь они сами на немецкий лад называют.
Авотинг пошел в какую-то конурку возле шорной, вынес завязанную тряпочкой стеклянную банку, назвал цену. Мазь действительно оказалась вонючей.
– Лошадям-то все едино, а нам как, этой дрянью намазавшись, на сцену выходить? – спросил Стрельский, пока Лабрюйер расплачивался. – Дамы нас убьют.
– Намажемся на ночь глядя. Авось к утру выветрится.
Ровно пять секунд спустя Лабрюйер понял свою ошибку. Нужно было отложить покупку мази до того времени, как при помощи Танюши удастся хоть что-то выяснить про черный «катафалк». А слоняться по ипподрому, имея при себе такое вонючее сокровище, – сомнительная радость.
Он стоял с банкой в руке возле входа в конюшню и морщился. Стрельский предусмотрительно отошел.
– Посторонитесь, – сказали Лабрюйеру сзади. Он обернулся и понял: посторониться нужно, потому что выводят красивую и игривую кобылку, оседланную дамским седлом.
Среди наездников, составивших Рижское общество верховой езды, были и дамы. Некоторые из них, самые отчаянные любительницы, одевались по-мужски. Но не все хотели хвастаться стройными ножками в кавалерийских сапогах.
Дама, для которой оседлали вороную кобылку, вышла на крыльцо опрятного домика, в котором она переодевалась. На ней была голубовато-серая «амазонка», волосы собраны в плотный узел, черный цилиндр с вуалью надвинут на лоб. Эта тонкая и безупречно одетая дама свысока поглядела на Лабрюйера – и вдруг он вспомнил Лореляй. Та назвала мнимую «Генриэтту» дорогой шлюхой, и Лабрюйер тогда не совсем понял, что имеется в виду; зная Лореляй, можно было подумать, что на «Генриэтте» дорогие украшения и костюм сшит из лучшей ткани. Но вдруг его осенило: именно так и выглядит нынешняя «дорогая шлюха»: ничего лишнего, тонкий стан, узкие бедра, ледяной взгляд, безупречность во всем, ни малейшей попытки употребить средства банальной женственности: все эти ленточки, бантики, кружавчики, драгоценности с утра, румяна для округления щечек. Кто-то другой принял бы наездницу за аристократку, но аристократка нигде и никогда не появляется в одиночестве, при ней всегда двое мужчин-родственников или родственница, возможно – компаньонка. Стало быть – дорогая шлюха… редкая птичка в здешних краях, столичная штучка, пожирательница герцогов и банкиров…
Молодой конюх подсадил ее в седло при помощи «замка» из соединенных рук. Она что-то сказала ему и поехала к манежу, к своим знакомцам.
– Чудная блондиночка, – сказал Стрельский. – И до чего же похожа на нашу соседку – помните?
– Похоже, это она и есть… – пробормотал Лабрюйер. – Проклятая мазь…
Тут до него дошло, что мазь нужно отнести в автомобиль, а заодно и сдать фрау Хаберманн с рук на руки Фирсту, который наверняка приехал.
– Стойте тут, – велел он Стрельскому и дал ему папку с вырезками, – я только отнесу это снадобье…
Прихрамывая и опираясь на трость, Лабрюйер быстро пошел к воротам, держа банку на вытянутой руке. В голове его уже складывался план: изловить Танюшу, показать ей картинки, с самой подходящей обойти весь здешний народ, а Фирсту сказать, чтобы Линдер прислал пару человек на ипподром: кто-то должен взять под наблюдение дорогую шлюху, кто-то – перенять сведения и действия, связанные с «катафалком». И в голове уже складывалась записка, которую Фирст отвезет Линдеру…
Телеги уже вползли, в распахнутые ворота Лабрюйер увидел «Руссо-Балт». Правая дверца автомобиля была отворена, внутри не было никого – ни шофера Вилли, ни фрау Хаберманн.
– Ни черта себе… – пробормотал Лабрюйер и перешел на бег, наподобие вороньей припрыжки.
Что могло случиться? Отчего автомобиль стоит пустой?
Слава богу, следов крови на кожаных сиденьях не было.
Лабрюйер знал Вилли Мюллера не первый день. Это был холостяк, вроде самого Лабрюйера, только помешанный на технике и механике. Если бы понадобилось вылизывать «Руссо-Балт» языком – он бы это делал. Помешательство привело к тому, что он, купив автомобиль, оставил докучную должность бухгалтера и зарабатывал на жизнь частным извозом: имел свою клиентуру, выполнял поручения инспекторов сыскной полиции. Лучшим же занятием для него было – участвовать в обкатке новых моделей «Руссо-Балта», для которой его и еще несколько таких же фанатиков особо приглашали. Что могло заставить его бросить автомобиль – Лабрюйер и вообразить не мог.
Он обошел «Руссо-Балт» и никаких следов побоища не обнаружил.
Со стороны Анненхофского переезда послышался стук копыт. Из-за поворота появилась бричка ормана. Через две минуты она остановилась возле «Руссо-Балта», и наземь соскочил Фирст.
– Доброе утро, господин Гроссмайстер. Где почтенная фрау?
– Здравствуйте, Фирст. Ничего доброго в этом утре нет – фрау пропала, и Вилли Мюллер – с ней вместе. Нужно искать.
– Давно?
– Не более четверти часа назад. Я пошел на ипподром, фрау Хаберманн осталась под присмотром Вилли. Вернулся – их нет.
– Когда я ехал сюда – по дороге встретил только крестьян на телегах и с тачками.
– Значит, они не по дороге убежали, а по тропинкам. Или их увели, что скорее…
– Или увезли. Я ничего подозрительного не заметил – но их могли увезти по Апузинской улице.
– Где тут Апузинская?
– Да мы на ней стоим. Это ее продолжение.
– Этого еще не хватало. Значит, за нами следили… Фирст, вы поедете сейчас по Апузинской и будете расспрашивать всех, не проезжал ли черный автомобиль, похожий на катафалк. Может, кто-то и пассажиров в этом катафалке заметил.
– Будет сделано. А правду говорят, что вы к нам возвращаетесь?
Лабрюйер понял: он распоряжался агентом, как в старое доброе время, когда служил в сыскной полиции, отсюда и вопрос.
– Я еще не решил точно. Вперед, Фирст.
Из ипподромных ворот выехала кавалькада – семеро всадников, в их числе красавчик и дорогая шлюха. Они направились к переезду. Лабрюйер догадался – хотят, минуя Анненхоф и Дамменхоф, выехать в Клейстский лес, где замечательные холмы и тропинки. Кататься там – одно удовольствие, можно доехать до Клейстенхофа и провести пару часов на свежем воздухе с пользой для здоровья…
Сам он был к лошадям равнодушен – да и вообще к животным. Вконец обнаглевшие белки, которых прикармливали дачники, его даже раздражали. Как можно целый час бродить по пляжу и кидать чайкам кусочки хлеба – он не понимал. Идеальная фауна штранда в его понимании была исключительно жареной или копченой. Правда, дважды в жизни он садился в седло: один раз вместе с приятелями попал в гости на мызу к какому-то страстному коневоду, другой – ведя следствие о поджогах под Венденом, не имел другой возможности доехать до железнодорожной станции.
Красавец-всадник ехал последним и с высоты седла, к которой прибавлялся его немалый рост, очень внимательно посмотрел на Лабрюйера. Взгляды встретились.
Очень это Лабрюйеру не понравилось. Всадник словно спрашивал: что тут у вас стряслось, плебеи? Но затевать ссору было бы нелепо. Кавалькада шагом удалилась, всадники ехали попарно, подозрительный красавчик – замыкающим. Он обернулся, потом послал коня вперед и возглавил кавалькаду.
– А если их увезли на верховых лошадях? – спросил Лабрюйер. – Тогда это может быть тропка вдоль железной дороги…
– Это может быть что угодно, – сказал Фирст. – Так я еду?
– Да, и поскорее. А я пойду искать следы на тропке. Там земля убитая – возможно, отпечатались подковы.
Безмолвно выругав себя за то, что не прихватил револьвер, Лабрюйер пошел искать за кустами ту самую тропку, которой пользовались пешеходы и велосипедисты.
Железнодорожное полотно было на невысокой насыпи, поросшей неизвестными Лабрюйеру кустами. И первое, что он обнаружил, – несколько кустов было вырвано с корнем, у других – сломаны и ободраны ветки. Листья еще не завяли – значит, сражение с кустами произошло недавно.