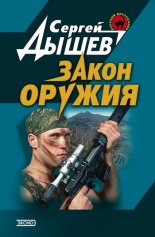Тайный брат (сборник) Прашкевич Геннадий

«Солнце его отец. Луна мать его. Ветер вынашивает его во чреве своем. Земля вскармливает его. Только он – первопричина всякого совершенства».
«Мощь его есть наимощнейшая мощь, и даже более того, она явлена в безграничии своем на земле».
«Отдели же землю от огня, тонкое от грубого с величайшей осторожностью, с трепетным тщанием».
«Тонкий, легчайший огонь, возлетев к небесам, тотчас же снизойдет на землю. Так свершится единение всех вещей – горних и дольних. И вот уже вселенская слава в дланях твоих. И вот уже – разве не видишь? – мрак бежит прочь».
«Это и есть та сила сил и даже еще сильнее, потому что самое тончайшее, самое легчайшее уловляется ею, а самое тяжелое ею пронзено, ею проникновенно. Так все сотворено».
Ганелон читал, и душа его плакала.
Я глубоко несовершенен, я ничтожен. Я мало понимаю. Мне чужды иные слова. Но разве совершенен тряпичник-катар, называющий себя чистым и совершенным? Разве чист и совершенен маг и еретик, дышащий душными испарениями дьявольских трав? Разве совершенен трубадур, поющий любовь греховную? Музыка вообще влияет на нравы людей, и потому не всякая музыка должна допускаться.
Так Ганелон искал утешения, и душа его плакала.
Ересь. Затменье душ. Только Великий понтифик апостолик римский папа Иннокентий III, чистый душой, печется о всеобщем спасении. Для проповеди в день посвящения в папы он избрал библейский текст: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, грабить и разрушать, созидать и насаждать». И специальные легаты папы – аббаты Геньо и Ги, посланные в города Лангедока, в самое ужасное гнездо всяческой ереси, требуют с тою же строгостью: «Употребляйте против еретиков не только духовный меч отлучения, против еретиков употребляйте железный меч!»
«Разрушайте повсюду, где есть еретики, всё, подлежащее разрушению, и насаждайте всё, подлежащее насаждению», – так требует великий понтифик, апостолик римский, царь царей, владыка владык, священник во веки веков по чину Мельхиседека.
В последние годы по приказу брата Одо в простых сандалиях, в рваном плаще, опустив на глаза темный капюшон рваного монашеского плаща, Ганелон смиренно исходил многие дороги. В выжженном солнцем Лангедоке он слышал возбужденную брань простолюдинов в войлочных колпаках – они перегоняли овец, выращивали ячмень, коптили мясо. На дорогах он слышал грубую речь ремесленников в красных шапках, похожих на перевернутую ступку, – в угрюмых глазах отражалось бешеное кружение ткацких челноков, отсвечивали огни кузнечных горнов. На других дорогах Ганелон смиренно беседовал с пустынниками, закосневшими в темном упрямстве, и с жестким святым человеком магистром Фульком, собирающим деньги для паладинов, мечтающих принять обет святого креста. И прислушивался к речам рыцарей, за которыми всегда следовали оруженосцы и два-три мула, нагруженных доспехами и оружием.
А однажды Ганелон разделил ночлег в Доме бессребреников с самим блаженным отцом Франциском. Тот блаженный отец Франциск оказался тощ, плешив и незлобив, над высоким лбом торчал клок волос, на подбородке курчавились темные волосы. Блаженный отец Франциск умилительно радовался полету одинокой пчелы, зачем-то залетевшей в тесную келью. «Бессчетны и удивительны применения, которые воспоследствуют, столь прекрасно сотворенного мира, всех вещей этого мира. Вот почему Гермес Трижды Величайший – имя мое. Три сферы философии подвластны мне. Три! Но умолкаю, возвестив все, что хотел, про деяние Солнца».
Ганелон не понимал многих текстов, которые заставлял его читать вслух неукротимый брат Одо. Но, ничтожный и слабый, он не понимал и других более простых вещей. «Лучше бы ты служил мне». Так написала Амансульта.
Служил? Амансульте?
Ганелона охватывало темное возбуждение.
А два года тюрьмы в темной и мрачной башне? Кому он служил, погибая в тесном каменном мешке? А его болезнь, усилившаяся и участившаяся после случившегося на склоне горы, возвышающейся над старинным замком Процинта? А то, что именно Амансульта бросила его умирать на том пустом склоне? Испытывая горечь от этих мыслей, жгучую ужасную горечь, не смягчаемую даже сладкими испарениями, поднимающимися над глиняным горшком, Ганелон рывком сдернул веревку, которой вместо пояса пользовался оглушенный им черноволосый человек, и крепко связал ему ноги. Затем он посадил черноволосого на полу спиной к деревянному столбу и все той же веревкой, оказавшейся достаточно длинной, прикрутил его к деревянному столбу, подпирающему балку почти у самой стены под зубастым чучелом ихневмона, если, конечно, это существо было когда-то ихневмоном.
Старик Сиф, он же Триболо, молча следил за действиями Ганелона.
Старик не пытался встать или заговорить. Он не пытался как-либо помешать Ганелону. Он просто ждал, время от времени подбрасывая в кипящий горшок щепоть, а то и две сухой размельченной травы. Глухое пространство подвала медленно заполнялось все более сладкими ароматами, от которых вздрагивали ноздри и щемило сердце. И только когда Ганелон прикрутил черноволосого к столбу, старик смиренно попросил: «Не делай ему зла».
Ганелон не ответил.
Ведь перед ним сидел еретик.
Он боялся, что, отвечая, может не выдержать темной ярости, все больше и больше переполнявшей его усталую душу. Перед глазами роились многочисленные серые мухи, левая щека подергивалась, глаз косил. Это гордыня, сказал себе Ганелон. Это темная гордыня. Великий эликсир, философский камень, великая панацея, уробурос, как бы всё это ни называлось, все равно поиск – это ересь, это великий грех, строго осуждаемый Святой римской церковью. Поиск философского камня или алхимического золота есть самое настоящее, ничем не прикрытое гнусное соперничество отдельных тщеславных людей с самим Господом, создавшим мир и всё сущее. Как мог осмелиться на соперничество с Господом гнусный тощий старик, прозванный другими людьми Истязателем? Как могла осмелиться на спор с Богом Амансульта, вдруг жадно захотевшая много нечистого золота? Разве ее желание добраться до тайных старинных книг и до тайного старинного золота, все понять и все осмыслить не есть та же самая гордыня? И разве не является ужасной гордыней странное желание монаха Викентия из Барре, человечка с воспаленными мышиными глазками, постигнуть все знания мира?
Ганелон с яростью смотрел на молчащего старика.
Как сквозь кисею, густо роились перед его глазами серые мухи.
Говорят, что такие, как старик Сиф, вспомнил Ганелон, умеют выращивать в колбе маленьких человечков, они называют их словом хомункулюс. Эти человечки размером с малый палец, но они принимают пищу, думают и даже могут разговаривать, если их научить речи.
Есть ли душа у хомункулюсов?
Этого Ганелон не знал. Зато он слышал, что такие, как старик Сиф, умеют выращивать растения из пепла сожженных трав и деревьев. Они насыпают пепел в пустую колбу, капают немного воды и выставляют колбу на солнце. А это разве не гордыня, это разве не прямое соперничество с Богом, который создал все?
Дева Мария, роза света, помоги мне!
Сдерживая ярость, Ганелон произнес:
– Некая молодая особа, старик, передала тебе книгу. Это старинная книга, старик. Она покрыта для красоты пластинками из потемневшей слоновой кости. У одной пластинки на указанной книге отломлен уголок. Ты ведь получил такую книгу от указанной молодой особы?
– Может быть, – ответил старик Сиф почти равнодушно и подкинул в бурлящий горшок еще одну щепотку травы.
– Указанная молодая особа, старик, поступила очень неблагоразумно. – Ганелон изо всех сил сдерживал нарастающую ярость. – Она не должна была передавать тебе старинную книгу, найденную в подземном хранилище. Суит церти дениквэ финес. Она не должна была это делать.
На этот раз старик Сиф не ответил, но Ганелон перехватил его взгляд, брошенный украдкой на полку с книгами. Тогда он неторопливо подошел к полке. Он никогда не видел искомую книгу, никогда не держал ее в руках, но сразу опознал ее среди других стоявших на полке. Уголок одной из резных пластинок, украшавших переплет книги, действительно был отломлен. Пергаментные листы высохли, стали ломкими, краски выцвели, но, раскрыв книгу, Ганелон легко рассмотрел все детали очень странного, вдруг открывшегося перед ним рисунка. Некий двуликий человек в короне – женщина и мужчина сразу, и перепончатые ужасные крылья за спиной. Крылья синие, как небо, и очень грозные в своей выцветшей синеве. Обе ноги двуликого человека в короне были обвиты змеями, их женские головки, украшенные золотистыми длинными волосами, яростно устремлялись к глазам двуликого человека. В одной руке он держал меч, а в другой весы.
– Кто это? – спросил Ганелон.
Старик ответил, не поднимая опущенной головы:
– Большой герметический Андрогин, попирающий первичную материю, чреватую четырьмя элементами космоустроения.
Все еще сдерживаясь, все еще сдерживая себя, Ганелон медленно приложил обломок, вытащенный из своего пояса, к одной из пластинок, украшающих переплет книги. Края пластинок очень точно совпали.
– Ты видишь? – сказал Ганелон. – Они совпали.
– Да, я вижу, – почти равнодушно кивнул старик. – Тебя, наверное, послал брат Одо.
– Почему ты так думаешь, старик?
– Нет псов усерднее, чем ученики блаженного Доминика. – И повторил, будто запоминая: – Брат Одо.
– Ты боишься его, старик?
– Знаю, он многих уже убил.
– Но брат Одо прощен Господом.
– Разве можно отпустить грех убийства?
Это произнес не старик. Ганелон медленно повернулся.
Привязанный к столбу, на него опять смотрел черноволосый. Лоб его был рассечен каблуком Ганелона, рана густо кровоточила, и капли крови сползали по черной, почти синей бороде.
– Дитя Сатанаила! – сказал чернобородый злобно и даже попробовал разорвать веревки. – Дитя Сатанаила, свергнутого с небес! Дитя дьявола, совратившего праматерь Еву! Дитя Каина и Каломены, родившихся от Сатаны! Почему ты здесь, дитя ада?
– Ты хотел бы меня убить? – удивился Ганелон.
– Мы не убиваем, сын зла.
– Ты катар?
Черноволосый не ответил. Он смотрел на Ганелона с такой злобой и ненавистью, что у Ганелона закружилась голова. Иисусе сладчайший, прошептал он про себя, что происходит со мной? У меня совсем нет сил. А я не хочу уподобляться этому несчастному, что смотрит на меня с такой злобой. Весы на столе… Чучело базилиска… Душные испарения, тюрьма духа смятенного… Голова у Ганелона кружилась все сильнее и сильнее.
– Ты много рассуждаешь, а истинная вера не рассуждает, – сказал он.
– Зато рассуждает разум, – возразил чернобородый катар.
– Возможно, – сказал Ганелон.
И медленно, стараясь никого не испугать, извлек из-за пояса милосердник.
Катар замер. Зато старик вдруг заговорил. Казалось, он искренне недоумевает.
– Ты нашел искомую книгу, пес блаженного Доминика. Ты ее искал и вот нашел. Почему же ты не уходишь? – Сстарик завороженно наблюдал за лезвием милосердника – узким и сердито посверкивающим.
– Эта книга… Я нашел ее… – медленно произнес Ганелон. – Ты, наверное, не на один раз прочел эту книгу, старик? Скажи мне, она правда дает некое знание превращать глину и прочие ничтожные вещи, даже грязь, в золото?
Серые мухи все гуще роились перед глазами Ганелона.
– Разве это не так? – угрожающе переспросил он. – Разве книга не дает знания?
– Существует знание, которое само по себе приносит силу и радость, – покачал головой маг. – Такое знание не всегда связано с превращениями металлов. Чаще всего такое знание как раз не связано с превращениями металлов.
– Не говори туманно, старик. Ты произносишь слова, каких на свете невообразимо много, а мне нужны самые простые объяснения. Я задал тебе простой вопрос, почему тебе не ответить на простой вопрос так же просто?
– Разве можно объяснить идею огня? – усмехнулся маг.
– Конечно. Достаточно сунуть в огонь руку.
Старик мелко рассмеялся.
– Ты говоришь об идее боли, – негромко, без раздражения, даже доброжелательно разъяснил он. – Но это совсем другое. Ты путаешь понятия, пес блаженного Доминика. Даже если я отвечу тебе совсем просто, ты не поймешь меня.
Веки Ганелона отяжелели, серые мухи теперь летели так густо, что он почти ничего не видел.
– Говорят, есть книги, которые позволяют некоторым людям получать то, что кажется на первый взгляд недоступным. Может, это дьявольские книги, не знаю. Меня, старик, интересует книга, которую я держу в руках. И я задаю тебе простой вопрос: правда ли, что эта книга, которую я держу в руках, помогает золотоделанию?
Старик покачал головой и бросил в кипящий горшок еще щепотку сухой травы.
Ганелон наклонился над привязанным к столбу катаром:
– Подними руку. Выше. Укажи пальцем на старика.
– Зачем? – злобно спросил катар.
– Если ты будешь спрашивать, я перережу тебе глотку.
Злобно вращая темными глазами, катар поднял руку, как того требовал Ганелон, и указал длинным пальцем на старика. Коротким, почти неуловимым движением Ганелон отсек вытянутый палец катара.
Катар взвизгнул.
– Не нужно останавливать кровь, – медленно предупредил Ганелон чернобородого и, предостерегая его, даже слегка уколол в шею кончиком милосердника. – Я позволю тебе остановить кровь, если старик ответит на мои вопросы.
– Святая римская церковь запрещает проливать кровь, – не совсем убежденно сказал старик.
– А разве ты или этот катар, разве кто-то из вас подтвердил своими словами или поступками свою веру в Единого?
– Ты противоречив, – покачал головой старик. – Мне трудно тебя понять.
– Это, наверное, потому, что я тороплюсь.
Ганелон действительно торопился. В низком подвале становилось все более душно, и серые мухи все более густо роились перед глазами, и каждую мышцу тела непреодолимо и часто пронизывало нестерпимыми молниями боли. Я должен успеть, подумал Ганелон. Если я не успею, я не выберусь из этого подвала. Он даже пожалел, что отказался от помощи брата Одо.
Однажды он уже испытал что-то похожее.
Например, на берегу верхнего пруда под тенью башни Гонэ он ничего не сказал брату Одо о том, как именно Амансульта научилась открывать вход в подземный тайник. Что-то тогда шепнуло ему – промолчи, и он промолчал. И когда брат Одо в Риме спросил, понадобится ли ему помощь в поисках старика, он тоже почему-то промолчал. Перивлепт. Восхитительная. Приторный сладкий запах, томительная духота испарений. Рой серых свирепых мух затемнял зрение. Гул крови, туго проталкивающейся сквозь сжавшиеся сосуды, казалось, раскачивал стены подвала так, что под закопченной балкой шевельнулось и закачалось чучело ихтевмона.
– Слушай меня, старик. Теперь каждые полминуты я буду отрубать катару один палец, – негромко, изо всех сил борясь с головокружением, произнес Ганелон. – У меня осталось совсем немного времени, но его хватит, чтобы добиться от тебя простых ответов…»
VII–IX
«…видел шпицы гигантских соборов, многоэтажные колоннады, массивный каменный акведук, пересекающий шумные улицы, каменные триумфальные столпы, украшенные ангелами, широко распростершими над миром свои величественные крыла, а внизу опять и опять шумные улицы, переполненные экипажами, повозками, каретами, всадниками. Перезвон звонких колоколов. Бесконечные толпы.
Ганелон видел вечный город как бы с большой горы или с большой высоты, на которой парил свободно, как птица. С этой огромной высоты он видел, что вечный город так велик, что нигде не кончается. Храмы, дворцы, форумы, палаццо, акведуки, набережные, колодцы, жилые здания. Вечный город занимал все видимое пространство. Похоже, он давно поглотил поля, леса, запрудил реки, пересек их многочисленными мостами.
Ганелон задыхался от высоты, на которую его занесли видения.
Он видел, что город велик, город бесконечно заполнен живой жизнью.
Где-то кричал петух, может, на балконе. Терся спиною мул – о древний памятник. Грохотали колеса повозок по мостовым, вымощенным камнем. Плакал ребенок, смеялись на углу распутные женщины. Откуда-то доносились звуки затянувшейся службы. И все это был один город. Тот, что совсем недавно лежал перед Ганелоном пустой и в руинах, и в котором в каменных развалинах Колизея, поднимая к небу острую морду, выла одинокая волчица.
Поистине вечный.
Правда, в самой несокрушимости города, в самой непреодолимой вечности проскальзывала вдруг какая-то неожиданная бледность, какая-то неестественная неясность. Видения начинали слегка волноваться, смазываться, по ним пробегала смутная волна, как это бывает с зеркальной поверхностью пруда, когда над ним пролетает случайный ветер.
И пугающий мерный голос, размывающий видения.
Сквозь вечную толщу стен, сквозь величие соборов, встающих над городом как скалы, сквозь строгую продуманную красоту набережных вдруг проступали то закопченная деревянная балка со злобно скалящимся под нею зубастым чучелом ихневмона, то дымный камин, на огне которого все еще булькало в глиняном горшке варево старика Сифа. И голос. «Оставь его, Сиф. Пусть там и лежит. Все равно мы оставим его в подвале».
Ганелон медленно приоткрыл глаза.
Даже это усилие отозвалось в нем болью.
Ныли связанные, заломленные за спину руки.
Он увидел светлый и длинный плащ. Край плаща, не достигая пола, слабо колебался перед глазами. Конечно, Ганелон знал, кому принадлежит плащ, кто любит кутаться в такие светлые длинные плащи. Амансульта! Она стояла так близко, что Ганелон мог ударить ее по ногам. Ударить и, когда она упадет, дотянуться связанными руками до горла.
Перивлепт. Восхитительная.
Он боялся открывать глаза, но они были уже открыты.
– …наверное, его послал брат Одо, – услышал он старика Сифа по кличке Триболо. – Я не знаю, кто он. – Старик, конечно, говорил о Ганелоне. – Но я чувствую, что его послал брат Одо. Псы святого Доминика любят охотиться за чужими тайнами. Не понимая чужой тайны, они для простоты называют ее злом и сразу начинают за ней охотиться. Они ведь действительно не знают, что на самом деле составляет ту или иную тайну. Для них главное – определить в тайне зло. Они ненавидят зло. С позволения божьего они хотели бы задавить любое зло в самом его зародыше, поэтому они так торопятся, поэтому они совершают столько ошибок. Этот человек, – кивнул старик в сторону Ганелона, – напал на нас. Он оглушил и связал Матезиуса. Требуя от меня ответов на свои странные вопросы, он отрубил палец Матезиусу. Он и мне угрожал кинжалом и собирался унести книгу из собрания Торквата. Я слаб, я не мог остановить его, но по странным его глазам понял, что он, наверное, не очень здоров. По глазам я понял, что у него вот-вот может начаться приступ ужасной болезни, похожей на эпилепсию. Хорошо подумав, я решил не жалеть этого человека и искусственно ускорить наступление приступа. Я неторопливо отвечал на вопросы, нисколько не спорил, со всем соглашался, а сам подбрасывал в кипящий на огне горшок листья горного растения карри. Ты ведь знаешь, что влажные пары карри дурманят. Если бы у этого человека оказалось больше сил, – вздохнул старик Сиф, – мы сами могли угореть и даже погибнуть – и я, и Матезиус. Но, будучи поражен вредными парами, этот человек первый потерял сознание. Тогда я развязал Матезиуса, и пришла ты. – Старик покачал головой. – Ни блаженный Доминик, ни его псы не понимают, что убийства ничего не решают.
– А знания? – быстро спросила Амансульта и переступила с ноги на ногу так, что лежащий на полу Ганелон увидел, как дрогнули края ее белого запыленного плаща.
– Знания?
Старик покачал головой.
Наверное, ему было что сказать по этому поводу.
– Говорят, ты встречалась с римским апостоликом, – наконец произнес он. – Ты сумела поговорить с ним?
– Да. Я видела папу и говорила с ним.
– Он внимательно выслушал твои слова?
– Более чем внимательно. Но он мне не поверил.
Старик покачал головой. Наверное, он решил дать возможность Амансульте придти в себя, потому что снова указал на лежащего Ганелона:
– Этот человек от природы награжден большой смелостью. Он пришел к нам один. Матезиус все проверил.
– Этот человек всегда приходит один, в этом его особенность, – подтвердила Амансульта и, ценя отношение старика к себе, снова заговорила о папе: – Я сказала, Сиф, великому понтифику о книгах Торквата. Я сказала ему о том, какие великие знания хранятся в старинных книгах. Я попыталась объяснить, как много мы можем знать. Знаешь, что он ответил мне?
– Не знаю, но догадываюсь.
– Он сказал: зачем знать много такой восхитительной девице?
– И это все?
– Это все.
– Ты ответила?
– Нет. Я не ответила.
– Это неправильно, – покачал головой старик. – Ты обязана, как все, отвечать великому понтифику на любой его вопрос. Если великого понтифика заинтересовало, зачем знать много такой восхитительной девице, ты должна была ответить и на это.
Амансульта тоже покачала головой:
– Когда я увидела апостолика римского, я сразу сказала ему, что не скрою от него ничего из того, что сама знаю. Однако я отказалась присягнуть в том, что отвечу на любой его вопрос. Как я могу присягнуть, сказала я апостолику, если не знаю, о чем вы будете спрашивать. Может, вы будете спрашивать о таких вещах, о которых я не посмею или не захочу говорить.
– Твои слова звучат дерзко.
– Это так. Зато они правдивы.
Ганелон медленно перевел дух. Он чувствовал, в подвале посвежело. Наверное, старик и его помощник проветрили подвал. Но встать или повернуться Ганелон не мог. Просто лежал на полу и прислушивался к словам Амансульты.
Амансульта виделась с папой! Она разговаривала с великим понтификом!
– Я заявила нунцию, что в Латеранский дворец меня привело важное дело. Это правда. Я заявила нунцию, что кардинал Данетти передал великому понтифику мое послание. Нунций ответил: кардинал Данетти сейчас отсутствует, хорошо, если он появится через два-три дня. Нунций вел себя как рассерженный нотарий, он смотрел на меня так, будто я украла в храме реликвии. Он твердо заявил, что никогда папа не примет меня, что апостолик вообще не принимает девиц, особенно тех, имена которых замешаны во многих подозрительных слухах. Я сразу поняла, что нунций, видимо, наслышан о моем золоте и богатстве и хочет получить дорогой подарок. Он вел себя очень неблагожелательно, Сиф, все его поведение говорило о том, что он страстно желает получить от меня дорогой подарок. Но я не хотела связывать себя с ним даже подарком. Говорят, что это он убил несчастного аббата Трелли. Говорят, что сначала он якобы дал аббату яд, а потом ударил деревянным молотком. Так говорят. Но, может, это неправда. Не знаю. Все-таки он отправляет обязанности нунция.
Голос Амансульты, и без того ледяной, преисполнился презрения:
– Но он обращался со мной как с самой обыкновенной простолюдинкой, Сиф. Для начала он приказал поместить меня в тесную келью без окон, в Латеранском дворце много укромных мест. В келье не было ничего, кроме лампадки под распятием, но и лампадка чуть-чуть теплилась. Я села в углу на каменный пол, мне стало зябко и холодно. Потом я встала и ходила по келье, два шага в одну сторону и два шага в другую. Никто не имеет права так обращаться с представительницей столь древнего рода, как мой. Я думаю, Сиф, сознание нунция было затемнено слухами о богатом золоте, добытом из тайников Торквата. Конечно, нунций так и не понял, что рыба, уловленная в пруду, ничего не значит перед умением ловить рыбу. Помнишь, Сиф, как я испугалась, когда впервые дошла до истины?
Ганелон напрягся.
Амансульта испугалась?
Чего она могла испугаться? До какой истины она дошла?
Как истина может испугать честного и уверенного в себе человека?
Вот старик Сиф обманул Ганелона. Это так. Это случилось. Старик Сиф выслушивал требования и угрозы, а сам подбрасывал в кипящий горшок сухую траву, пары которой вызывают странные видения и упадок здоровья. Старик Сиф не хотел, чтобы я ушел из подвала со старинной книгой в руках.
Ганелон вспомнил двуликого человека, изображенного на одной из многих страниц книги. Как его называли? Ну да, большой герметический Андрогин, попирающий материю, чреватую четырьмя элементами космоустроения. Ганелон хорошо запомнил это определение и сейчас усмехнулся про себя: разве не отвергает подобное знание простых человеческих радостей? И подумал: я все-таки нашел одну из тайных книг Торквата, я держал ее в руках. Теперь Амансульта и старик Сиф, прозванный Истязателем, конечно, убьют меня. Странно, но это успокоило Ганелона, и он вновь обратился в слух.
– Я считала, что апостолик строг, что он всегда облачен в парчу, шитую золотыми крестиками, что всегда на его голове тиара. Я считала, что он всегда безмерно строг, ведь судила о нем только по его известным поступкам и буллам. Помнишь, как однажды в Риме появилось много сицилийцев и северян с выколотыми глазами и отрезанными ушами? Этих людей приказал согнать в Рим папа, чтобы все римляне убедились, что германцы, не желающие признавать себя вассалами папы, жестоки и бесчеловечны. Пригнав несчастных сицилийцев и северян, он всех убедил в жестокости германцев, но я не уверена, Сиф, я смущена, я боюсь, что отнюдь не все и даже не многие из этих слепцов с отрезанными ушами стали слепцами по вине германцев. Но сам папа прост. Он задумчив, он внимателен и прост. Он носит простое облачение, прислушивается к разумным голосам и называет себя ничтожнейшим из ничтожных.
– Он из семьи благородного графа ди Сеньи, – задумчиво добавила Амансульта. – Его родовое имя граф Лотарио ди Сеньи. Приняв высокий сан, великий понтифик принял другое имя. Теперь его зовут – Иннокентий. Иначе – Невинный. Но сам великий понтифик не выглядит невинным, Сиф. У него горбатый нос, выпуклые щеки с легким румянцем и кудрявая борода. Он молод, Сиф. Это меня пугает.
– Пугает? – удивился старик.
– Да.
– Но почему?
– Да потому, что он думает о мире. Сразу обо всем мире. Это обычное свойство молодости. Он думает обо всем мире. Он думает о нем как о своем. Он говорит со мной, а сам в это время думает о мире, я это сразу почувствовала. Он как бы внушает тебе надежду, но делать он будет только то, что найдет нужным. Он показался мне всевидящим, Сиф.
– Он мог бы тебе помочь…
– Раньше я тоже так думала, теперь не знаю, – покачала головой Амансульта. – Он осторожен. Он трезв. У него светлые, блестящие, как стекло, и очень внимательные глаза. Говорят, в Болонье и в Париже он превосходил в познаниях всех своих сверстников. Он смутил меня, Сиф.
– Как ты с ним встретилась?
– Я говорила тебе, сперва меня заперли в келье. Я говорила тебе, что там не было ничего, кроме лампадки под распятием, а где-то рядом пищали крысы. Грех так поступать, сказала я нунцию, когда он пришел меня проведать. Грех так поступать, сказала я ему, ведь рано или поздно я встречусь с папой. Нунций ответил мне со значением. То, что ты хочешь сказать папе, сказал он, ты можешь сказать мне. Остиарий тоже нехорошо глядел на меня через плечо нунция, а рядом еще стоял рослый ключник. Их было трое, но, по-моему, они боялись меня. Я сказала им: то, что я хочу сказать, я скажу только папе. Нунций возразил. Подумай хорошенько, возразил он мне, зачем тебе спорить? Здесь, в этой келье, даже кричать нельзя, все равно никто не услышит. Так что подумай хорошенько. И если надумаешь, постучи рукой в дверь. А папа, добавил он, тебя все равно не примет. У тебя плохая слава, это всем известно, добавил он, а твой богохульник-отец погряз в преступлениях, это тоже всем известно. Сказав это, папский нунций снова запер меня в тесной келье, и я стала думать, как мне правильнее говорить с папой. Не знаю почему, Сиф, я была уверена, что все равно встречусь с римским апостоликом. Я решила, что скажу римскому апостолику так: вы видели золото, которое я послала вам, Ваше священство. Это очень чистое золото. Более чистое золото трудно себе представить. Святая римская церковь имеет право каждый год получать много такого чистого золота. А еще Святая римская церковь имеет право на знания, которые в течение необыкновенно долгих лет были заключены в некий подземный тайник. Эти знания пока разрознены и разбросаны по отдельным книгам и даже по еле различным спискам, но их можно свести в одну систему. Я даже знаю, кто это может сделать. Я так сразу и решила, Сиф: наместник Бога на земле достоин самых великих дел, потому он и наместник, что же касается игры в бисер, то пусть ею займутся магистры. Я не боялась, что нунций помешает мне встретиться с великим понтификом. Так и оказалось. Через несколько дней в Латеранский дворец вернулся кардинал Данетти, и я была выпущена из кельи.
– Ты все же неосторожна, – скрипуче, но с некоторой заботой в голосе укорил Амансульту старик. – Не забывай, что в прецептории на тебя лежит много доносов, а на улицах увязываются странные нищие. Вот и сейчас на полу лежит человек, который пришел к нам не просто так, а с кинжалом в руке. Не забывай, что бы его ни привело к нам, в некотором смысле он приходил сюда за тобой…»
X
«…на фоне стрельчатого окна, забранного чудесным мозаичным стеклом, нежно смягчающим свет, падающий в залу. Кардинал Данетти, пятясь, покинул комнату. С некоторой растерянностью Амансульта вдруг поняла, что находится не в рабочем кабинете, и с той же растерянностью опустила глаза: светлобородый человек у окна, смиренно присевший на низенькую скамеечку, несомненно, был папа, великий понтифик, апостолик римский. Правда, на нем была простая сутана, а монсеньоры и камерарии, как это полагается при официальных встречах, сейчас отсутствовали. Но так и должно быть, успокоила себя Амансульта. Кардинал Данетти обещал устроить как бы случайную встречу, другой просто не могло случиться.
Папа, неподвижный доселе, тоже поднял голову.
Она хороша, подумал он с некоторой затаенной печалью.
О дочери неистового барона Теодульфа рассказывали всякое, но никто не сказал неправды об ее внешности. Она хороша. Походка легка, глаза светлы, она привлекает внимание. Возможно, она еще не грешна – в том смысле. Но все в ней греховно.
Черты Амансульты совершенны, подумал папа, ощущая какую-то сложную и непонятную тревогу. У нее ясные глаза, это характерно для всех Торкватов. Ее отец, великий грешник и богохульник барон Теодульф, говорят, загубил жену и не раз поднимал руку на священнослужителей, но при этом дважды сам становился на стезю святого гроба и совершал подвиги. Говорят, барон-богохульник Теодульф груб и несовершенен, а вот каждая черта его дочери совершенна.
Это плохо. Это несет печаль.
Совершенство человеческое не вечно.
Совершенство человеческое совсем ненадолго. Дуранте вите. Только на время жизни, не больше. Только на время жизни. А жизнь коротка, и смерть не дремлет. Понтифик действительно ощущал некую печалящую его тревогу. От утра до вечера изменяется время. Мы все умираем, пока живем, и перестаем умирать, когда перестаем жить. У нее совершенные губы, думал папа, глядя на Амансульту. Ее губы полны и от природы греховны, они налиты великим грехом. Ее губы – красиво окрашенное естественное зло. Лучше умереть для жизни, чем для смерти, печально думал папа. Смертная жизнь есть не что иное, как живая смерть. Всегда внезапно приходит беда, обрушивается несчастье. Дочь барона Теодульфа привлекает внимание. Внимание это нечисто, ибо вызывается кипением неразумной молодости, терпким грехом жизни. И при этом она говорит о будущем. О каком-то странном и непонятном будущем. В ней, кажется, нет необходимого смирения. Ее кротость, кажется, искусственна. Забывая о дне сегодняшнем, она все время говорит о дне будущем и думает о дне будущем, но почему-то от волнения у нее греховно припухают губы. Надо ли так страстно говорить о дне будущем? Разве не учит мудрейший: не знает человек времени своего! «Как рыбы попадаются в пагубную сеть, как птицы запутываются в силках, так и сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».
Папа потер ладонью чуть тяжеловатый подбородок.
Дьявол любит красивые приманки. Амансульта красива.
Красота Амансульты холодна, она похожа на скульптуру, изваянную из мрамора или льда, но она красива. Она из тех мест, вспомнил папа, которые всегда славились крепкими и упрямыми мулами. Амансульта из тех мест, где женщины никогда не боялись греха и не бежали греха. Ее отец великий грешник. Он много претерпел в плену у сарацинов, он прощен, но, говорят, по-настоящему так и не утвердился в вере. Барон Теодульф увидел, как широк мир и как разнообразно устроен, и это, наверное, расшатало его и без того не очень крепкую веру.
Папа перевел дыхание.
Дьявол любит красивые приманки.
Бывает, что некоторых он уловляет на клады.
Даже папа Сильвестр, вспомнил понтифик, не устоял когда-то перед дьяволом.
В юности, проведенной в Испании, некий мавр открыл будущему папе Сильвестру тайну чернокнижия, а в заброшенном и сыром римском подвале дьявол подсунул ему давно потерянные для людей сокровища императора Октавиана. С помощью дьявола, которому он целиком предался, будущий папа для своих личных нужд построил некую искусственную магическую голову, умевшую отвечать на вопросы. От этой головы будущий папа Сильвестр узнал, что станет папой, великим понтификом, апостоликом римским и умрет, отслужив молитву в Иерусалиме. Желая обмануть судьбу, папа Сильвестр никогда с той поры не выезжал в Святую землю, но все равно умер, отслужив однажды молитву во «Храме Святого креста, что в Иерусалиме». Свыше предначертанное никто отвести не в силах, даже папа, человек высоко поставленный над царями и над народами.
Дьявольские тайны и клады. Дьявольская красота.
Говорят, Амансульта тоже коснулась тайн странных и страшных, низринутых наружу земными тайными пещерами. А пещеры – это почти могилы, сказал себе понтифик. Он никак не мог понять, что его больше смущает – облако греховности, незримо стоявшее над Амансультой, или многочисленные доносы, переданные ему из прецептории еще утром?
Он внимательно вслушался.
Амансульта опять говорила о ходе времени.
Она изумлялась: как можно понять ход времени, совсем не зная, совсем не изучив древних авторов?
А Библия? А Послания? А Апокрифы? – смиренно напомнил понтифик. А святые книги христианского вероучения? Разве ход времени не освящен божественным светом святого Писания?
Амансульта смиренно кивнула.
Истинно так. И Библия, и Послания. Она согласна.
Правда, есть еще совсем простые, но важные истины, такие как волнение моря, землетрясения – судороги земные, нашествия вредоносных гусениц на поля, снег зимой и град летом, наконец, есть такие простые истины, как здоровье старика и здоровье ребенка. Есть многие знания, которые не приходят сами по себе, есть знания, которым можно только научиться.
Папа покачал головой.
Познающий всегда в сомнении.
А вот вол ничего не познает, он просто пашет.
Можно ли изменить мир с помощью неких простых знаний или простых истин, зная, например, природу морских волн или разных болезней? Или так можно спросить: можно и надо ли изменять божий мир с помощью каких бы то ни было простых истин или знаний? Разве божий мир не должен существовать именно таким, каким его по разумению своему создал Господь?
Амансульта с изумлением уловила в голосе папы нотку сомнения.
Конечно, папа молод. Ему нет даже сорока. Его волнует власть. Он думает сразу обо всем мире. «Конечно, мир, созданный Господом, вечен и неизменен», – произнесла она вслух, а про себя подумала: разве этот вечный и неизменный божий мир никогда не меняется? И подумала так: разрушаются горы, высыхают моря. Господь озаряет мир светом, льет благодать на страны и на народы, но страны и народы рождаются и умирают, нарождаются в прошлом и исчезают в будущем. Много забытых, но мудрых книг пылится в монастырских темных библиотеках. Разве не благое, разве не святое дело свести все накопленные людьми знания воедино? Разве Святая римская церковь не должна уяснить для себя законы, ведающие ходом времени? Разве это не угодно Господу? Видит Бог, мы уже многое упустили. Только собрав воедино за всю историю накопленные человечеством знания, Святая римская церковь может встать, как вечная скала, над самим ходом времени.
Амансульта опасна, печально подумал папа.
Амансульта умеет зажигать, она говорит с настоящим волнением, в ней чувствуется сильная воля. И она много знает. Из доносов, скопившихся в прецептории, папа уже знал: жизнь Амансульты уединенна. Изредка она привечает в своем замке труверов, но не всех, а выборочно. Иногда у нее бывают известные маги, но тоже не часто. Она выкупила отца из сарацинского плена. Благое дело, угодное Богу, но говорят, что золото Амансульты добыто нечистым путем. Если это так, пора вмешаться. Прямое дело Святой римской церкви вмешиваться в те дела, где пахнет серой и пламенем ада. Апостольский образ жизни нуждается в приличествующем ему облачении. Люди, подобные Амансульте, совсем не подобны людям, подобным отцам Доминику и Франциску. Блаженные святые отцы проповедуют спасение душ, их слова многими услышаны. А что проповедует Амансульта? Знание? Но разве в мире божьем опора всему знание, а не вера? Всем известно, что старинный род Торкватов груб и упрям. Торкваты всегда и всем доставляли хлопоты, даже варварам, когда-то захватившим Рим. Говорят, Амансульта нашла в глубоких пещерах, расположенных рядом с замком Процинта, тайные книги самого Торквата, жестоко казненного королем варваров Теодорихом. Говорят, что некоторые книги, найденные Амансультой, впрямую указывают на то, как можно получить самое чистое золото из свинца, из глины, из песка, из чего угодно, даже из того, что, как сор, валяется под ногами. Опасное, опасное знание.
– Почему ты говоришь о ходе времени? – спросил папа. – Ты прочла об этом в старых книгах?
– Я прочла это в трудах Торквата.
– Я знаю труды Торквата, – покачал папа головой. – Их не очень много сохранилось, но я их знаю. Их все можно перечислить на пальцах одной руки. В каком именно ты прочла о ходе времени?
– В «Эпилегемонах», в «Дополнениях», – открыто ответила Амансульта. – Вы можете не знать этого труда, он возвращен из небытия совсем недавно. Очень долгое время этот труд хранился в некоем тайнике. Торкват самым чудесным образом угадывает в нем ход времени, говорит не только о прошлом, но и о будущем. Всегда творя в одиночестве, одиноко сияя и возвышенно над миром варварства и упадка, Торкват видел будущее мира, и оно никогда не казалось ему жалким. В «Эпилегемонах» путем многих размышлений Торкват пришел к мысли, что в человеческом мире за эпохой упадка всегда следует взлет. Уходит античная простота, мир затопляют волны варварства, но самым чудесным образом Торкват предвидит, что ничто никогда не кончается. Цветущие города Вавилонии разрушаются, их покрывает пыль вечности, но ход времени не остановим и в самых ужасных и диких пустынях рано или поздно вновь вырастут города. Всегда и везде одна эпоха переходит в другую, и так повторяется бессчетное число раз. При этом каждая эпоха противоположна ей предшествовавшей. Торкват подобрал ключ к вечности. На гербе нашего рода изображен ключ, – негромко напомнила Амансульта. – Утопая в варварстве, Торкват явственно разглядел из тьмы своих дней далекое будущее. Он понял, что все в этом мире повторяется. Сегодня творит Гомер, а завтра приходит варвар. А потом снова творит Гомер, и снова приходит варвар. Гомер творил за тысячу лет до Торквата, – смиренно добавила Амансульта, – и Иисус тоже говорит о тысячелетнем царстве. Разве такое не стоит особых раздумий?
С все возрастающей печалью, но уже и с некоторым гневом, тщательно скрываемым, папа всматривался в светлые глаза Амансульты. «А церковь? – спросил он. – Разве Святая римская церковь сама по себе не возвышается, как вечная скала, над ходом времени? Разве Святая римская церковь не сильна благодатью, столь щедро разливаемой ею в мир?» Амансульта непонятно улыбнулась: «Червь сомнения никогда не умирает, а огонь разума никогда не гаснет». И папа вздохнул. Амансульта цитировала его собственные труды.
– Ты считаешь, – спросил понтифик, чуть наклонив голову. – Ты считаешь, что вся христианская эпоха от падения язычества и до наших дней, все это было только эпохой варварства? Ты считаешь, что некие знания, сохраненные в мрачных пещерах и катакомбах, могут пролить какой-то яркий свет на мир, уже осиянный благодатью господней? Ты действительно считаешь, что все, что было до нас, всего лишь эпоха варварства?
– Конечно, это можно назвать и иначе, – уклончиво ответила Амансульта. Она устала стоять, но папа не предложил ей сесть. – Я говорю о чудесном даре Торквата, дошедшем к нам через годы. Разве подобные чудесные события не следует использовать во славу церкви?
– Ты знаешь как?
Амансульта кивнула.
Она сумасшедшая, подумал папа.
Дьявол, совершая сделку, лишает партнера разума.
Амансульта тоже попалась на удочку дьявола. Папа невольно перекрестился.
Мир навсегда создан Господом. Мир вечен и неизменен. Мир по праву принадлежит Святой римской церкви. Грех гордыни, в чем бы он ни проявлялся, самый страшный грех. Тысячи и тысячи еретиков, впавших в ересь гордыни, колеблют почву, сами пугаясь этого. Тысячи и тысячи еретиков собираются в зловонных городах, в этих вавилонах ненависти и гордыни, но разве поколебали они устои Святой римской церкви? Ткач ткет ткань, красильщик ее красит, портной шьет, все живое занимается своим делом. Разве можно изменить мир, созданный Господом? Не богохульство ли сама мысль об этом? Она невинна, печально подумал папа, глядя на Амансульту. В том низменном смысле, какое люди вкладывают в это слово, она, наверное, еще невинна. Но она вся в грехе. Она говорит искренне, ее заблуждения чисты, но именно этим она опасна. Ее чистая душа надкушена дьяволом.
Блажен тот, кто обрел мудрость от Бога, и трижды проклят тот, кто понес от дьявола.
Анатема сит! Разве мир со всей совокупностью его прошлого, настоящего и будущего не присутствует в разуме Бога, как если бы он уже давно свершил свое бесконечное развитие? Разве Господь не видит будущее тем же самым способом, что настоящее и прошлое, причем именно так, как будущее когда-либо состоится? Разве он не видит все возможные колебания мира и его вещей – все, что может когда-нибудь реализоваться, и какой выбор может быть сделан? Амансульта с большим торжеством говорит о чудесном даре Торквата предугадывать будущее, но ведь только Господь, а не его слуги, может предугадывать будущее. Ведь если допустить, что Господь может помыслить, будто должны иметь в будущем место все те вещи и события, которые могут и не случиться, то он заблуждается. Даже допускать такое – грех. Такое допущение не только недостойно, оно дерзко. А если предзнание Господа таково, что он, предугадывая будущие события, предполагает, что нечто может одинаково как произойти, так и не произойти, то что же это за предзнание такое, если оно не содержит в себе ничего определенного? Нет, покачал головой понтифик. Бог есть наличность всего сущего, и его предзнание будущего происходит не из-за того, что какое-то событие произойдет в будущем, а именно из того, что все эти события вытекают из его собственной непосредственности. В неистовстве своем блаженный отец Доминик прав в одном: еретики в этом греховном мире жадно плодятся. Конечно, это упущение. Это большое упущение. Еретики всегда заслуживали и всегда должны заслуживать только одного наказания – смерти.
Переат! Да погибнут!
Папа сурово поднял голову.
– Если эпоха варварства, к которой, как ты утверждаешь, мы все еще принадлежим, заканчивается, значит, нам опять предстоят какие-то важные изменения? Это так? Нас опять что-то ждет? И это можно каким-то образом предвидеть?
Папа наклонил голову: «Разрешаю тебе сказать». Ему вдруг показалось, что в светлых глазах Амансульты промелькнул испуг. А если это так, значит, она с головой выдала себя в своей греховности. Но ответ удивил папу. «Нас всех ждут большие войны», – негромко сказала она.
– Ты говоришь о вооруженных паломничествах? – удивился папа. – Ты говоришь о стезе святого креста, или нам грозит что-то другое?
– Я говорю о больших войнах, – пояснила Амансульта. – Я говорю о больших войнах, которые, как правило, завершают любую эпоху как упадка, так и взлета. Такие большие войны, по словам Торквата, в прах повергают самые великие империи и неожиданно возносят на невиданную высоту народы, прежде пребывавшие в ничтожестве. Это долгие войны, – добавила Амансульта. – Они не заканчиваются ни в двадцать, ни в пятьдесят лет.