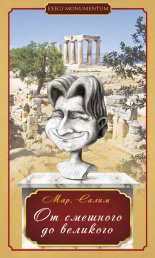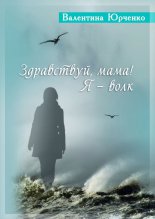Дж. Бёрджер Джон

Седьмого сентября 1860 года Гарибальди вошел в Неаполь.
Ven Galubardo!
Ven lu piu bel!
Многотысячные войска Бурбонов все еще занимали четыре укрепленных форта в городе. Король бежал. Пушки крепости были наведены на город. Пронесся слух, что Гарибальди прибудет не с армией краснорубашечников, а в одиночку, поездом. Залитые слепящим солнцем улицы опустели. Никто не знал, верить слухам или нет. Люди попрятались по домам. В половине второго пополудни Гарибальди приехал на вокзал. Полмиллиона жителей Неаполя, не обращая внимания на пушки, высыпали на улицы и пристани и, выкрикивая приветственные возгласы, отмечали знаменательное событие.
Гарибальди не был ни прирожденным военачальником, ни политиком. Его легко было обмануть, однако же он вдохновил целую нацию – не властностью и не по дарованному ему Богом праву, а олицетворяя собой простые и невинные желания юности. Он личным примером убедил итальянцев, что эти желания можно реализовать в национальной борьбе за свободу и независимость. В нем народ чтил святость своей невинности.
К этой роли прекрасно подходили и внешность, и все черты характера Гарибальди. Сила и храбрость. Мужество. Длинные волосы, которые он аккуратно причесывал после сражений. Непритязательность вкусов. «Если у патриота есть миска супа, а дела в стране идут хорошо, то больше и желать нечего», – утверждал он. Пустынный остров, где Гарибальди пас стада овец, когда у страны не было в нем нужды. Патриотизм, который противоречил его теориям и принципам (Гарибальди был республиканцем и признавал власть Виктора Эммануила). Самолюбие. Чувство юмора. Не красноречие, но убедительность жестов. «Если бы он не был Гарибальди, то стал бы величайшим трагическим актером». (Он мало говорил, и люди разных – зачастую прямо противоположных – убеждений считали, что он их поддерживает.) Полное непонимание того, что движет миром. Порывистость.
В ком еще разобщенный народ Италии мог найти свое отражение и объединиться?
В каком другом абсолютно честном человеке смогла бы так обмануться нация?
То, как Гарибальди вдохновлял народ, представляло опасность для возникшего правящего класса. Если Гарибальди олицетворял устремления простых итальянцев, то его желания могли пойти дальше изгнания австрийцев и Бурбонов. Гарибальди угрожал порядку – не потому, что действовал заговорщицкими способами, а именно потому, что воодушевлял.
Толпы, собравшиеся в Неаполе под жерлами пушек, устроили трехдневное празднование.
Калабрийские крестьяне верили, что Гарибальди, как Христос, способен творить чудеса. Когда краснорубашечники умирали от жажды, Гарибальди выстрелил из пушки в скалу, и оттуда хлынула вода.
Гарибальди чтил память трагически погибшего Карло Пизакане, социалиста-утописта, чьи труды будоражили умы целого поколения итальянских революционеров.
«Пропаганда идеи – химера. Идеи возникают из действий, а не действия из идей; не образование освободит народ, а освобожденный народ получит образование. Гражданин, желая действовать на благо своей страны, должен активно помогать революции, то есть деятельно продвигать Италию к цели, принимая участие в конспиративных сходках, в организации заговоров, убийств и пр.».
И все же союз с правящими кругами надежно обуздал Гарибальди. Его жесты отвергали тех, кто стоял у власти, а его победы укрепляли правительство. Национальный герой помог заложить основы буржуазного государства.
После смерти Гарибальди в его честь называли улицы и площади во всех городах Италии. Его имя непрерывно звучало повсюду, но совершенно не было связано с тем, что происходило на этих улицах и площадях.
В Париже Лаура кормит грудью новорожденного. Ее молоко – будто ртуть, покрывающая чудесное стекло. В этом зеркале ребенок – часть тела Лауры; все части ее тела удвоены. Но в то же время в этом зеркале она сама – часть ребенка, она дополняет его так, как ему угодно. Она – либо предмет, либо отражение в зеркале. Она вольна обращаться с ним или с самой собой. Оба они, до тех пор, пока сосок остается во рту, превращаются в части неделимого целого, энергия которого разъединит их, как только ребенок перестанет сосать грудь.
«Мне больше ничего и не нужно, – думает Лаура. – Мальчик вырастет, но я увижу себя в нем».
Лауру занимает не она сама, а младенец. Все ее нервные окончания, все ее ощущения постоянно направлены на ребенка, на удовлетворение его нужд. Ее чувства, будто сеть кровеносных сосудов, проникают в плоть ребенка, обволакивают его. Когда она к нему притрагивается, то чувствует невинное прикосновение к самой себе.
Ей хочется ему поклоняться, потому что с ней он возносится над миром, выходит за его пределы. Она желает полностью посвятить себя ему, отвергая все прочее. Ей не терпится создать для младенца новый мир, где возможен иной образ жизни, отличный от существующего уклада.
Часть II
Лауре не удалось по-новому устроить свою жизнь с младенцем. Она забыла о незыблемом укладе, присущем зажиточным семьям в девятнадцатом веке. Если бы она решила жить одна с ребенком – вести богемный образ жизни, – то, возможно, добилась бы своего. Однако же в парижском особняке матери планам Лауры постоянно мешали бесчисленные няни, горничные, экономка и врач. С ребенком она проводила всего несколько часов в день. О повседневных нуждах – стирке пеленок, глажке, уборке детской, приготовлении еды – заботилась прислуга. Лауре доставалось лишь купание младенца, да и то под присмотром няни и лужанки, которая приносила воду для ванны.
Впрочем, сама Лаура не могла объяснить, чего ей хочется. Если бы она сказала, что желает всегда быть рядом с сыном и на несколько лет посвятить ему все свое время, что она хочет жить с ним на равных, ползать, гулить, делать первые шаги, повторять детский лепет, во всем следуя развитию ребенка… Если бы она все это сказала, ее сочли бы истеричной особой и отдали бы под наблюдение врачей. В девятнадцатом веке младенцам – как и всему остальному – отводилось строго определенное место.
Умберто умолял ее о свидании с сыном. Лаура не отвечала на письма и заявила матери, что отец ребенка – сумасшедший. Прошло два года. Мать Лауры вышла замуж и вернулась в Америку. Лаура переехала в Лондон, где новые знакомые, быстро ставшие близкими друзьями, соблазнили ее прелестями фабианского социализма. Пока она искала себе жилье, мальчика решили на несколько месяцев отправить в деревню, к родственникам. Родственники пребывали в стесненных финансовых обстоятельствах, и Лаура попросила мать им помочь. В Лондоне Лаура заинтересовалась политикой, решив, что тайна жизни заключена не в теле, а в эволюционном процессе. К сыну она приезжала все реже и реже. В деревне мальчику было хорошо. Няню-француженку отослали в Париж, а вместо нее наняли английскую гувернантку. Родственники (Джослин и Беатриса, брат с сестрой) согласились оставить мальчика у себя, и его детство прошло на ферме.
Животные не восхищаются друг другом. Конь не восхищается своим сотоварищем. Не то чтоб они не состязались в беге, но это не имеет последствий, и, оказавшись в стойле, тот, что тяжелей и нескладней, не уступит своего овса другому, как того желают люди в обращении друг с другом. Их достоинства находят удовлетворение в самих себе[4].
Кость черепа здесь туго обтянута кожей, но даже на этом тонком слое растет шерсть. Слегка вогнутая кость образует впадинку. С каждой стороны от нее – большой выпуклый глаз. Это лобная часть головы. У человека такого места нет: органы чувств сосредоточены густо, глаза посажены слишком близко друг к другу, лицо очерчено резко. Человеческое лицо – как клинок, лезвие которого обращено к миру.
Если ладонью погладить едва заметную впадинку с островком шерсти на тонкой коже, животное кивает. Но ладонь слишком мягкая, ее касание почти не чувствуется. Надо сжать руку в кулак, потереть голову животного костяшками. Корова не закрывает глаз, глядит безмятежно и спокойно – не чувствует вблизи опасности.
Так поступают в детстве. А взрослые мужчины, в горе или от раскаяния, прикладывают лоб к коровьему лбу, кость к кости.
В сознании Беатрисы глубоко укоренилось выражение «бессловесная тварь». В нем нет ни снисходительности, ни жалости, но для Беатрисы впадинка между глаз отчего-то связана с неспособностью животных говорить.
В детстве ее озадачивали рога; точнее, не сами рога, а то, как они растут – твердые, выпуклые вздутия под шерстью. В подростковом возрасте она воспринимала рога как образец того, что происходит с ней самой. Она осознала, что рост рогов не означает подчинения бегу времени, не имеет ничего общего с покорностью, а просто отмечает отмеренный срок. Коровьи рога сродни жизненному опыту человека.
На ферме всегда держали скотину, и жизни без нее Беатриса не представляет. Нет, она не сюсюкает с хилым ягненком, которого приносят выхаживать из хлева в дом. Она не жалеет, когда приходится продавать корову, переставшую давать молоко. Без скотины ферма станет бездейственной, необитаемой, сгинет под напором времени, как дуплистое дерево. Животные мирно жуют жвачку, вздыхают (по ночам), пасутся, плодятся и размножаются – и отгораживают Беатрису от безжизненных звезд.
В детстве скотину держал ее отец. Животные его слушались, как и сама Беатриса. Он разговаривал с ними – и с ней – тихо и ласково. Со всеми остальными он был груб и раздражителен.
Ей двадцать четыре года. Лицо у нее широкое, будто уши постоянно растягивают ей рот в улыбку. Полные губы слегка приоткрыты, за ними блестят белые зубы.
На вечеринке в саду лондонские гости часто принимают ее за незамужнюю дочь местного сквайра (отец Беатрисы умер, она ведет хозяйство для брата), но ее движения неожиданно быстры, а жесты чрезвычайно выразительны.
Между собой соседи считают, что выйти замуж ей мешает неприличествующая девушке бойкость.
Что бы Беатриса ни делала – шла по лужайке, срезала розу с куста, заглядывала в духовку, складывала белье или надевала юбку, – во всем видны напористость, необычная уверенность в своих силах и решимость. Она строго придерживается избранного плана действий и отметает всякие попытки его изменить, считая их несущественными подробностями. В ее жизни нет места подробностям, они ее не касаются.
О честолюбии и благонравии она не задумывается, потому что не в состоянии себя удивить. Ей известно все, что она может предложить. Глубоким знанием себя она обязана не созерцательности, а наблюдательности – словно животное, она интуитивно ощущает, как удовлетворять свои незамысловатые желания.
Если из моего описания следует, что она круглая дура, то я к ней несправедлив.
Ферма расположена на дне долины, с трех сторон окруженной крутыми холмами. Усадьба построена лет сто назад, внушительная, с большим количеством печных труб. С одной стороны дома – обнесенный стеной сад, за домом простирается газон. По долине разбросаны конюшня, коровник и всякие хозяйственные постройки. Некогда процветающая ферма считалась удачно расположенной, а сейчас кажется, что холмы ее придавили.
После смерти отца Беатрисы и особняк, и угодья пришли в запустение. Брата интересуют только лошади. Землю приходится продавать. При жизни отца здесь получили наделы пять арендаторов; теперь осталось всего пятьсот акров.
Дом по-прежнему содержится в порядке. Прислуга два дня в неделю начищает столовое серебро. Зимой в главной спальне топят камин. Когда хозяин выезжает на охоту, его сопровождает конюх. Раз в год, в июне, на лужайке за домом, в тени раскидистых буков устраивают прием, на который собирается много гостей. И все же особняк слишком велик для брата с сестрой. Обрабатывать землю некому. В общем, начинается медленное обезличивание угодий, и через двадцать пять лет в усадьбе устроят санаторий для раненых офицеров.
Джослин, брат Беатрисы, на пять лет ее старше.
Крупный, красивый мужчина с бледно-голубыми глазами на первый взгляд выглядит волевым, уверенным в себе человеком, но это впечатление быстро рассеивается. Ничто не смущает его неколебимого спокойствия, точнее, апатичности, заставляя собеседника пересмотреть свою первоначальную оценку. Однако едва лишь – с пугающей внезапностью – Джослину приходит в голову какая-то мысль, как в глазах загораются искры, и он с невероятной убедительностью восклицает: «Великолепно сработано!» Властность его суждений (даже для мальчика, который не знаком с историей) основывается на неких ценностях прошлого. А затем Джослин и сам будто погружается в прошлое и вновь становится глубоко апатичным, вялым созданием. Что же делает его таким непредсказуемым?
Для понимания особенностей характера Джослина следует рассмотреть его в перспективе. В конце девятнадцатого века английская аристократия переживала необычный кризис. Их власти ничего не угрожало; в опасности оказался тот образ, который английская знать являла миру. Высшие слои общества приспособились к промышленно развитому капитализму и торговле, но продолжали вести жизнь наследственных поместных дворян, что становилось несовместимо с современным миром. Широкомасштабная финансовая деятельность, развитая промышленность и империалистические вложения капитала требовали от власти определенного стиля управления, а народные массы желали демократии. И английские дворяне, верные своей натуре, приняли решение смелое, но легкомысленное. Раз уж их образу жизни суждено исчезнуть, его надо сначала возвеличить, открыто и бесстыдно превратив в захватывающее зрелище, в своего рода театральную постановку. Они больше не настаивали на своих привилегиях по праву родства, а если и оправдывали их существование, то только на словах; вместо этого они играли спектакль, строго соблюдая все законы и условности сценической драматургии. С начала 1880-х годов в этом заключался основополагающий смысл светской жизни – охота, скачки, придворные балы, регата, пышные приемы.
Публика с восторгом отнеслась к подобному апофеозу аристократии. Любые зрители считают, что актеры являются их собственностью. Прежние повелители народа стали шутами, развлекающими массы. Пока внимание народа было отвлечено, высшие слои общества – лучшие представители своего класса – приспособились к новому, тщательно замаскированному способу правления. Как феникс, аристократия возрождалась из пепла своего пышного убранства, используя его в качестве театрального реквизита.
Джослин – мелкопоместный, неродовитый дворянин. Он регулярно выезжает на охоту и участвует в провинциальных скачках, тем самым укрепляя свою веру в то, что это и есть жизнь, а ничем не заполненный промежуток между ними – своеобразный затянувшийся антракт. Поэтому Джослина трудно понять. Когда он уходит со сцены, ему нечего делать – он не подает реплик, не играет роль и становится необычайно апатичен. Однако же не потому, что ему хочется под гром аплодисментов блистать на подмостках – нет, он счел бы это вульгарным; он искренне принимает представление за реальность.
Его наряд полностью соответствует отведенной Джослину роли: высокие сапоги с коричневыми отворотами, шпоры, вельветовые бриджи, линялый алый сюртук, белый галстук, невысокий цилиндр, стек с длинным хлыстом.
С ноября по апрель Джослин выезжает на охоту четыре раза в неделю.
Следует заметить, что слово «представление» использовано здесь как метафора, чтобы лучше объяснить искусственность, символизм и восхитительно заманчивый образ происходящего. Тем не менее и сцена, и декорации, и реквизит – настоящие. Зимний день, гончие, норы, изгороди, поля, лисы, изнеможение скачки – все это совершенно реально. Ощущения, вызываемые действиями, становятся еще острее из-за скрытого символизма, понятного каждому охотнику.
Садясь в седло, становишься властелином, рыцарем. Олицетворяешь благородство – и этическое, и сословное. Покоряешь. Участие в сражении, пусть и скромное, становится достоянием истории. Честь начинается с человека, сидящего верхом на лошади.
Псовая охота – забава отважных, тех, кто уважает скорость и выдерживает темп.
Охота противоположна владению. Охота не соблюдает границ, несется по полю. На охоте человек свободен так же, как свободен вспугнутый лис.
Верховая охота – скачка с группой единомышленников, которые, независимо от своего нрава, разделяют с тобой эти ценности и помогают их сохранить. Изобретение колючей проволоки противостоит этим ценностям. (На колючей проволоке впоследствии погибнут миллионы пехотинцев, бросаясь в атаку по приказу своих генералов, сидящих верхом на конях.)
Однажды в декабре Джослин возвращается домой раньше времени. Его лошадь забрызгана грязью. Он спешивается и ведет лошадь в поводу. Поначалу он не в состоянии распрямиться, бредет согнувшись, будто старик с клюкой.
– Еще две мили, старина, – говорит он лошади.
Лошадь и человек идут бок о бок. Человек вспоминает основные происшествия дня: свои собственные впечатления, рассказы приятелей. Он устал до мозга костей, но за усталостью кроется удовлетворение, скромная гордость. Он совершенно уверен, что так же, как преступление – к примеру, предательство или кража – влияет на ни в чем не повинных людей и их поступки, честная верховая охота распространяет по миру пусть крошечную, но бесконечную волну благородства. Он глядит вверх, где в безбрежной пустоте мерцают редкие звезды, и ощущает отсутствие громадных резвых скакунов, что некогда проносились по небосводу.
Мальчик сидит на ступеньках и слушает разговор в спальне. Позже он поймет, что голоса звучат, как беседа супругов перед сном: не влюбленно, а спокойно, задумчиво, с легкостью и долгими паузами. (Иногда дядя рано уходит к себе в спальню, и в такие вечера тетушка относит ему горячее питье – горячительное, со смешком замечает она.) Слов мальчик не разбирает, но тон разговора, манера, в которой мужской и женский голоса сплетаются, встречаются и отталкиваются друг от друга, в том, как звуки дополняют и завершают друг друга, и в то же время четко отличаются, как металл и камень или как дерево и кожа, и сливаются в гармоничном скольжении, в обрывистом шорохе и резких паузах, из которых складывается гул разговора, – все это красноречивее любых отчетливо произнесенных слов говорит о силе принимаемых решений, неподвластных возражениям постороннего слушателя.
Летом 1893 года целых три месяца стояла засуха. Наконец разразился ливень.
Мальчик выбегает из дома. От земли пахнет мясом.
На ладонях – запах лошадей и упряжи. Запах складывается из ароматов кожи, седельного мыла, пота, копыт, лошадиной шерсти и дыхания, травы, овса, грязи, попон, слюны, навоза и запотевшего металла.
Мальчик подносит ладони к лицу и с наслаждением вдыхает аромат. Иногда запах остается на пальцах весь день, до самого вечера, хотя поездка верхом случилась утром.
Лошадь и упряжь пахнут совсем не так, как коровник. Эти запахи можно назвать полной противоположностью друг другу. Коровник означает молоко, ткань, женщин, сидящих на корточках подле коров, жидкий навоз, перегной, тепло, розовые ладони и такое же розовое вымя, полное отсутствие тайн и имена коров: Красотка, Капризуля, Пышка, Куколка, Лакомка, Крошка.
Запах лошади и упряжи для мальчика связан с природой его собственного тела (внезапно он понимает, что оно теплое), с гордостью (он хорошо ездит верхом, и дядя его хвалит), с лошадиной гривой и нетерпеливым желанием поскорее узнать все о мире мужчин.
Какие-то подробности этого мира мальчику известны, но он считает, что все они относятся к тому, чего никто не упоминает. Ему кажется, что мужчинам необходимо все держать в секрете, как поступает и он сам. Когда он попадет в этот мир – и поскачет за гончими капитана Элуэйса, – то узнает все его тайны.
За три года – с двух до пяти лет – у мальчика сменилось три гувернантки. Последнюю зовут мисс Хелен.
В классной комнате, расположенной в том крыле особняка, которое дальше всего от кухни и двора, мужчин нет; там один только мальчик. Он сидит за столом, болтая ногами, и читает вслух. Гувернантка устроилась в кресле, повернув его так, чтобы смотреть в окно.
Когда мальчику кажется, что она о нем забывает, наблюдая за происходящим за окном, он нарочно делает ошибки, чтобы привлечь ее внимание. Иногда ошибки непреднамеренные… все лето шли дрозды.
– Дрозды?
– Ну да, пестренькие такие.
– Все лето шли дрозды?
Мисс Хелен встает, разглаживает платье на тонкой талии и подходит к мальчику, становится у него за спиной, заглядывает в книгу.
– Все лето шли дожди! Дожди, а не дрозды, – смеется она.
Мальчик смеется вместе с ней, запрокидывает голову, касается затылком ее платья.
– Да, дрозды – это птицы. Певчие. А здесь подлежащее – дожди.
В пять или шесть лет любовь – явление редкое, однако по сути своей такое же, как и в пятьдесят.
Для того чтобы пятилетний мальчик влюбился, необходима предпосылка. Он должен потерять родителей или утратить всякую возможность близкого общения с ними; приемных родителей у него тоже не должно быть. Вдобавок у него не должно быть ни друзей, ни братьев или сестер. Тогда он – подходящий кандидат.
Влюбленность – изощренное чувство предвосхищения постоянного обмена определенными дарами, от мимолетного взгляда до предложения себя самого, целиком и полностью. Впрочем, дар должен оставаться даром, его не предъявляют по требованию. У влюбленного нет прав, за исключением права с нетерпением ожидать даров, которыми его пожелает наградить возлюбленная. Дети, как правило, обладают многочисленными правами (на снисхождение, на утешение и тому подобное), поэтому они не влюбляются. Но если ребенок, в силу указанных обстоятельств, осознает, что имеющиеся у него права – не данность, если он догадывается, пусть и не в полной мере, что счастье – не непреложное обещание, а то, что каждый должен найти сам для себя, если он понимает, что одинок, то начинает ожидать от другого постоянных, безвозмездных и невинных даров. Это состояние и называют любовью. Однако что он может предложить в обмен? Мальчик, как и мужчина, предлагает самого себя – это вполне возможно. Тем не менее невозможно – точнее, невероятно, – что объект его любви когда-нибудь распознает этот дар или поймет это чувство.
– А что такое подлежащее? – спрашивает он.
– Это главный член предложения, который называет то, о чем в предложении говорится.
Вы наверняка возразите (как возразила бы и она, только более расплывчато), что пятилетний мальчик физически не развит, он не в состоянии испытывать физического влечения, которое лежит в основе любви.
Каждое утро он слышит, как она умывается у себя в спальне. Каждое утро ему хочется неожиданно войти к ней – выдумать какой-нибудь предлог, сказать, что ему страшно. Но такой поступок выражает детскую требовательность, а мальчик влюблен, и гордость влюбленного его от этого удерживает.
По ночам в постели он придирчиво рассматривает свое тело и обнаруживает, где именно расположен таинственный источник его возбуждения. (Ее присутствие, вот как сейчас, когда она стоит позади, а он затылком касается ее платья, заставляет его сердце биться сильнее, а все тело обволакивает истома, как в горячей ванне.) Он изучает свой нос, уши, подмышки, соски, пупок, дырочку в попе и пальцы ног. Добравшись до своего торчащего пениса, он понимает, что там скрывается некий ответ, и ласкает себя, ощущая знакомое сладостное возбуждение, которое накатывает, волна за волной, и внезапно превращается в боль. Приятное чувство он полагает хорошей болью, потому что единственное знакомое ему ощущение такой глубины и силы – это боль.
– Давай споем, – предлагает он.
В отличие от предыдущих гувернанток мисс Хелен чрезвычайно ленива, к урокам относится небрежно и занимается со своим подопечным лишь тем, что им интересно. Вместо трех уроков до обеда они просто проводят утро вдвоем. Мальчик считает, что это уравнивает их в правах. Мисс Хелен проводит это время в праздных мечтаниях.
Она подходит к фортепиано и усаживается на круглый вертящийся табурет.
– Можно, я тебя покручу? – просит мальчик, становится ей за спину, прижимает ладошки ей к бедрам и толкает.
Она поджимает ноги, спрятав туфли под юбками, и медленно поворачивается.
«Ах, у него личико, как у обезьянки, а глаза темные и глубокие. Он такой смешной! Все смотрит и смотрит, пока не отвернешься. Не представляю, о чем он думает».
Через два дня она собирается на неделю в Лондон.
Мальчик заметил – и считает это уникальной чертой, – что ее платья всегда теплые на ощупь.
Она опускает ноги на пол.
– Что скажет твой дядя, если нас увидит?
– Он никогда сюда не приходит. А если бы и явился, то верхом на коне, заглянул бы в окошко.
Мисс Хелен невольно глядит в окно.
– Давай я тебя еще покручу.
– Нет, – почти капризно отвечает она.
– Тогда спой песню, – просит мальчик. – Мою любимую.
– Какую?
– Ту самую, про Хелен. Твою песню.
Она смеется и треплет ему вихры.
– Можно подумать, я других песен не знаю.
Голосок у нее тоненький, как у ребенка. Когда она поет, ему представляется, что они одного роста и рядом выглядят замечательно. Он давно не слушает слов песни (Ах, если бы я был подле Хелен…), потому что хорошо их знает и совсем им не верит. Отвергая слова, он слушает пение мисс Хелен, как птичье. Пока она поет, он будто бы спрашивает: «Хелен, ты выйдешь за меня замуж?», а она своей песней отвечает ему: «Да». Но сам он в это бы не поверил: это невозможно, так уж устроен мир.
Она опускает глаза, словно смотрит в ноты. Полуопущенные тяжелые веки – гладкие, выпуклые, без морщин и складок. Однажды она спала в гамаке на лугу, а на лицо ей села муха.
Мисс Хелен воображает, как беззаботно поет «свою» песню подопечному, а ее слышит мистер Джон Леннокс, кандидат в члены парламента от партии либералов округа Росс-он-Уай. Мистер Леннокс подходит к ней и говорит: «Я и не предполагал, что среди ваших многочисленных талантов еще и превосходный голос».
Мальчик, взбудораженный тайной, от которой по ночам отвердевает его член, начинает задавать вопросы, но делает это невнятным языком незавершенных фраз, смутных образов и схематичных жестов тела.
Приблизительно его вопросы можно перевести так:
Почему я заключен в кожу?
Как поближе подобраться к ощущаемому мной наслаждению?
Что во мне я так хорошо знаю, но никто об этом больше не догадывается?
Как объяснить это посторонним, чтобы они тоже знали?
В чем я? Что это за вещь, посреди которой я себя обнаружил и из которой мне не выбраться?
Он уверен, что мисс Хелен сможет ему ответить с помощью того же невнятного языка, на котором он ее расспрашивает. В классной комнате он задает ей свои обычные вопросы – откуда берется дождь? что ест волк? и тому подобное, – и мисс Хелен на них отвечает. Таким образом он готовит ее к своим тайным вопросам.
Ее руки лежат на клавишах фортепиано – бледные тонкие пальцы, коротко подстриженные ногти. По воскресеньям она надевает белые перчатки. Возвращаясь из церкви, мальчик берет мисс Хелен за руку. Он пленен и очарован тем, как она касается клавиатуры – то легким, почти мимолетным касанием, когда палец небрежно ласкает клавишу и тут же перелетает к другой, то тяжелым ударом, вдавливая клавишу и удерживая ее, так что видны неполированные бока соседних клавиш. Ее пальцы будто вонзаются в фортепиано. Последняя нота затихает вдали.
– Теперь играй, а я тебе спою.
– Что ты мне споешь?
– Твою песню.
Мальчик старше шести или семи лет больше не влюбляется – до тех пор, пока не станет подростком. Теперь у него много знакомых. Мир за пределами его тела расширяется, разделяется на множество людей, любой из которых может заявить ему, что они непохожи. В пять лет этого не происходит.
В отсутствие родителей мальчик все еще ищет единственного человека, который представляет собой все, что отлично от него, чтобы предстать перед ним как его недостающая половина, его противоположность. Если он найдет такого человека, отличного от него опытом, ролью, происхождением, интересами, возрастом, полом, и если человек этот, в самом широком смысле слова, скажется для него совершенно чужим и все же постоянно и непосредственно будет находиться рядом с ним, и если в довершение всего она будет цветущей красавицей, то он наверняка влюбится.
И все же, возразите вы, физическое влечение и страсть отсутствуют – и в качестве доказательства приведете тело пятилетнего мальчика. (Два раза в неделю, когда его купают, он сам приводит эти доказательства своей возлюбленной.) Однако свою физическую неразвитость он восполняет метафизически. Он ощущает и чувствует, что она, будучи полной противоположностью, дополняет его и довершает для него мир. У взрослых это ощущение воссоздается физической страстью. Пятилетнему мальчику воссоздавать его нет необходимости – оно им унаследовано.
Он начинает петь, не задумываясь о словах, пристально наблюдая за ее пальцами на клавишах. Потом подходит ближе, касается щекой ее плеча.
Вскоре вместо мисс Хелен нанимают учителя.
Мальчик не просит объяснений, да их ему и не предлагают. Он привык принимать решения как неоспоримые факты. Для него верховная власть не сосредоточена в руках одного человека, а потому возможность обжаловать решение не приходит в голову.
Он прикладывает ухо к коре, вслушивается в дерево. Он никогда прежде не слушал мертвое дерево. Деревья он мысленно делит на четкие категории: любимые и нелюбимые (без особых на то причин). Те, на которые слишком легко взбираться, и те, на которые взбираться страшновато. Те, с вершины которых открывается красивый вид, и те, с которых ничего интересного не видно. Дальше категории усложняются. Деревья живые, но не так, как звери. В чем разница? Во-первых, дерево доступнее. Во-вторых, оно загадочнее. В-третьих, оно неподвижно. В-четвертых, на дереве можно спрятаться. Если вырезать что-нибудь на коре, то дереву не больно. Если с дерева отрубают ветку, то нет ни звука, ни запаха боли. И все же, когда он прижимается к древесной коре, то она кажется живой, как его собственная кожа, и ощущение это сильнее и глубже любых рассуждений. Если дотронуться до животного, оно ведет себя по-своему. На одно дерево мальчик забирается высоко-высоко и целует ствол – всегда в одно и то же место.
Течение дня обычно не замечают; нас отвлекают повседневные дела. Нежданная гроза, буря или затмение солнца заставляют на мгновение забыть об обыденной суете бытия. Но в самом начале или в самом конце дня, на восходе или на закате, когда наше отношение ко всему окружающему стремительно изменяется, мы уделяем бегущим минутам такое же пристальное – а пожалуй, и большее – внимание, как и тем действиям, которыми обычно заполняем время. Даже самый законченный эгоист, глядя на зарю, забывает о себе. Скорее всего, это происходит потому, что начало дня и наступление ночи неизменны и не зависят от того, что происходит в течение дня.
Иногда мальчику позволяют завтракать на кухне, вместе с работниками. Он неделями потихоньку расширяет границы дозволенного, и теперь завтрак на кухне означает, что мальчик может встать раньше всех, выскользнуть из дома, заниматься чем душе угодно и к половине восьмого явиться на кухню вместе с пастухом.
Холодным зимним утром, спустя несколько месяцев после того, как ушла мисс Хелен, он встает затемно и украдкой убегает на лужайку, к букам.
То, что он ощущает, глядя на освещенные окна коровника и особняка, представляет собой леденящее дополнение к пылающей тайне его тела в постели. Каждое освещенное окно намекает на скрытую за ним комнату. Из каждого окна он выдвигает ящик комнаты наружу. В ящике спрятаны тепло, безопасность и привычное течение жизни. Но самого мальчика там нет – он под покровом тьмы у буков. В темноте и на холоде его чувства так ограничены, что ему чудится, будто он смотрит на мир из крошечной хижины, куда едва вмещается тело. Вопрос, который мальчик не в состоянии сформулировать даже на невнятном языке, гнездится где-то между особняком и воображаемой хижиной. В поле, на холме, пасутся овцы – они чуть светлее темноты, как отпечаток дыхания на темном оконном стекле, растворяющийся во мраке. Мальчик осознает, что овцы остаются вне вопроса, не поддающегося определению. Темнота сменяется предрассветными сумерками, мальчик начинает различать очертания своего тела, и воображаемая хижина исчезает, а вместе с ней – и ощущение вопроса, оставшегося несформулированным.
Мальчик спускается во двор и входит в коровник, где две доярки и пастух заняты дойкой. Он похлопывает каждую корову по крупу и называет их по именам.
Чай за завтраком на кухне отличается от чая в классной комнате. Здесь другие чашки – толстые и громадные, почти как плошки.
Он пьет обжигающе горячий чай – крепкий, но жидкий. Нёбо обволакивает тонкая пленка, непроницаемая, гладкая и блестящая, будто слюдяные пластинки, которые вставляют в стенки фонаря. Вкус чая во рту перебивает всепоглощающая сладость сахара, нитью Эвридики стекает в горло и загадочным образом через желудок проникает в крошечную сексуальную область (которая у мужчины отлична от собственно половых органов), где постепенно накапливается и откуда горячей волной выплескивается сексуальное наслаждение. Так сахар знакомит нас с прелестями интимной жизни.
«Мед бывает чистым или токсичным, как и женщина, которую в нормальном состоянии можно сравнить с «медом», но она же выделяет яд в период женского недомогания. Для мысли туземцев поиски меда представляли своего рода возвращение к природе, процедуру, наделяемую чертами эротичности, перенесенными из разряда сексуальных характеристик в разряд чувственно вкусовых. Эта черта могла бы стать подкопом под фундаментом всей культуры, если бы ее культивации уделялось слишком много внимания»[5].
На кухне пахнет беконом и сапогами работников.
Повариха стоит у плиты и с невероятным удивлением наблюдает за завтраком семи работников и трех горничных. Изумленное выражение возникает у нее на лице всякий раз, когда люди поглощают приготовленную ею пищу. Аппетит едоков повариху давно уже не удивляет; изумление, скорее всего, имеет более приземленную, первозданную природу – нечто поглощают, и оно перестает существовать.
В кухню входит тетушка мальчика, треплет его по голове и решительно направляется к буфету у окна. Горничные робко поглядывают на нее. Она высматривает в окно брата. В те редкие минуты, когда она не хлопочет по хозяйству, Беатриса, будто молодая жена, с тревожным нетерпением ждет его появления. Повзрослев, брат утратил собранность и деловитость, растерял навыки. В юности он служил предметом ее восхищения, но и теперь, двадцать лет спустя, она все так же хранит ему верность.
Мальчик пьет чай и следит за тетушкой. Она вглядывается в окно, почти касаясь лицом стекла. Он знает, что тетушка, как обычно, ждет брата. Мальчик украдкой встает из-за стола, выскальзывает в кладовую, выбирается во двор, прижимаясь к стене, чтобы его не заметили из кухни, и, обогнув дом, оказывается под окном, у которого стоит его тетушка. На миг он замирает, с трудом сдерживая смех, предвкушая забавную шалость.
«Тетушка ждет своего брата – а тут я!»
Он взбирается на деревянную поилку, медленно выпрямляется и прижимает нос к стеклу, глазами упираясь в грудь тетушки. Вначале она его не замечает – ее взгляд устремлен вдаль, она ждет, что брат войдет в калитку. Мальчик смотрит на ее лицо снизу вверх. Она опускает глаза, в них вспыхивает смешливая искорка. Тетушка улыбается, и он радостно хохочет. «Вот он, я!»
В комнате установили доску. Комната превратилась в класс. Исчезли все напоминания о том, что когда-то здесь была детская, а еще раньше – малая гостиная. На полках в шкафу стоят учебники. На стене висит карта мира, большая ее часть выкрашена в алый цвет охотничьего сюртука – территория Британской империи. Рядом с картой повесили часы. Время мисс Хелен миновало, и мальчик осознает, что это непреложно. Как и то, что у него нет отца. Впрочем, о последнем ему сказали, а о первом он догадался сам.
– Еще раз посмотришь на часы – и занятия арифметикой продолжим после обеда.
– После обеда мы с дядюшкой поедем кататься верхом.
– Я поговорю с твоим дядюшкой.
– Ничего из этого не выйдет.
– То есть как?
– Мы с дядюшкой едем кататься верхом.
– Встань!
Учитель встает и нарочито медленно направляется к фортепиано. Привычный ритуал служит напоминанием о том, что ожидает мальчика. Со стены над фортепиано учитель снимает трость.
– Что полагается за дерзость?
– Один удар по рукам, сэр.
Мальчик протягивает руки перед собой, раскрывает ладони.
Он научился терпеть наказание. После удара учитель всегда пристально вглядывается в лицо ученика, будто в поисках доказательств. Выражение лица должно точно соответствовать боли в руках. Если мальчик чересчур напрягается, то остро ощущает, что написано у него на лице, проникается жалостью к себе и может заплакать. Если он расслаблен, то боль отражается в глазах и сжимает горло прежде, чем он успевает к ней приспособиться. Поэтому при каждом наказании он должен четко определить силу ожидаемого удара, оценивая дыхание учителя и то, как сильно он втягивает живот под жилетом. Если догадка верна, то по выражению лица учителю ничего определить не удается, и мальчику почти не больно.
Удар трости по левой ладони полагается за ошибку, которую учитель исправил на предыдущем занятии (к примеру, в слове «количество» не две буквы Л, а одна); ошибка, повторенная трижды за день, наказывается ударом по правой ладони; за ослушание (вот как сейчас) ученик получает удар по обеим ладоням; за дерзкое неповиновение – три удара. Поначалу такая система наказаний удивляла мальчика, но сейчас он воспринимает ее привычно, как стрелки часов, указывающие время. Час занятий кажется бесконечным; да часа на свежем воздухе пролетают незаметно.
– Что больше, две трети или три седьмых?
Мальчик, ощущая в вопросе подвох, глядит в окно на Бассетский лес.
Учитель решает, что ученик ему нравится, однако его своеволие необходимо обуздать, иначе мальчику трудно придется в жизни.
В комнате поварихи стоят высокие напольные часы. Их тиканье завораживает мальчика, обещая бесконечное время, но тихие щелчки, отмеряя секунды, заполняют бесконечность, и это удручает. Он терпеливо считает медленные движения тяжелого бронзового маятника – двести, триста, – а потом ему надоедает, хочется разбить круглое стеклянное окошко в часах, за которым из стороны в сторону раскачивается круглый диск грузика.
Кошка поварихи взбирается на колени мальчика. Он чешет ей за ухом, она мурлычет. Мальчик все больше и больше погружается в завораживающий транс, будто раскачивается в гамаке, подвешенном к двум ветвям сознания: к бесконечной протяженности времени в нерушимом доме (ему семь с половиной лет, он живет здесь уже пять лет и не представляет себе, что дом можно сломать или уничтожить) и к равнодушной, живущей своей жизнью кошке на коленях. Жар кошачьего тела проникает сквозь ткань штанишек, согревает бедра и живот.
В сумерках мальчик выходит из леса на холме за буками и спускается к дому. Осенний вечер. Лужи. Алый закат. Из печных труб стройными столбиками поднимается дым. С одного дерева на другое с шелестом перелетает горлица. С земли веет холодом, зябко от пяток до пояса. Рядом трусит пес, и это меняет перспективу. Предметы и события реже накладываются друг на друга, места вокруг становится больше. Пес кружит у ног, убегает вперед, отодвигая границу непознанного, – процесс, обратный тому, как овчарка собирает стадо. Неизвестное настойчиво. «Чего не может случиться? – спрашивает ребенок и сам себе отвечает: – Ничего». «Что может случиться? – спрашивает взрослый и отвечает: – Ничего». А ребенок идет по лесу, как ребенок.
Шагах в пятидесяти от него пес заходится лаем. Браконьеры? Мальчик на той стадии развития, когда сама мысль о браконьерах окутана тайной. Дядюшка называет их преступными убийцами, созданиями, которым неведома жалость, которые ни перед чем не остановятся. Дядюшка считает браконьеров угрозой общественному порядку (точно так же, как Умберто оценивает толпу горожан). Из разговоров, жестов и подмигиваний работников мальчику становится ясно, что среди их друзей и знакомых есть браконьеры.
– Вот если б мировой судья поголодал… – замечает один из батраков.
«Значит, браконьерам голодно?» – спрашивает себя мальчик. Невозможно вообразить, как проголодаться до такой степени, чтобы пойти браконьерствовать. Голодные псы набрасываются на еду, трясут и мотают головами. В сумерках мальчик представляет, как оголодавшие люди жадно поглощают пищу, трясут и мотают головами. Он идет быстро, не бежит, но и не замедляет шага. В нем живет страх. Мальчик несет его, как наполненный кувшин. Пролить нельзя ни капли, потому что тогда страх захлестнет все вокруг.
Пес замирает, навострив уши и приподняв переднюю лапу. Из леса доносится характерный звук людских шагов: под сапогами потрескивает хворост, шуршит палая листва, пружинят корни. На опушку выходят двое. Вместо рубах через голову надеты мешки, подвязанные на поясе. Холстина местами промокла, потемнела. Мальчик никогда не видел этих людей. У одного в руках бутылка.
– Не бойся, сынок, – обращается к мальчику второй.
Мальчик стоит неподвижно, опасаясь расплескать кувшин. Лица у мужчин тяжелые, квадратные, похожие на маски, вырезанные по верхним углам массивного шкафа в спальне доярок. Незнакомцы приглашают его пойти с ними.
– Мы тебя не тронем, – обещает тот, что с бутылкой.
Они разговаривают с ним, как с ребенком. Это придает ему некоторую уверенность.
– Как тебя зовут? – спрашивают они.
Мальчик называет свое имя.
Они идут дальше. Предыдущий жизненный опыт не подготовил мальчика к этой прогулке по лесу с мужчинами в грубой холстине; он не может определить, обычно это или нет. А вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее, и позже дядюшка или учитель объяснят, что именно произошло? Но смогут ли они объяснить?
– Куда мы идем? – спрашивает он.
– Посмотришь, – отвечает мужчина с бутылкой.
В темноте лиц не видно.
– Погоди, – говорит другой мужчина, отходит в сторону и приносит откуда-то незажженный светильник, похожий на каретный фонарь.
Его приятель вливает в светильник какую-то жидкость из бутылки. Пахнет керосином. Светильник зажигают, подкручивают фитиль, и все идут дальше. Пес скулит и отбегает в темноту. Все молчат. Свет зажженного фонаря отбрасывает тени ввысь, на небо.
Мужчина впереди останавливается, поднимает фонарь над головой.
– Видишь?
Мальчик вглядывается в темноту, различает три обрубка толстых ветвей, уложенных поперек тропинки. Очертания обрубков чем-то знакомы. Его охватывает испуг. Мальчик понимает, что это – лошадиные ноги. Рука мужчины с лампой чуть вздрагивает, свет выхватывает из мрака край блестящей подковы, будто гвоздь, забитый в древесный ствол. Лошадиные ноги неподвижны.
– Ну что?
– Лошадь упала.
– Одна лошадь? – спрашивает человек с бутылкой. Голос у него ласковее, чем у приятеля.
– Не знаю.
– Чего стоишь? – говорит второй, взбирается на пригорок и поднимает фонарь повыше.
На земле лежат две лошади, обе на боку. Здоровенные тяжеловозы. Странно скрюченные, будто они упали на колени, сломали ноги и перекатились через голову. Пес сопит, шумно обнюхивает одну из лошадей.
– Они умерли? – спрашивает мальчик.
– Погоди, – неторопливо отвечает человек с бутылкой, тот, у которого ласковый голос.
– Ты чего? – возмущается тот, что с фонарем.
– Дурак ты, – говорит первый и поворачивается к мальчику. – Слушай, сынок, я их сейчас забью. Видишь, они упали, а встать не могут. Надо их прикончить.
Мужчина на пригорке опускает фонарь пониже.
– Смотри, раз тебе говорят, – замечает он.
Человек с бутылкой подходит к голове первой лошади, наклоняется и ударяет. Мальчику не видно, чем он ее бьет. Может, бутылкой. То же происходит у головы второй лошади. Громадные конские туши даже не вздрагивают от ударов. Мужчина разгибается. В руках у него ничего нет.
– Ну вот, я их забил. Видел?
Мальчик понимает, что надо соврать.
– Да, – отвечает он.
Мужчина подходит к нему, поощрительно хлопает по плечу. На ладони, пахнущей керосином, темнеют пятна крови.
– Значит, видел, – уточняет он.
– Да, видел, – кивает мальчик. – Ты забил двух лошадей.
Он осознает, что разговаривает с незнакомцем, как взрослый с ребенком.
– Молодец, одним ударом забил, – добавляет мальчик.
– Давай мы тебя назад отведем, – предлагает мужчина. – А если кто спросит, ты расскажи, что видел, как я их забил. Мы тебе посветим.
– Так я пойду? – спрашивает мальчик.
– Мы тебя проводим, сынок.
– Я дорогу найду, – говорит мальчик. – Даже в темноте.