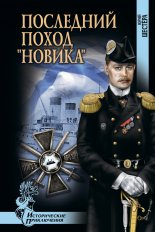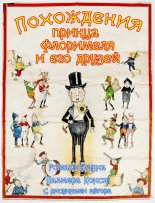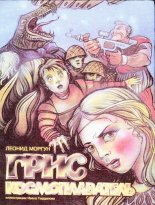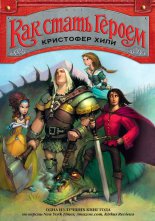Смертельно опасны Антология

Девочка.
Идет следом.
– Ты меня за дурочку не держи! Если хочешь меня бросить, делай это не так откровенно. Я ведь могу тебя выследить и заставить сделать хоть что-то.
Чтобы бросить ее, нужна была злость, которую Калиндрис не могла тратить. Злость, как ее стрелы, ее нож и весь ее день, предназначалась кому-то другому.
– Почему ты со мной не разговариваешь? – негодовала девочка. – Я все сделала правильно. Шла по следу, как ты мне показывала, во всем тебя слушалась. Что не так?
Калиндрис молчала потому, что девочка уже потратила все слова, – это и было неправильно. Столько слов ей не нужно, они ей вообще не нужны. Язык шиктов – это Вой, приходящий к ним с первым вздохом и первым криком.
Но девочка не слышит его, не владеет им. Она способна только дышать и кричать.
И ее крики терзают уши Калиндрис.
– Мы хоть идем-то правильно? – не унималась девочка. – Я не вернусь, пока зверь не будет убит, иначе меня не примут и не дадут мне перья. Отец так сказал.
Калиндрис поморщилась. Рокада болтает много всякого. Как будто все так и есть, как он говорит. Несогласные видят зеленый огонь его глаз, его белые зубы. Слышат медовый голос, убеждающий их.
Миг спустя ее позвоночник выпрямился подобно копью и проступил под кожей. Она обернулась, оскалившись, прижав уши.
Девочка стояла прямо за ней. Перья в золотистых кудряшках торчат как попало, лук за узкими плечиками натянут неверно, в худых ручонках недостанет силы послать стрелу. Уши длинные, гладкие, без канавок – одно торчит вверх, другое повисло. В тщетной попытке расслышать то, что им не дано.
А глаза зеленые-презеленые.
– Твой отец не всегда бывает прав, – сказала Калиндрис.
– Будь это так, его бы не слушали. – Девочка напыжилась от показной гордости, которой на самом деле не чувствовала. – Но люди его слушают и делают, как он говорит.
Слова, тяжелые слова. Можно подумать, что дитя верит в них.
Калиндрис не сразу сумела разжать кулак, палец за пальцем, костяшка за костяшкой. Не сразу сумела оторвать от девочки глаза, замкнуть уши. Она поправила колчан и снова пошла на шум.
– Зря мы сюда идем. Надо было послушаться.
– У нас нет выбора. Ходу, ходу!
Мать с отцом снова ссорились.
– Эта тварь забрала мою Идну, а мы ее бросили и сбежали. Со своей-то земли!
– Боги! Замолчи наконец, дай подумать.
Мать с отцом не боялись, им было не до того. Поэтому не боялась и Сенни. Когда ей становилось страшно, она просто смотрела на них. Мать, глядя на отца, злилась, отец, глядя на мать, начинал браниться, – это занимало их целиком и мешало страху. А Сенни держалась за ножик на поясе и тоже храбрилась.
Хотя бежали они очень быстро и мать тянула ее за руку что было сил.
– Оно убило ее! Оставило на дереве и окрасило кору ее кровью. Мы должны были остаться и схоронить ее, а мы убежали.
– Да что мы могли, дуреха? Потом они взялись бы за нас – вот сейчас и возьмутся. Подумай о ней!
Сенни знала, о ком они говорят. Отец называл их чудищами. Те пришли в их домик и велели им уходить. Сказали, что это их, чудищ, лес. Отец сказал, что никуда не уйдет, и тогда те забрали Идну.
Их имя звучало как бранное слово.
Отец взял Сенни за другую руку – может, хотел показать матери, что не боится и потому тянет сильнее. Сенни высвободилась и ухватилась за ножик – показать отцу, что она тоже храбрая, но он не заметил.
Он смотрел вперед, мать – назад. Идны с ними не было, и они не говорили о ней – наверное, чтобы не пугать Сенни. Но Сенни видела Идну на дереве – ветер качал ее вместе с ветками.
Мать хотела вернуться, но шла с отцом к домику у ручья.
Отец сказал, что теперь они будут жить там. У ручья растут ягоды, и можно ставить силки на кроликов. Мать научила Сенни готовить вкусную мясную похлебку. В лесу страшно, и Сенни не велели туда ходить, но отец подарил ей ножик, и она ходила несколько раз.
Здесь есть места, где можно спрятаться. От зверя, от чудища, забравшего Идну.
– Отец, – сказала она.
– Иди, иди, – сказал он.
– В лесу можно…
– Да, да.
Она подняла вверх свой ножик.
– Там можно спрятаться, и ягоды есть, и я не…
– Да цыц ты, говно!
Он никогда не обзывал ее так, но сказал такое же слово, когда люди с перьями в волосах пришли и велели ему уходить. Потом тоже говорил, и Сенни знала, что оно значит.
Так называются чудища. Это их имя.
– Мы и так в говне по уши, закрой свой говенный рот!
Мать молчала – боялась, наверное.
Сенни держалась за ее руку, стиснув ножик в другом кулаке.
Когда луна стала опускаться в древесное море и совы вернулись в свои дупла голодными, она попыталась не слышать, что он говорит.
– И вот еще что.
Рокада говорил с ней только впотьмах – чтобы не видеть, как она от него отгораживается, чтобы она не могла заняться чем-то другим и притвориться, будто ей до него дела нет. Чтобы не замечать, как она водит пальцами по рубцу на ключице.
– Нужны будут доказательства, – сказал он.
– Доказательства, – повторила Калиндрис.
– Да, трофей. Доказать племени, что она вправду сделала это. Позаботься, чтобы руки у нее были в крови.
– Ты хочешь, чтобы я принесла тебе доказательство?
– Да. Сунь ей в руки, если понадобится. Скажи, что я буду ею гордиться, это заставит ее послушаться.
– Она не умеет стрелять. Не умеет натянуть лук как следует и подкрасться к добыче. Шумит, как и ты. – Калиндрис продолжала шнуровать сапоги. – Она не справится.
– Должна справиться.
Рокада сел рядом на шкуры, и она замерла. Эти шкуры служили ей постелью только в самые холодные зимы, но когда они лежали вместе бок о бок, зимний холод не чувствовался. Она вся обливалась холодным потом, и ей было тошно.
Вот как сейчас.
– Племя не считает ее своей, и я недоволен этим. Ей нужно научиться быть шиктой.
Шиктой. Он произносит это, как обычное слово, то, что во мраке лучше не выговаривать.
– Она и так знает, что это. – Калиндрис туго затянула шнурки.
– Ее никто не учил. – Рокада придвинулся ближе.
– И не нужно. Мы рождаемся с этим знанием. Вой говорит нам все.
– Только не ей. Ты должна ее научить.
Она молча встала. Лук у нее всегда был под рукой, если только Рокада не убирал его в сторону. Особенно в темноте.
Пальцы мужа охватили запястье Калиндрис, и холод их брачной постели опять пронизал ее.
– Ты должна показать ей.
– Я ничего не должна, – хотела сказать она, но тьма поглотила ее слова.
Его пальцы сжимались, холод пронизывал до костей. Она чувствовала все места его прежних прикосновений – на каждом из них проступила капля холодного пота. Она оцепенела, и следующие его слова хрустнули, как ледок под ногой:
– Должна и сделаешь.
Глядя на ту сторону поляны, Калиндрис спросила вслух – тихо, чтобы листья не шелохнулись:
– Знаешь, для чего это нужно?
Собственный голос, исходящий из ее уст, казался ей чужим, странным.
Девочка стояла, держа наготове лук и стрелу.
Калиндрис показала ей на поваленный ствол. Олень соскребал с него мох копытом и ел, производя множество разных звуков: жевал, довольно похрюкивал, шумно всасывал зелень. Их шепота он расслышать никак не мог.
– Так почему же он должен умереть? – повторила Калиндрис.
Девочка щурилась, вглядываясь в оленя. Ее мысли представлялись Калиндрис как шумная путаница – недоставало Воя, чтобы их прояснить.
– Потому что это еда? – спросила она наконец.
– Нет, не поэтому.
– Ну, не знаю. Мы должны убить его – или он нас убьет?
– Олень-то?
– А что, у него рога есть. – Девочка сказала это громче, чем следовало, и олень вскинул голову – но он был голоден и опять стал кормиться.
– Почему он должен умереть? – настаивала Калиндрис.
Девочка наморщила лоб, соображая.
– Потому что только через других мы можем знать, кто мы. Мы знаем это, только когда понимаем, что мы – не они. И мы убиваем их, чтобы знать, кто мы, зачем мы здесь и почему Риффид не дала нам ничего, кроме жизни. Мы убиваем, и это делает нас теми, кто мы есть.
Калиндрис прижала уши. Девочка говорила словами своего отца, часто повторяемыми перед тысячью соплеменников, никогда ему не перечивших. Калиндрис тоже до поры до времени не перечила, а потом уже было поздно.
– Нет, – сказала она. – Неверно.
– Но отец говорит…
– Нет. Посмотри на него: почему он должен умереть?
Девочка посмотрела на оленя, потом на мать.
– А он должен?
Шум поднимающихся ушей. Шум глаз, широко раскрывшихся. Шум пресекшегося дыхания. Понимание. Приятие. Покорность. Печаль.
Девочка слушает.
Молча, без слов.
– Почему он должен умереть? – снова спросила Калиндрис.
– Потому что я должна убить его, – ответила девочка.
Калиндрис кивнула. Без улыбки и прочих ободряющих знаков. Беззвучно.
Девочка подняла лук и прицелилась, полагаясь на одни лишь глаза. Она целилась долго и пустила стрелу, лишь когда начали дрожать руки.
Стрела, угодив зверю в пах, повредила что-то нужное для его жизни. Олень, дыша паром, испустил стон и хотел убежать, но его ноги забыли, как это делается. Истекая кровью, он заковылял в лес.
Девочка достала еще стрелу и выстрелила, полагаясь на одно свое сердце. Стрела ушла вбок. Девочка вскрикнула и выстрелила опять. Крик осквернил воздух, и стрела, тяжелая от страха лучницы, ушла в землю.
Олень ступил еще шаг и упал. Вторая стрела дрожала у него в шее. Он лежал на боку, и его дыхание уходило в траву вместе с кровью.
Калиндрис подошла к нему, девочка следом. Калиндрис вытолкнула ее вперед. Девочка смотрела на свое отражение в карих глазах оленя.
Калиндрис достала из-за пояса нож и протянула ей. Девочка смотрела на него так, словно ему место не здесь, а на стенке в шатре отца.
Калиндрис совала его ей рукоятью вперед.
– Что же ты?
Распахнутые, молящие глаза. Возмущение. Страх и ненависть из-за того, что ее заставляют делать подобное.
Только слов нет.
Девочка взяла нож, опустилась на колени, прижала лезвие к горлу зверя и стала резать шкуру, кожу и жилу.
Из горла на нее хлынуло, но она продолжала резать.
Ручей журчал рядом, и она старалась не отставать от родителей.
– Страшно тебе, милая?
Нет, Сенни не было страшно, она ведь очень старалась. Она замотала головой и показала свой ножик, но отец как будто и не заметил.
– Бояться не надо, потому что я здесь. Мы переживем это, правда?
Она кивнула.
– Прости, что обругал тебя, милая. Это твоя мать меня довела своим визгом.
Мать, будто и не слыша, вела Сенни за руку к домику у ручья. Ручей журчал, спелые ягоды сверкали на солнце.
Может быть, им придется убежать в лес, чтобы спастись от зверя. И жить там. Она будет скучать по их дому и по Идне, но об Идне думать не надо, потому что от этого ее может вырвать и мать будет плакать.
– Все будет хорошо, дорогая, – говорил отец, не глядя на нее. – Не волнуйся.
– Я и не волнуюсь. Ничуточки. Ты мне ножик подарил, вот он.
– Все хорошо будет.
– Мы могли бы уйти в лес, знаешь? И вернуться, когда зверь уйдет. Я была там, он не такой темный, как кажется. Там есть ягоды и другая еда – мы можем жить там, а не в доме.
– Да-да, в лесу.
– Матери страшно, па. Она больно жмет мою руку.
Он повторял все то же – «милая», «угум» и «все будет хорошо». Сенни скоро перестала ему отвечать, он ведь все равно не слушал. Слушал бы, сразу бы понял, что с голосом у нее что-то не так, словно она вот-вот разревется.
И напугался бы, а мать – еще больше.
Он и говорил-то, чтобы не слушать ее. А мать до боли сжимала ей руку. А сама Сенни изо всех сил сдерживала тошноту и плач – все, что выдает страх.
Будь с ними Идна, ей бы, может, и удалось.
Но Идны не было.
Когда солнце опустилось за шатер и первые волки вышли охотиться, она возненавидела себя не меньше, чем его.
– Хочу тебя спросить кое о чем, – сказал Рокада.
– Нет, – сказала она.
Ему никто так не отвечал, кроме нее, и он не ведал, что это значит.
– Почему тебя это не заботит? – спросил он как ни в чем не бывало.
– Что именно?
– Как на нее смотрят, что о ней думают. Будто она не наша. Не шикта. – И он прорычал самое трудное: – Не моя дочь!
– Мне дела нет до нее.
– Почему? Разве ты не видишь, как они смотрят? Что думают?
– Нет. Не вижу.
– Как будто она не… – Теперь он рычал без слов. Он терпеть не мог, когда слова ему изменяли, ведь Воем он не владел. В таких случаях он начинал рычать, иначе племя могло бы не согласиться с ним и сказать ему «нет».
В таких случаях он оставлял шрамы на чужой коже.
– Она хватается за чью-то руку, когда боится. Спрашивает у других то, что должна знать через Вой. – Он рванул шкуру ногтями, но не утолил своей ярости и принялся рвать на себе волосы. – Плачет, когда ей больно. Рычит, когда злится.
– Все дети так делают.
– Только не моя наследница.
– Твоя наследница тоже ребенок.
– Не наши дети. Не мы. Мы так не делаем.
– А вот она делает.
– И тебе это все равно! Ты на нее и не смотришь. Не знаешь разве, что про нас говорят?
– Мне это все равно.
– Раньше было не все равно.
– Теперь – да.
Она услышала тишину перед раскатом грома. Услышала, как плющатся пылинки под дождевой каплей, как стонет ветер в холмах. Он набрал воздуху и заговорил так, чтобы добиться ее внимания:
– Раньше ты стояла рядом со мной против всех, помнишь? Гордая охотница со своим луком, сильная, смелая. Когда я говорил, они смотрели на нас. Они меня слушали, а я хотел, чтобы меня слышала ты одна.
Мед, бродящий в кожаном мехе. Пушинки одуванчика на ветру. Пар от погашенного костра. Слова, к которым она когда-то прислушивалась, слова, давшие ему власть. Тогда он был Рокадой, она – Калиндрис, и они не нуждались в словах.
– Ты тоже слушала и кивала, когда кивали они, и веселилась, когда они веселились. А когда я завершал свою речь и все они улыбались, твоя улыбка была шире всех.
Тогда она думала, что ей, кроме его слов, ничего не надо.
– У тебя было много слов, – сказала она.
– Их и теперь достаточно. У меня есть все, кроме гордой охотницы, что когда-то стояла рядом. Куда она делась?
Калиндрис откинула входное полотнище. Занимался холодный рассвет, и везде было тихо. Оглянувшись через плечо, она увидела его глаза, огромные и зеленые, но шрам на ключице никуда не исчез.
– Она полюбила мужчину, молчаливого, доброго. Они убежали вместе и умерли где-то в лесу, бросив тебя и меня, – сказала она и ушла.
– Неправильно. Все не так. – У детеныша прорезываются зубы. – Поговори со мной. Скажи что-нибудь. – Когти тщатся выкопать из земли то, чего нет там. – Перестань. Перестань и скажи. – Кто-то перегрызает себе лапу, попав в силок.
Девочка говорит с землей.
Снова.
Калиндрис, скрестив руки, смотрела, как та ползет по неровной борозде: вдоль берега, в реку, за деревья и обратно к началу. Ругаясь, требуя, жалуясь, бормоча что-то невнятное следу, земле и самой себе.
Девочка вся извозилась в грязи – даже лицо, за которое она хваталась порой, стало грязным. Ее руки месили землю, добиваясь ответа, но земля не желала ей отвечать.
Она хотела, чтобы след все сказал ей, но не прислушивалась к нему. Хотела, чтобы земля подчинилась ей. Она хотела, и говорила, и требовала, но даже не думала слушать.
В точности как отец.
Калиндрис сжала кулаки, сама того не заметив.
– Он сказал, это будет легко, – ныла девочка. – Почему он так… – Она хлопнула себя по лбу, вымазавшись еще сильней. – Знаю! Все дело в тебе. Это ты делаешь что-то не так. Это ты виновата, за это тебя и ненавидят!
Вот она, его наследница. Бьет себя по лбу в грязи.
Бессловесная часть Калиндрис сказала себе, что девочке, которая все время говорит и совсем не умеет слушать, там самое место.
– Это только так говорится. – Звук собственного голоса удивил ее, как всегда. – Земля ничего не скажет тебе. Смотри, ты затерла следы. Давай начнем…
– Замолчи! – Скалится и рычит. – Не хочу тебя слушать. Хочу найти зверя, убить его, принести обратно и показать ему. Тогда отец опять будет со мной говорить, а ты и все остальные хоть провалитесь!
Девочка прохудилась разом. Изо рта брызгала слюна, глаза наполнились слезами, из носа текло. Она таяла и дрожала, вглядываясь в безответную землю.
У Калиндрис не было больше слов для этой девочки. Та вела себя так, будто это ее, Калиндрис, вина, что ее уши не слышат. Будто это Калиндрис виновата, что она обливается слезами и соплями в грязи.
В точности как отец.
Калиндрис удивилась слезам, затуманившим ее собственные глаза.
С ней земля говорила. Она сказала ей, куда ушел зверь. Сказала, что Калиндрис права, что злобится на этого ребенка, плачущего ребенка, что хочет ему отомстить. Калиндрис замкнула свои уши и пошла прочь.
Мать боялась. И отец тоже.
Сенни знала это, потому что они перестали кричать друг на друга.
Мать прижимала ее к себе, сидя в углу их домика. Отец стоял с топориком, выглядывая в окно. Мать держала Сенни, отец – топорик, и оба боялись.
Только Сенни не боялась. У нее был подаренный отцом ножик, и она не собиралась бояться, хотя отец сам боялся.
Не отдать ли ножик ему? Вдруг поможет? Но отец подал голос, и Сенни раздумала.
– Выйду погляжу, что там.
– Что ты? Зачем?
– Может, этой твари и нет поблизости. Мы не видали ее, когда нашли…
– Нет! Не вздумай! Идну уже забрали, теперь и нас заберут. Оставайся здесь, с нами.
– Я должен защищать вас. Так жить нельзя. Нельзя, чтобы зверь прогнал нас отсюда. Мы не должны…
«Бояться, – договорила про себя Сенни. – Должны быть храбрыми».
– Я выйду, – повторил отец. – Ненадолго. Сидите тут, я скоро.
Сенни кивнула. Она крепко держала свой ножик, а мать держала ее – так крепко, что даже больно. Ладно, пусть – у матери ведь нет ножика.
Отец отворил дверь. Там пели птицы. Солнце, опускаясь за деревья, сделалось рыжим. Ручей журчал, спрашивая, куда делась девочка, умеющая с ним говорить. Отец с топориком в руке сделал два шага и огляделся.
Птицы пели, солнце светило, ручей журчал.
И только отец был мертв.
Сенни знала, что он умер. Одна стрела пригвоздила его к двери дома, другая пронзила руку, и он уронил топорик. Мать закричала, и он закричал. Его кровь пролилась на дверь. Сенни еще крепче сжала свой ножик.
В дом вошел зверь – женщина. Длинные нечесаные волосы, грязная одежда, огромные уши, большие зубы и шрам на шее. Большим блестящим ножом она перерезала отцу горло, и кровь залила ее всю.
Птицы пели все так же, хотя отец умер.
Птицы пели, женщина рыдала, она смотрела на зверя.
У них было много имен: захватчики, люди, обезьяны, коу-ру. Рокада первый стал называть их зверями, чтобы было страшнее. А племя кивало и соглашалось с тем, что существа, грозящие захватить земли шиктов, – обыкновенные звери.
Она уже убила одну и повесила ее на дереве, чтобы предостеречь двух других, – хотя и тогда уже чувствовала, что их тоже придется убить. Как многих убитых ранее.
Она убивала их еще до того, как Рокада дал им новое имя. Это были враги, она истребляла их, как чуму. Шикты потому и шикты, что убивают. Этих она убьет, чтобы помешать девочке. Это девочке сейчас следовало обагрить руки кровью, а не Калиндрис. И вернуться к племени с окровавленными руками, чтобы племя признало ее и отец мог гордиться своей наследницей.
Посвящение девочки в шикты. Гордость Рокады. Отменяя первое, Калиндрис разрушала второе.