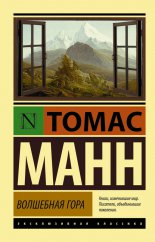Смерть внезапна и страшна Перри Энн
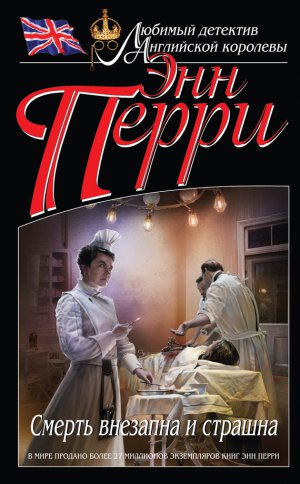
Anne Perry
A Sudden Fearful Death
Copyright © 1993 by Anne Perry
© Соколов Ю.Р., перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
Глава 1
Когда она вошла в комнату, Уильям Монк подумал, что его ожидает очередная мелкая домашняя кража или нудное выяснение характера и перспектив жениха. Не то чтобы детектив хотел отказаться от подобной работы – этого он просто не мог себе позволить. Его благодетельница, леди Калландра Дэвьет, предоставляла сыщику достаточно средств, чтобы он мог снять квартиру и ел по крайней мере два раза в день. Но его честь и гордость требовали использовать каждую подвернувшуюся возможность, чтобы заработать себе на жизнь.
Новая клиентка была изящно одета, и на голове у нее красовался хорошенький опрятный капор. Широкий кринолин, весьма женственный, подчеркивал высокую грудь и узкие плечи незнакомки. Пышная юбка делала ее хрупкой и очень молодой, хотя ей было уже под тридцать. Нынешняя мода определенно льстила всем дамам, порождая у большей части мужчин галантные чувства и желание защищать их.
– Мистер Монк? – нерешительно спросила женщина. – Мистер Уильям Монк?
Он привык к тому, что, впервые встречаясь с ним, люди испытывают волнение. Для них не так просто обратиться за помощью к частному детективу, и делают они это по причинам весьма личного характера.
Сыщик поднялся на ноги и попытался изобразить на лице улыбку – приветливую, но без фамильярности. Подобное всегда давалось ему с трудом: ни черты лица, ни натура Уильяма не были приспособлены к этому.
– Да, мэм, прошу вас, садитесь. – Он указал клиентке на одно из двух кресел, добавленных к обстановке его квартиры Эстер Лэттерли – иногда его подругой, иногда противницей, а нередко (хотел он того или нет) помощницей. Но какими бы ни были их отношения, по крайней мере за кресла Монк был ей благодарен.
Придерживая на плечах шаль, женщина присела на самый краешек кресла, выпрямив спину как по линейке. С заметным напряжением на хорошеньком личике она подняла на детектива прекрасные газельи глаза.
– Чем я могу вам помочь? – Он устроился в кресле напротив, откинувшись назад и положив ногу на ногу.
Прежде Уильям служил в полиции, но конфликт с начальством вынудил его оставить службу. Резкий, дотошный, бескомпромиссный, он не позволял людям чувствовать себя непринужденно в его присутствии, не давал им даже просто следовать своим привычкам. Искусству ладить с окружающими этот человек научился с большим трудом, да и то лишь по необходимости.
Клиентка закусила губу и глубоко вздохнула, прежде чем приступить к делу.
– Меня зовут Джулия Пенроуз, а если точнее – миссис Одли Пенроуз. Я живу с мужем и младшей сестрой на южной стороне Юстон-роуд. – Она помедлила, словно место ее жительства значило что-то само по себе и собеседник должен был это понять.
– Очень приятный район, – кивнул Монк.
Подобный адрес говорил о том, что она занимает достаточно скромный дом с небольшим садиком и двумя-тремя слугами. Итак, речь, скорее всего, пойдет о домашней краже или о женихе сестры, вызвавшем кое-какие сомнения.
Посетительница опустила глаза, рассматривая свои руки – маленькие, крепкие, в аккуратных перчатках – и, очевидно, пытаясь найти нужные слова.
Терпение сыщика лопнуло.
– Так что же смущает вас, миссис Пенроуз? Если вы будете молчать, я ничем не смогу вам помочь.
– Да-да, я знаю, – ответила дама негромко. – Но мне нелегко приступить к делу, мистер Монк. Я понимаю, что попусту трачу ваше время и приношу извинения…
– Ну что вы… – бросил хозяин дома недовольным тоном.
Блеснув глазами на бледном лице и сделав над собой усилие, женщина наконец выговорила:
– Моя сестра… подверглась насилию, мистер Монк. Я хочу найти виновного.
Увы, дело оказалось вовсе не пустяковым.
– Весьма прискорбное событие, – сказал детектив абсолютно искренне.
Не было нужды спрашивать, почему его гостья не обратилась в полицию. Объявить о случившемся значило погубить репутацию сестры. Мнение общества о женщине, в любой степени подвергшейся сексуальным домогательствам, менялось от похотливого любопытства до непреклонной уверенности в том, что она в известной мере сама навлекла на себя подобную участь. Даже сама жертва вне зависимости от обстоятельств нередко ощущала, что каким-то неведомым ей путем виновата в том, что произошло, поскольку с ни в чем не повинной особой подобное несчастье случиться не может. Возможно, сейчас причина визита Джулии к частному сыщику была такой же.
– Я хочу, чтобы вы узнали, кто это был, мистер Монк, – вновь проговорила клиентка, прямо поглядев на него.
– Ну, а если я сделаю это, миссис Пенроуз, как вы поступите? – спросил Уильям. – Раз вы не обратились в полицию, значит, не хотите доводить дело до суда.
Посетительница побледнела еще больше.
– Нет, конечно же, нет, – глухо вымолвила она. – Вы же понимаете, к чему может привести разбирательство. Это может оказаться еще хуже самого события… при всем ужасе создавшегося положения… – Она покачала головой. – Нет, я этого не хочу. Вы же знаете, что подумают люди…
– Да, – торопливо ответил Монк. – Кроме того, в случае отсутствия значительного ущерба шансы на обвинительный приговор невелики. Какие телесные повреждения нанесены вашей сестре, миссис Пенроуз?
Женщина опустила глаза, на щеках у нее выступил слабый румянец.
– Ничего серьезного… такого, что могло бы послужить доказательством. – Голос ее сделался еще тише. – Вы, конечно, понимаете, что я предпочла бы… не обсуждать столь деликатный вопрос.
– Понимаю. – Детектив и в самом деле прекрасно понимал ее и в то же время испытывал сомнения, что молодая женщина действительно подверглась нападению, а не придумала отговорку для сестры, чтобы оправдать нарушение ею принятых моральных норм. Впрочем, он искренне сочувствовал сидящей перед ним даме. Что бы ни произошло, уж она-то наверняка пережила трагедию!
Посетительница поглядела на него с робкой улыбкой.
– Вы можете помочь нам, мистер Монк? Во всяком случае… хотя бы в пределах моих возможностей? Я сэкономила часть средств, выделенных мне мужем на одежду, и могу выплатить вам до двадцати фунтов. – Она явно не хотела ни оскорбить его, ни попасть в затруднительное положение, но не знала, как это сделать.
Монк почувствовал укол жалости, что случалось с ним довольно редко. Он часто видел страдания в куда более грубой форме, чем в данном случае, а поэтому давно исчерпал отпущенные природой резервы сочувствия, сохраняя рассудок за привычной яростью. Гнев был той пружиной, что заставляла его действовать: он старался прогнать его только к концу рабочего дня, чтобы можно было прийти домой и спокойно лечь спать.
– Этих денег вполне достаточно, – сказал Уильям. – Я постараюсь либо найти виновного, либо доказать, что сделать это невозможно. Полагаю, вы расспрашивали сестру и она не сумела дать вразумительный ответ?
– Да, именно так, – ответила Джулия. – По вполне естественным причинам ей трудно вспомнить обстоятельства происшествия… Милостивая природа помогает нам забывать слишком ужасные переживания.
– Вы правы, – сказал Монк с горькой усмешкой, причину которой его собеседница не могла знать.
Почти год назад, летом 1856 года, перед концом Крымской войны, экипаж, в котором он ехал, перевернулся на улице. Уильям очнулся в госпитале на узкой серой кушетке, решив, что попал в работный дом. Он забыл даже собственное имя. Причиной амнезии был удар по голове, но когда память начала возвращаться, принося обрывки воспоминаний, его охватил черный ужас. Страшась узнать о себе что-то такое, чего он не вынесет, Монк не осмелился расспрашивать тех, кому было хорошо известно его прошлое, особенно своих сотрудников в полиции. Лишенный памяти детектив не найдет работу и сделается слишком уязвимым! А работный дом был таким кошмаром, что многие предпочитали умереть с голоду, чем попасть туда…
Шаг за шагом лишившийся памяти мужчина потихоньку восстановил свое прошлое, но многое так и осталось ему неизвестным. Он лишь догадывался о некоторых обстоятельствах своей жизни, однако не помнил их. Из того, что ему удалось узнать, вытекало, что такого человека, каким он был прежде – жестокого, честолюбивого и откровенного, – мало кто мог любить; сыщик опасался новых подробностей своей жизни. Поэтому он знал, как важно бывает забыть то, с чем не могут смириться разум и сердце.
Женщина глядела на него с удивлением и легкой тревогой.
– Конечно, миссис Пенроуз, это естественно, что ваша сестра могла забыть о столь ужасном событии, – поспешно объяснил Уильям. – Вы говорили ей, что намереваетесь посетить меня?
– О, да, – тут же кивнула клиентка. – Ведь вести расследование за ее спиной просто не имеет смысла. Она отнюдь не обрадовалась, но согласилась, что другого способа у нас нет. – Миссис Пенроуз чуть подалась вперед. – Скажу вам откровенно, мистер Монк, мне показалось, что она вздохнула с облегчением, узнав, что я не собираюсь обращаться в полицию, а потому приняла мое решение без малейших возражений.
Детективу уже давно перестали льстить подобные комплименты.
– Так, значит, она не откажется встретиться со мной? – тут же спросил он.
– Нет. Но я попросила бы вас проявить максимальную настойчивость. – Джулия слегка покраснела и опустила глаза. Ее лицо отличалось тонкими, благородными чертами, но слабости в нем не было. – Видите ли, мистер Монк, есть огромная разница между вами и полицией. Простите некоторую бестактность, но полиция служит обществу и закону, который и определяет ее поведение. Вам же плачу я сама, а потому имею возможность прекратить расследование в тот момент, когда сочту подобное решение обоснованным и соответствующим моральным критериям… чтобы не растравлять рану сестры. Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я подчеркнула это различие?
Куда там – ему лишь польстили ее слова, и он ощутил искорку неподдельного уважения к Джулии Пенроуз.
– Я очень хорошо понимаю вас, мэм. – Сыщик встал. – Закон обязывает меня сообщить о преступлении, если я имею доказательства его совершения, но в случае изнасилования – простите меня за это уродливое слово! – все обстоит иначе. Ведь мы ведем речь именно о таком преступлении?
– Да, – вздохнув, ответила женщина.
– В таком случае дело возбуждает сама пострадавшая, поэтому решение остается за ней. И все факты, которые мне удастся установить, тоже будут находиться в ее распоряжении.
– Отлично. – Посетительница тоже встала, и обручи ее громадной юбки вернулись на место, придав ее фигуре стройность. – Я полагаю, к делу вы приступите немедленно?
– Сегодня же днем, если я смогу повидать вашу сестру. Вы назовете мне ее имя?
– Марианна… Марианна Гиллеспи. Да, сегодня днем будет удобно.
– Вы сказали, что сумели сэкономить из расходов на одежду приличную сумму. Выходит, это событие произошло довольно давно?
– Дней десять назад, – торопливо ответила клиентка. – Муж дает мне деньги раз в три месяца, однако я бережлива, и большая часть суммы осталась с прошлого раза.
– Благодарю вас за подробный ответ, но вам незачем отчитываться передо мной, миссис Пенроуз. Мне просто нужно выяснить, как давно случилось преступление.
– Я хочу, мистер Монк, чтобы вы знали, что я говорю правду. Иначе я не могу рассчитывать на вашу помощь. Мне необходимо ваше доверие.
Детектив вдруг понял, что миссис Пенроуз нравится ему гораздо больше, чем можно было предположить по ее довольно обычному облику: огромные юбки на обручах, в которых так неудобно ходить, опрятный капор, который он ненавидел, белые перчатки, довольно застенчивые манеры… Поспешное суждение – черта, которую он презирал в других, а тем более в себе.
– Ваш адрес? – спросил Монк.
– Гастингс-стрит, четырнадцать.
– Еще один вопрос, – быстро проговорил сыщик. – Поскольку вы сами занимаетесь этим делом, я полагаю, ваш муж не знает о нем?
Женщина закусила губу и снова покраснела:
– Вы правы. И я бы попросила вас по возможности не упоминать об этом при нем.
– Как в таком случае мне объяснить причину своего визита?
Джулия ненадолго задумалась:
– А нельзя ли посетить нас во время его отсутствия? Он уходит на работу в десять утра и возвращается не раньше половины пятого. К тому же мой муж работает архитектором и поэтому часто задерживается.
– Хорошо. Но мне все равно хотелось бы заручиться объяснением на тот случай, если он меня застанет… Чтобы у нас не вышло разногласий.
Клиентка опустила ресницы.
– Ваши слова, мистер Монк, предполагают… какой-то обман. Я не хочу лгать своему мужу. Дело в том, что ситуация весьма сложная, и Марианне будет много легче, если он ни о чем не узнает. Ей предстоит жить в его доме, вы понимаете? – Она бросила на него многозначительный взгляд. – Марианна уже пережила эту драму, и единственная возможность вернуть себе душевный покой – сделать так, чтобы она все забыла. Но как это можно сделать, если всякий раз, садясь за стол, она станет вспоминать, что мужчина напротив знает о ее позоре? Это будет для нее невыносимо!
– Но вы-то знаете об этом, миссис Пенроуз, – заметил Уильям, прекрасно понимая, что в данном случае все иначе.
На лице его собеседницы мелькнула улыбка.
– Я – женщина, мистер Монк. Мне не следует объяснять вам, что это обстоятельство очень сближает нас с сестрой. Марианна не будет стесняться меня, но Одли – дело другое. При всем его благородстве он всего лишь мужчина, и ничто не может этого изменить.
Подобное заявление не стоило комментировать.
– Так как вы предлагаете мне объяснять свое присутствие в вашем доме? – спросил сыщик.
– Я… не знаю. – Дама на миг смутилась, но быстро собралась с мыслями и оглядела его снизу вверх: худощавое гладкое лицо с проницательными глазами и широким ртом, элегантная дорогая одежда… Монк все еще носил хороший костюм, который приобрел, когда служил инспектором в лондонской полиции, имея возможность расходовать весь заработок только на себя. Так было до последней жуткой ссоры с начальником Сэмюэлем Ранкорном.
Уильям терпеливо ждал, с любопытством разглядывая посетительницу. Она явно была удовлетворена его обликом.
– Вы можете сказать, что у нас есть общий друг и вы зашли выразить нам свое уважение, – решительным тоном проговорила она.
– И кто же наш друг? – Он приподнял бровь. – Мы же должны будем назвать какое-то имя.
– Пусть это будет мой кузен Альберт Финнистер. Он невысокий, толстый, живет в Галифаксе, где у него есть конный заводик. Мой муж никогда не встречался с ним и едва ли когда-нибудь встретится. К тому же вам не обязательно знать Йоркшир. Вы могли познакомиться с кузеном где угодно. Только не в Лондоне – чтобы Одли не удивлялся, почему он сам не посетил нас.
– Я немного представляю себе Йоркшир, – ответил Уильям, пряча улыбку. – Галифакс вполне подойдет. Я зайду к вам сегодня днем, миссис Пенроуз.
– Благодарю вас. Всего хорошего, мистер Монк.
Наклонив голову, женщина подождала, пока он откроет переднюю дверь, и, по-прежнему держа спину очень прямо, отправилась по Фицрой-стрит к площади, откуда до Юстон-роуд было около сотни ярдов.
Детектив закрыл дверь и вернулся в кабинет. Он недавно перебрался сюда из своей старой квартиры на Грефтон-стрит. Поначалу сыщик жалел, что в дело вмешалась Эстер со своим вечным зазнайством, но когда она пояснила все преимущества своего выбора, Монк вынужден был с ней согласиться. На Грефтон-стрит его комната располагалась на верхнем этаже в глубине дома. Его хозяйка, женщина добрая и заботливая, не одобряла занятий своего жильца частными расследованиями и не желала провожать наверх возможных клиентов. Кроме того, им иногда приходилось встречаться с остальными обитателями дома в холле или на лестничной площадке. Здесь же Уильям устроился куда лучше: дверь открывала служанка и, не спрашивая, кто пришел и откуда, провожала посетителей в весьма респектабельную гостиную Монка на первом этаже. Так что со временем он оценил все преимущества своей новой квартиры.
Теперь нужно было подготовиться к расследованию обстоятельств насилия, учиненного над мисс Марианной Гиллеспи, дела деликатного и тонкого, бросавшего значительно больший вызов его способностям, чем пустяковая кража или чья-нибудь сомнительная репутация.
Когда Уильям вышел из дома, солнце стояло уже высоко, поливая мостовую своими лучами, укрыться от которых можно было лишь на тенистых площадях. На небе не наблюдалось ни единого облачка, за исключением легкой дымки от далеких фабричных труб. По мостовой грохотали экипажи, звякала упряжь – богатые горожане выехали подышать свежим воздухом или нанести ранние визиты. Мелькали ливреи, блистала начищенная медь. В ноздри ударил запах свежего лошадиного помета, одиннадцатилетний уборщик навоза нахмурил брови под помятой шляпой…
Монк вышел на Гастингс-стрит. Идти ему оставалось чуть больше мили, и у него имелось время подумать. Он был рад трудному делу и возможности применить свои способности. После суда над Александрой Карлайон ему приходилось сталкиваться лишь с тривиальными случаями, которые в бытность полицейским Уильям передал бы какому-нибудь констеблю.
Конечно, дело Карлайонов потребовало от него высшего напряжения. Уильям вспомнил, какой он испытал тогда триумф – и одновременно боль. Вместе с этим к нему пришли воспоминания о Гермионе, и он, не замечая того, ускорил шаг по раскаленной мостовой, сжав губы в твердую линию. Когда лицо той женщины впервые всплыло из глубин его памяти, детектив испугался своего непонятного прошлого, напомнившего ему о любви, нежности и горьких переживаниях. Он знал только одно: как много она значила для него… Но когда и как это было, любила ли его Гермиона и чем закончились их отношения, не оставившие после себя ничего: ни писем, ни портретов, ни какой-нибудь вещицы, напоминавшей о ней?..
Но, даже лишившись прошлого, Уильям не утратил своего мастерства и острого аналитического ума. Он нашел Гермиону, сложив по кусочкам обрывки воспоминаний. Оказавшись на пороге ее дома, сразу узнал мягкие карие глаза, облачко волос над нежным, почти девичьим лицом… И все разом вернулось.
Монк проглотил комок в горле. Неужели он преднамеренно бередит свою рану? Его охватило разочарование и начал душить гнев, словно все случилось недавно, словно он лишь вчера узнал, что его любимая предпочла ему душевный покой и уют. Ее мягкость шла от равнодушия, а не сочувствия: Гермионе не хватало отваги даже пригубить из чаши жизни, а осушить ее она и вовсе никогда бы не осмелилась.
Сыщик шагал, не глядя перед собой, и небрежно извинился, столкнувшись с пожилым мужчиной в сюртуке. Тот посмотрел ему вслед, с раздражением щетиня усы. Мимо проехало открытое ландо с теснившимися друг к другу молодыми женщинами: все захихикали, когда одна из них помахала знакомому. Ленты, украшавшие их капоры, приплясывали на ветру, и из-за их огромных юбок казалось, что девушки сидят на каких-то невероятных цветных подушках.
Монк решил оставить в покое свои воспоминания. О Гермионе тогда он узнал больше, чем хотел, а кроме того, заново познакомился и с судьбой человека, бывшего ему благодетелем и наставником. Тот сделал бы из Уильяма коммерсанта, если бы его не разорили обманом. Монк усердно пытался помочь ему, но не сумел. Потом, вознегодовав, он решил бороться за справедливость, оставил коммерцию и поступил в полицию, чтобы предупреждать похожие преступления. Впрочем, насколько детектив помнил, ему ни разу не пришлось столкнуться с мошенничеством подобного рода. Но, видит господь, он старался…
И все же, несмотря ни на что, он обладал блестящими способностями! Ни одно обстоятельство не могло бросить тень сомнения на этот неоспоримый факт. Уже после несчастного случая сыщик успешно разрешил дела Грея, Мюидора и Карлайонов. Даже его злейший враг Ранкорн – хотя, как знать, может, еще обнаружится кто-нибудь похуже, – даже он не мог заподозрить Монка в отсутствии отваги, честности или целеустремленности, в недостатке желания полностью отдать себя выяснению истины и трудиться ради ее достижения, не считаясь с собственными потерями. Увы, с чужими потерями он тоже не считался…
Однако полицейский Джон Ивэн симпатизировал ему. Они познакомились уже после несчастного случая, но тем не менее детектив мог на него положиться. И Ивэн продолжал поддерживать с ним отношения, даже когда тот ушел из полиции – не самое счастливое событие в его жизни. Поэтому Уильям старался сохранить к этому человеку теплое, дружеское чувство, ограждая его от собственного скверного характера и едкого языка.
Другое дело – Эстер Лэттерли. Она служила в Крыму сестрой милосердия, а теперь вернулась домой в Англию, где никому не нужны умные и самостоятельные в суждениях молодые женщины. Впрочем, Эстер не так уж и молода – сейчас ей по меньшей мере тридцать. Для замужества поздновато, а значит, ей придется либо работать, чтобы прокормиться, либо жить в постоянной зависимости от какого-нибудь родственника мужского пола, уповая на его щедрость, что совсем ей не подходило.
Оказавшись в Лондоне, мисс Лэттерли сразу же нашла себе место в госпитале, но очень скоро ее советы, даваемые по любому поводу, а также полное несоблюдение принятых там правил привели к увольнению. Пусть она старалась ради пациентов – это лишь усугубляло ее положение. Сиделкам надлежало следить за помещением, выносить горшки, готовить бинты, делать перевязки и выполнять разные поручения. Лечили же больных только врачи.
Словом, Эстер пришлось заняться частной практикой, и лишь Господь знал, где она сейчас находилась. Во всяком случае, Монку это было неизвестно.
Он вышел на Гастингс-стрит. Дом № 14 оказался буквально в нескольких ярдах на противоположной стороне. Сыщик пересек улицу, поднялся по ступенькам и позвонил в колокольчик. Изящный дом в неогеоргианском стиле свидетельствовал о тихой респектабельности его жителей.
Почти сразу дверь отворила служанка в голубом платье и белом фартуке.
– Что вам угодно, сэр? – спросила она.
– Добрый день. – Гость учтиво снял шляпу, словно заранее рассчитывал на то, что его примут. – Меня зовут Уильям Монк, – представился он и достал карточку, на которой были написаны его имя и адрес, но не род занятий. – Я – знакомый мистера Альберта Финнистера из Галифакса, который приходится кузеном миссис Пенроуз и мисс Гиллеспи. Случайно оказавшись в этих местах, я решил зайти, чтобы засвидетельствовать им свое почтение.
– Мистер Финнистер – так вы сказали, сэр?
– Да, из Галифакса в Йоркшире.
– Будьте добры, подождите в маленькой столовой, мистер Монк. Я сейчас посмотрю, дома ли миссис Пенроуз.
Комната, в которую провели посетителя, была уютно обставлена, с тщательностью, свидетельствовавшей о разумной экономии – напрасных трат в этом доме, по-видимому, не допускали. Она была украшена домашней вышивкой в скромной рамке, гравюрой с романтическим ландшафтом и великолепным зеркалом. Спинки кресел покрывали свежевыстиранные чехлы, но подлокотники были сильно потерты в тех местах, где к ним часто прикасались. По ковру от двери к камину вела едва заметная дорожка, тоже протертая ходившими здесь людьми. Посреди столовой на низком столике стояла ваза с подобранными со вкусом маргаритками, что свидетельствовало о присутствии в доме женщины. Одна из медных ручек книжного шкафа не подходила к остальным… Но, в общем, это была вполне обыкновенная комната.
Дверь отворилась, и служанка сообщила, что миссис Пенроуз и мисс Гиллеспи с удовольствием примут его в гостиной.
Монк послушно прошел за ней в холл, а затем в другую комнату, побольше. На этот раз у него не было времени разглядывать обстановку. Джулия Пенроуз в розовом дневном платье стояла возле окна, а на небольшой софе сидела молодая девушка, примерно восемнадцати-девятнадцати лет, которую посетитель, вполне естественно, принял за Марианну. Она казалась очень бледной, несмотря на смуглую от природы кожу. Ее почти черные волосы треугольником спускались на лоб, а высоко на левой скуле виднелась родинка. Денди эпохи Регентства сказал бы: «В галантном месте». Девушка не отрываясь глядела на него голубыми глазами.
Джулия с улыбкой шагнула вперед.
– Здравствуйте, мистер Монк. Очень рада, что вы зашли к нам, – сказала она, чтобы удовлетворить любопытство служанки. – Не хотите ли чего-нибудь съесть? Джанет, принесите, пожалуйста, чай и печенье. Вы не против печенья, мистер Монк?
Уильям вежливо кивнул, но, как только служанка вышла из комнаты, спектакль закончился. Джулия представила его Марианне и попросила сразу же приступить к делу. Встав позади софы, она опустила руку на плечо сестры, словно желая поддержать ее и придать ей решимости.
За свою карьеру Монк лишь однажды имел дело с посягательством на честь женщины. Об изнасиловании предпочитали умалчивать из-за позора и скандалов, поэтому теперь ему трудно было начать разговор.
– Прошу вас, расскажите мне все, что вы помните, мисс Гиллеспи, – сказал он, не зная, улыбнуться ему или нет. Девушка могла принять улыбку за легкомыслие с его стороны или за отсутствие сочувствия. Но ведь в противном случае на его лице останется привычное мрачное выражение…
Марианна сглотнула, откашлялась, а потом сглотнула еще раз. Джулия чуть стиснула ее плечо.
– Дело в том, что я помню не так уж много, мистер Монк, – призналась девушка. – Все было настолько… неприятно… Сперва я попыталась забыть об этом – и, наверное, зря. Но, возможно, вы не понимаете меня?.. – Она умолкла.
– Все это вполне естественно, – заверил ее сыщик с абсолютной искренностью. – Люди пытаются избавиться от неприятных воспоминаний. Иногда выжить можно только таким образом.
В глазах его юной собеседницы мелькнуло удивление, и легкая краска залила ее щеки.
– Как это мило с вашей стороны! – На ее лице, по-прежнему напряженном, появилось выражение благодарности.
– Так что вы можете мне рассказать, мисс Гиллеспи? – повторил Уильям.
Джулия сделала попытку вмешаться, но все же заставила себя промолчать. Она была лет на десять-двенадцать старше сестры, и Монк видел, что эта женщина чувствует себя обязанной защищать ее.
Марианна поглядела вниз на свои руки, стиснутые в кулаки на коленях.
– Я не помню, кто это был, – проговорила она тихо.
– Мы это знаем, моя дорогая, – быстро сказала миссис Пенроуз, чуть наклонившись вперед. – Именно для этого здесь и находится мистер Монк. Расскажи ему, что ты помнишь, – все, что говорила мне.
– Но он не сможет ничего выяснить, – возразила девушка. – Как он это сделает, когда я сама ничего не знаю? К тому же то, что случилось, уже не изменишь, даже если мы узнаем, кто он… Ничего хорошего все равно не получится. – На лице ее отразилась решимость. – И я не собираюсь никого обвинять!
– Конечно же, – согласилась Джулия, – это было ужасно! Я просто не могу представить подобного. Но нужно постараться сделать так, чтобы этот человек никогда больше не пришел снова ни к тебе, ни к любой другой честной молодой женщине. А для этого тебе следует ответить на вопросы мистера Монка, моя дорогая. Подобные преступления не должны повторяться. И будет неправильно, если мы смиримся с ним.
– Мисс Гиллеспи, а где вы находились, когда все случилось? – спросил детектив. Он не хотел вмешиваться в их спор о том, что следует предпринять, если они сумеют найти виновного. Это не его дело. Все последствия они понимают куда лучше его.
– В летнем домике, – ответила Марианна.
Уильям инстинктивно глянул в окно, но увидел лишь солнечный свет, пробивающийся сквозь каскады листьев плакучего ильма и яркое пятно розы за этими листьями.
– Здесь? – спросил он. – В вашем собственном саду?
– Да, я часто бываю там и рисую.
– Часто? Должно быть, человек, знакомый с вашим дневным распорядком, мог рассчитывать вас там обнаружить.
Марианна болезненно покраснела:
– Полагаю, что да. Но, по-моему, это не имеет никакого отношения к делу.
Монк не стал настаивать.
– В какое время дня это случилось? – уточнил он.
– Я не уверена. Кажется, около половины четвертого. Или, может, чуть позже… – Мисс Гиллеспи пожала плечами. – Я не думала о времени.
– Перед чаем или после него? – настаивал сыщик.
– Ах да, понимаю… После чая. Наверное, это была половина четвертого.
– У вас есть садовник?
– Нет, это был не он! – воскликнула Марианна, испуганно вздрогнув.
– Конечно, – успокоил ее Уильям, – его-то вы без труда узнали бы. Я просто хотел спросить, не видел ли он кого-нибудь? Находясь в саду, он мог заметить, откуда пришел мужчина и в какую сторону ушел… Или даже назвать нам точное время.
– О, да…
– У нас есть садовник, – подтвердила Джулия, отдавая должное проницательности Монка. – Его зовут Родуэлл. Он приходит к нам три раза в неделю после полудня. Это был как раз один из его рабочих дней. Завтра он опять будет здесь, и вы сможете расспросить его.
– Так я и сделаю, – пообещал детектив и вновь обратился к Марианне: – Мисс Гиллеспи, можете вы что-нибудь вспомнить об этом человеке? Например, – торопливо добавил он, заметив, что девушка собралась ответить отрицательно, – как он был одет?
– Я… я не понимаю, что вы имеете в виду. – Несчастная плотно стиснула руки на коленях и посмотрела на собеседника с тревогой.
– Я хочу знать, может, он был в темном костюме, как подобает деловому человеку? Или в рабочем сюртуке, какие носят садовники? Или же на нем была одежда, располагающая к досугу?
– О! – Девушка как будто почувствовала облегчение и кивнула ему уже с большей уверенностью. – Я, кажется, что-то помню… такое светлое. Да, белый пиджак, джентльмены иногда носят такие летом.
– Он был с бородой или чисто выбрит?
На этот раз Марианна колебалась лишь мгновение:
– Чисто выбрит.
– А не можете ли вы вспомнить его внешность? Цвет волос, рост?
– Нет, не помню. Я… – Мисс Гиллеспи резко вздохнула. – Кажется, я закрыла глаза. Это было…
– Не надо, дорогая, – быстро проговорила миссис Пенроуз, вновь сжимая плечо сестры. – Мистер Монк, дело в том, что больше она не может сказать ничего. Она перенесла такую травму! Мне остается лишь радоваться, что Марианна не повредилась умом… Такое ведь тоже случается!
Уильям не знал, стоит ли настаивать. Ему было трудно даже представить себе весь ужас, отвращение и переживания пострадавшей.
– Вы по-прежнему уверены, что хотите выяснить все до конца? – спросил он по возможности мягко, глядя на Марианну, а не на ее сестру.
Однако, как и прежде, ответила Джулия:
– Мы должны это сделать. – В ее голосе слышалась абсолютная решимость. – Подобные деяния нельзя оставлять безнаказанными. Но даже если забыть о справедливости, Марианну следует избавить от новой встречи с этим человеком. Спрашивайте, мистер Монк. Чем еще мы можем вам помочь?
– А нельзя ли мне осмотреть этот летний домик? – поинтересовался сыщик, вставая.
– Конечно, – немедленно согласилась миссис Пенроуз. – Вы просто должны побывать там, иначе не сможете ничего выяснить. – Она поглядела на Марианну. – Ты пойдешь с нами, дорогая, или останешься здесь? – И Джулия объяснила, повернувшись к гостю: – Она не была там с того самого дня.
Уильям уже намеревался сказать, что сумеет защитить девушку от любой опасности, но вовремя понял, что опять оказаться в этом домике с глазу на глаз с незнакомым мужчиной само по себе было для нее большим переживанием.
Однако Марианна удивила его.
– Нет… все правильно, Джулия, – сказала она твердо. – Я сама отведу мистера Монка и все ему покажу. Быть может, к тому времени, когда мы вернемся, подадут чай. – И, не дожидаясь ответа, она направилась в коридор и через боковую дверь – в сад.
Бросив взгляд на миссис Пенроуз, детектив последовал за Марианной – и оказался в небольшом, но чрезвычайно симпатичном мощеном дворике, окруженном кустами ракитника и березами. Перед ними лежала длинная узкая лужайка. До деревянной беседки было ярдов пятнадцать.
Следом за мисс Гиллеспи он прошел под деревьями к летнему домику, на застекленных окнах которого играли солнечные лучи. Кроме мольберта, внутри мог поместиться разве что стул.
Поднявшись на ступеньки, девушка обернулась.
– Вот здесь все и произошло, – просто сказала она.
Монк внимательно осмотрел помещение, запоминая все детали. С трех сторон домик отделяли от стен сада по крайней мере по двадцать футов травы. Марианна, должно быть, очень углубилась в свое занятие, если не заметила подошедшего мужчины, тем более что садовник находился перед домом или в небольшом огороде, а его она тоже не видела.
– А вы кричали? – спросил сыщик, повернувшись к ней.
Лицо Марианны напряглось.
– Я… нет. Не помню. – Вдруг задрожав, она поглядела на Уильяма. – Наверное. Вот и всё. – Девушка опустила глаза.
– Не волнуйтесь, – сказал Монк. Зачем ее расстраивать, если она ничего не помнит? – Когда вы увидели его?
– Не понимаю.
– Вы видели, как он шел к домику по лужайке?
Мисс Гиллеспи глядела на него в полном смятении.
– Вы забыли? – Детектив старался говорить помягче.
– Да. – Она ухватилась за предоставленную возможность не углубляться в тяжелые воспоминания. – Да, простите…
Уильям решил не задавать пока больше вопросов. Он вышел из домика и направился по траве к цветочному бордюру вдоль старой каменной стены, отделявшей этот сад от соседнего. Четырехфутовая стена местами заросла темно-зеленым мхом, но на ней не было никаких отметин, свидетельствовавших, что через нее перелезали. Цветочный бордюр тоже был цел, однако в нем имелись места, где через него можно было перепрыгнуть, ничего не помяв. Найти что-либо тут представлялось маловероятным – ведь с момента совершения преступления минуло десять дней, и с тех пор несколько раз шел дождь. Кроме того, садовник мог заровнять землю граблями.
Услышав слабый шорох юбок по траве, Монк обернулся.
– Что вы здесь ищете? – тревожно спросила Марианна.
– Пытаюсь понять, мог ли кто-нибудь перелезть через стену, – пояснил детектив.
– О! – Девушка умолкла, явно не собираясь продолжать.
Монку вдруг показалось, что она чего-то недоговаривает. Возможно, она даже прекрасно знала того, кто набросился на нее… если здесь на самом деле было совершено насилие, а не совращение. Он понимал, что молодая женщина, утратившая в глазах общества свое самое драгоценное достояние – свою добродетель, потерявшая достоинство невесты, может стремиться изобразить себя жертвой насилия, а не собственной слабости перед искушением, хотя разница существенна только для ее семьи, ибо в первом случае ее родные сделают все, чтобы никто никогда не узнал о случившемся.
Сыщик перешел к противоположной стене. Здесь камни раскрошились в двух или трех местах, и ловкий человек мог перебраться через стену, не оставив заметных следов. Марианна следила за ним расширенными глазами, не говоря ни слова. Как будто прочитав его мысли, она оглядела третью стену, замыкавшую сад с запада. Результат оказался тем же.
– Наверное, он перелез через дальнюю стену, – предположила мисс Гиллеспи, опустив глаза. – Мимо огорода никто пройти не мог, ведь там работал Родуэлл. Дверь во двор с другой стороны заперта. – Она имела в виду мощеную площадку с восточной стороны, где держали всякий хлам и в погреба спускался угольный желоб. Там был также черный ход для слуг, ведущий прямо в кухню.
– Он причинил вам боль, мисс? – спросил Монк со всем почтением, на которое был способен, не избежав, однако, неловкости.
Слабый румянец опять покрыл щеки его собеседницы.
– Мне было очень больно, – сказала она тихо. – В самом деле. – В ее голосе слышалось неподдельное удивление, словно бы такого она даже не ожидала.
Уильям вздохнул:
– Я хотел узнать, не бил ли он вас по рукам или по телу? Удерживал ли он вас силой на месте?
– О да, у меня синяки на руках и плечах, но теперь они побледнели. – Девушка осторожно закатала длинные рукава, чтобы показать уродливые желто-серые пятна на нежной коже запястий и предплечий, потом снова поглядела на сыщика.
– Простите за напоминание. – В его голосе слышалось сострадание.
Она едва заметно улыбнулась, и Уильям увидел эту девушку такой, какой она была до того, как трагедия лишила ее уверенности, душевного мира и радости. Он вдруг почувствовал ненависть к мужчине, совершившему это, будь то совратитель или насильник.
– Спасибо за сочувствие, – проговорила мисс Гиллеспи и расправила плечи. – Вы хотите еще что-нибудь увидеть?
– Нет, благодарю вас.
– А что вы будете делать теперь? – спросила девушка с любопытством.
– По вашему делу? Поговорю с садовником, со слугами ваших соседей. Выясню, может, они видели здесь незнакомцев…
– Да, конечно. – Мисс Гиллеспи отвернулась. Их окружал густой аромат цветов, и где-то неподалеку жужжали пчелы.