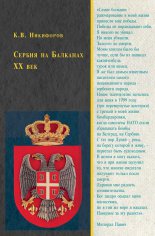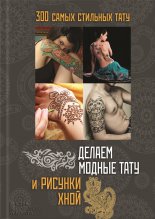Время крови Ветер Андрей
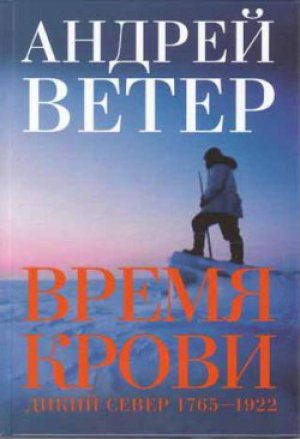
– Оставим здесь. Заберём у них стрелы и оленей. До своих доковыляют, если захотят, они ходоки знатные.
– Алёшенька! – послышался голос Маши. Она упала ему на грудь, бледная и дрожащая.
– Что, душа моя? – Поручик повернулся к сестре, и она обвила его шею ледяными руками. – Не бойся, всё кончено. Не смотри на них, отведи глаза. Пошли подальше.
– Ноги нейдут, отнимаются.
– Это от страха, голубушка, от страха, я знаю. Но ты уже не бойся, – успокаивал её поручик.
– И в животе холодно, прямо сковано всё льдом, – продолжала жаловаться девушка едва слышным шёпотом.
– Присядь сюда, тут на мехах уютно…
– Сударь, зачем вы повезли сестру сюда? – тихим голосом спросил Иван, взяв Алексея Сафонова за локоть. – И дорога не из лёгких, и времена не из лучших…
– Матушка у нас скончалась недавно… Да ещё кое-какие неприятности. Вот Марья Андреевна и решила присоединиться ко мне…
– Что ж… Не будем тянуть… Михей, трогай поезд. Гриша, стрелы отнял у них? Не ровён час, пустят их нам в спину.
Ворон подошёл к старикам, будто желая сказать что-то, поразмыслил и направился к нартам, так и не проронив ни слова. Казак ловко снял со всех колчаны и бросил их в свои сани. Подстреленный пулей Чукча ещё подёргивался и стонал. Смерть принимала его медленно, с неохотой.
– Едем!
Ночь
Ночью погода переменилась, поднялся ветер и принёс с собой беспокойство. Костёр, вокруг которого стояли нарты, временами почти задувало.
– Не волнуйтесь, Марья Андреевна, – обратился Григорий к Маше, – завтра к полудню будем в фортеции.
Было видно, что девушка пришлась казаку по сердцу и он хотел поддержать её, развеять её страхи.
– А что, если нам встретятся ещё дикие?
– Не думайте об этом. Встретятся – посмотрим. Не впервой… Вас испугала кровь. Я понимаю, такие зрелища не для девичьих глаз. – Он извлёк кисет из кармана и набил трубку. – Но этого здесь не избежать…
– Как ужасно устроен мир, – прошептала она и внимательно посмотрела на его спокойное лицо, осветившееся раскуренной трубкой, затем перевела взгляд на сидевшего чуть поодаль Ивана.
Молодой человек неслышно беседовал о чём-то с Вороном, этим жутковатым туземцем, что так ловко расправился с бросившимся на него врагом. Ни в ком из них не чувствовалось ни беспокойства, ни сожаления. Рядом с ними примостился Алексей. Маше казалось, что её брат немного переживал за то, что не успел принять участия в стремительно произошедшей схватке. Михей не принимал участия в разговоре; он уединился на своей нарте и углубился в раздумья, прикрыв глаза. Все нарты, по распоряжению Ивана, стояли не распряжённые на случай, если пришлось бы внезапно сниматься с места.
– Как ужасно устроен мир, – повторила девушка, разглядывая Ивана; в сравнении с людьми его возраста, которых знала Маша, он был не по годам серьёзен и суров. Умел ли он шутить? Умел ли открывать свою душу? Она снова посмотрела на Григория, у него тоже были мужественные черты лица, но он казался всё же человеком иной закваски. В нём чувствовалась не только смелость, но и великая печаль. – Неужели вам совсем не страшно? Вы когда-нибудь боитесь?
– Бывает, – кивнул Григорий, – все мы живые люди. Но только, Марья Андреевна, боюсь я как-то не целиком. Будто бы на одну половину боюсь. Вторая же моя половина точно знает, что опасаться мне нечего и что всё в руках Господа.
– И всё-таки вы держите палец на спусковом крючке. Даже сейчас вы не расслабляетесь. Я вижу это. – Она грустно покачала головой.
– На Бога надейся, а сам не плошай, – ухмыльнулся он.
– Все они тут странные, – присоединился к их разговору Павел Касьянович, устраиваясь поближе к костру и кутаясь в одеяло, – особливо следопыты.
– Странные? – не поняла девушка.
– У меня к здешнему краю интерес денежный, – пояснил купец, – я могу мой интерес звонкой монетой измерить. За эту монету и подвергаю себя опасностям. А вот их, Гришку или Ивана, к примеру, не понимаю. Впрочем, с Копытом дело яснее: он тут вырос, для него тут всё родное. А вот ты, Гриша, что забыл здесь?
– Что я забыл здесь? Не в том дело, Касьяныч, важно, чего я не хотел видеть там… – Григорий прикрыл глаза, возрождая в своём воображении сцены прошлого. – Как-то раз я повстречал на улице мальчишку лет семи, крохотного такого паренька, щупленького. Стоял страшный мороз, а мальчуган был одет совсем почти по-летнему, может, на шее только шарф тёплый был намотан. Он просил милостыню. Наутро я наткнулся на его закоченевший трупик за поленницей. Я сразу узнал его по шарфу… И тогда я впервые задумался, насколько там люди одиноки, слабы и беззащитны… Не странно ли, не ужасно ли, что, живя среди людей, человек не может защитить себя…
– Эка ты, братец, загнул, – покачал головой купец. – Так уж и беззащитен?
– Именно. Как-то уж так складывается, что здесь приучаешься жить собственными силами, а там маленький человек полностью зависит от других, только от других… Смилостивится кто-то, бросит кусок хлеба – будет маленький человек жить. А нет – так и подохнет. И нет никакой разницы, каков этот маленький человек, сильный или слабый, умный или глупый. Можно, конечно, вором сделаться, но кто не хочет, тому там остаются только две возможности: либо рабом быть, либо побираться. Всё зависит от господ. Потому и ходят многие с протянутой рукой, что никак иначе нет возможности просуществовать… Там всюду маленькие люди, даже господа и те – маленькие люди перед другими господами. А тут все равны друг перед другом и перед природой.
– Неужто здесь, в окружении лесов и дикого зверья, человеку живётся легче? – не поверила Маша.
– То-то и оно, сударыня, что легче. Здесь ведь надеяться на чью-то милость никак не можно. Тут, конечно, все пожирают всех, но и там то же самое, разве что там люди хотят выглядеть благородно и от звериной своей сущности открещиваются, однако по-звериному рвут друг друга на куски, раздавливают, пьют кровь… А воспитанием там приучают мыслить так, будто мы все братья во Христе, повторяют одни и те ж добрые слова. Но куда ж доброта подевалась? Где вы встречали её?
– А здесь что?
– Здесь, Марья Андреевна, совершенство. – Он широко повёл рукой, и пустил дым из трубки в серое небо. – Совершенство сокрыто в этой дикости, в этой беспощадности, в этой красоте. Уж я знаю… Здесь всё увязано друг с другом, все пожирают всех и на том держатся, не стесняясь, не оправдываясь и не прикрываясь словами о совести и государевой надобности. Здесь царят честность и сила. Я полагаюсь лишь на собственную силу. Если я слаб, то я проиграю в борьбе за жизнь, но у меня всегда есть шанс. А там, у вас, шансов нет, потому как там нет равных условий. Тот, кто рождается нищим, обречён на нищету; добыть себе денег для достойного существования он может только подлостью… Но можно ли после этого назвать его существование достойным? Да и что есть достойное существование, спрошу я вас? Возможность носить ордена на груди, спать на дюжине подушек, насыщаться от пуза и пить до беспамятства? Будь смирен и богобоязнен, уважай старших – разве не этому учат там? Но найдёте ли вы такого человека, который соблюдает эти правила искренне, в сердце своём? Я там таких не встречал. Но здесь я вижу их во множестве… Нет, Марья Андреевна, я пришёл сюда и эту мою жизнь не променяю ни на какие богатства…
– Вам нравятся трудности?
– Мне нравится жизнь, Марья Андреевна, – сказал он с вызовом, – жизнь ради самой жизни, коей меня наградил Господь, а не ради вылизывания княжеских сапог и не ради государевой надобности.
– Но ведь ежели так рассуждать, – грустно улыбнулась Маша, и её лицо сделалось на несколько мгновений очень взрослым, – то получается, что вы отказываетесь принимать то, что вам дано свыше. Ежели Бог определил вам судьбу нищего, то зачем вы протестуете?
– Господь даёт нам возможность выбора, а не проторённую дорожку. В этом я твёрдо уверен, и я мой выбор сделал.
– А где вы жили раньше? – спросила Маша.
Григорий хотел сказать что-то, но в эту минуту к ним подошёл Алексей.
– Как вы тут, господа? Не застудились на таком ветру?
– Нет, Алёшенька, мы хорошо сидим под этими мехами и очень интересно беседуем. Ты не нальёшь ли мне чаю?
– Сию секунду… – Поручик нагнулся над котелком. – Пал Касьяныч, а куда подевался Михей? Что-то я не вижу его.
При этих словах все сидевшие у огня разом огляделись. Иван, услышав слова поручика, резко поднялся на ноги. Проводника не было.
– Куда ж он… – Купец пожал плечами. – Вот вам, Алексей Андреич, и слова мои про Чукоч. Помните, что я говорил? Нельзя им доверять, нет в них преданности.
– Да, братцы, – удивился Иван Копыто, подходя к ним, – ловко он ушёл. Я ничего не заметил. Точно птица упорхнул. – Следопыт обернулся к Ворону. – Оплошали мы с тобой, отец… Михей-то, верно, струхнул с нами оставаться, решил к своим податься.
– Что делать будем? – спросил Алексей.
– Спать. Вы с сестрой ложитесь спать. Да и вы, Касьяныч, сосните малость. Я подежурю с Григорием. – Иван положил длинное ружьё не плечо. – Затем я чуток посплю, а Ворон покараулит…
Марья Андреевна взяла поручика за рукав и прислонилась губами к его уху.
– Алёша, будь любезен…
– Что, душенька?
– Я отойду, как обычно, за оленей. А ты отвлеки тут всех… слишком уж теперь много мужчин стало.
– Машенька, милая моя, я так кляну себя, что не отговорил тебя от этой поездки. Тебе приходится терпеть все эти неудобства. Мне даже в голову не могло прийти, что ты будешь так нуждаться… Всё-таки я просто тупой солдафон!
– Братец, не терзай себя. Никто не виноват, кроме меня самой, что я забыла о всех сложностях… Ну, пойду.
– Ты уж прости меня, душенька, но я побуду поблизости от тебя, – запротестовал Алексей, – подержу пистолет в руке на всякий случай. Вишь, Михей-то наш сбежал, подлец. Кто знает, что задумал этот нехристь? Тут, как я понял, ни в чём нельзя быть уверенным.
Пришелец
Из сна Машу вырвал не то внутренний толчок, не то чей-то тихий, но настойчивый голос. Она открыла глаза и освободилась от укрывавшего голову одеяла. Человек, которого она увидела, был Чукча, очень старый Чукча. Кто он и откуда он взялся на их стоянке, девушка сказать не могла. Удивило её и то, что сидевший неподалёку Иван Копыто не обращал никакого внимания на старика.
Заметив, что девушка посмотрела на него, Чукча опустился на корточки и положил тощие руки, сильно высунувшиеся из потрёпанных рукавов кухлянки, на колени. Под коричневой кожей отчётливо выделялись вздутия вен. От его одежды – штанов и кухлянки – сильно пахло дымом. Старик смотрел очень спокойно, во взгляде его сквозило любопытство. Он улыбнулся, сощурившись, и узкие глаза его сделались совсем незаметными во множестве глубоких морщин.
– Ты хорошая, – проговорил он по-русски глухим голосом, – я рад увидеть тебя.
– Меня? – не поняла она и поднялась на локтях.
Иван Копыто встал и сделал несколько шагов, обернулся, посмотрел на Машу, но не обратил ни малейшего внимания на Чукчу, словно его не было.
– Я хотел посмотреть на тебя, – сказал старик.
– Зачем? – удивилась девушка и на всякий случай оглянулась, к ней ли были обращены слова незнакомца, не стоял ли рядом кто-нибудь ещё. – Кто ты?
– Скоро ты проснёшься и будешь смотреть на всё новыми глазами.
– Разве я сплю?
– Мы все спим до поры. – Старик вновь улыбнулся, теперь чуть шире прежнего, и Маша увидела его подгнившие зубы. – Я рад, что встретился с тобой. Ты должна принести мир на нашу землю…
Он протянул руку и положил её Маше на лоб. Она вздрогнула, ощутив шершавое прикосновение сухой морщинистой кожи, но не испугалась и не отодвинулась. Наоборот, она испытала внезапное тепло, потёкшее от её лба вниз по телу и заполнившее всё её существо. Вместе с теплом накатил сон.
Во сне Маша увидела отца, который неторопливо шагал по пыльной дороге, волоча за собой громадные птичьи крылья тёмно-коричневого цвета. Порой отец подпрыгивал, и тогда дорога сотрясалась, как подвесной мост. Затем появилась мать, на ней был кружевной чепец; она вдруг превратилась в полосатый шлагбаум, качнулась вверх и вниз, повернулась горизонтально, перегородила подвесную дорогу и уронила чепец в густую пыль. Сразу после этого появился Алексей. Он был похож на мальчика и браво маршировал по дороге, чеканя шаг. За ним шагали такие же мальчики, все наряженные в причудливые мундиры.
И вдруг всё исчезло, утонуло в вязкой черноте…
Сожжение
Утром Иван Копыто отрицательно покачал головой.
– Никого здесь не было и быть не могло, Марья Андреевна. Даже если бы я задремал, что просто невозможно…
– Вы не спали, сударь, вы бодрствовали. Я очень ясно видела это.
– Неужто я бы не обратил внимания на него? Да и следов никаких нет. Вам просто пригрезилось… Давайте в путь собираться. Алексей Андреич, не сочтите за труд, пригоните сюда вон тех олешков, что отделились от нас.
Олени, на которых указал Иван, стояли поодаль, жадно вылизывая землю, где люди справили нужду. Пока поручик, придерживая шпагу, бегал за ними, остальные мужчины запрягали нарты.
Оставалось сделать последний рывок до крепости. Размышляя об этом, Маша вздыхала с облегчением. Там их ждали баня, деревянные стены, какое-то общество.
Путь прошёл без осложнений. Когда выехали к Красной Реке, пару раз Ворон останавливал сани и указывал на берег. Там в кустах виднелись спрятанные чукотские лодки.
– Кто-то заготовил байдарки. Надобно место припомнить…
Крепость появилась в поле зрения, едва перед путниками открылось обширное пространство Красного Озера. Водная гладь тянулась до горизонта. Берег был гористый, ближайшие холмы густо заросли снизу до середины склонов кедровым стлаником, сквозь который можно было пройти, только пользуясь медвежьими тропами. На северных склонах повсюду виднелось много снегу.
– Какая прелесть! – вырвалось у Маши, и она всплеснула руками.
– Да, здесь понимаешь, что такое истинная красота, – согласился купец. – Но со временем к ней привыкаешь и перестаёшь замечать.
– Неужели?
– Да, замечать перестаёшь. Однако покой испытываешь всегда. Наверное, покой – это вошедшая и прижившаяся в нас красота.
– Быть может, – сказала Маша и звонко рассмеялась.
Иван и Григорий оглянулись на неё и улыбнулись. Улыбнулся и всегда мрачный Ворон.
– Гляньте! – Григорий указал чуть влево. Там стояла на рыхлом снежном ковре в окружении деревьев одинокая яранга – большая приземистая конусовидная палатка, покрытая шкурами. Вокруг неё бродило несколько оленей, в снегу темнели щепки, кости, сидели две небольшие собаки с взъерошенной шерстью.
– Остановимся? – спросил Григорий. Иван молча кивнул. Навстречу им из яранги вышел молодой Чукча и внимательно осмотрел всех прибывших. Увидев Машу, он оживился и быстро заговорил.
– Его отец умер два дня тому назад, – перевёл Иван. – Чукчи хоронят покойников на следующий день после смерти, но его отец велел ждать приезда молодой русской женщины. Этот парень считает, что вы, Марья Андреевна, и есть та женщина.
– При чём тут я? – испугалась девушка.
– При чём тут она? – насторожился Алексей Сафонов.
– Этого я не знаю, – сказал Копыто и посмотрел на Чукчу, – он тоже не знает. Он лишь передаёт слова отца. Говорит, что все родственники уехали, испугались, что покойник будет долго лежать без погребения. Этот парень остался здесь один. Его зовут Кытылкот, это переводится на русский язык как Вставший Внезапно. Он просит вас войти в дом.
– Меня? – Маша неуверенно закачала головой.
– Не бойтесь, я буду сопровождать вас, – заверил Иван.
Внутри было сумрачно и смрадно. Позади остывшего кострища лежал на земле старик, одетый в белые шкуры. Посмотрев на него, Маша едва не вскрикнула и вцепилась в руку Ивана.
– Это он, – прошептала она.
– Кто?
– Дед, приходивший сегодня ночью ко мне… к нам на стоянку…
Иван задумался, медленно перевёл взгляд на Кытылкота и спросил у него что-то. Выслушав ответ, он сказал Маше:
– Кытылкот говорит, что его отец не мог никуда ходить этой ночью, так как был мёртв. Значит, к вам приходил его дух.
– Я не верю, – Маша испуганно бросилась к выходу, – я не верю! Это был просто сон!
– Марья Андреевна, – Иван, внимательно поглядев на покойника, пошёл следом за девушкой, – почему вы так взволновались?
– Что там случилось? – подступил к нему Алексей Сафонов. – Что испугало Марью Андреевну?
– Мертвец испугал. Она видела его нынче ночью. Во сне видела… Я был знаком с этим дедом. Его зовут Хвост Росомахи.
– Хвост Росомахи?
– Да, так его называли. В последние годы он был одним из самых непримиримых Чукчей. Он был сильным шаманом.
– У них тут все шаманы или как? – с ноткой язвительности спросил поручик.
– Не все называют себя шаманами, но многие имеют шаманский дар.
– Что же он хотел от Маши?
– Не знаю. Мы не сможем угадать. Это покажет время. Он сказал ей какие-то слова, когда приходил. Она поймёт их, когда наступит нужная минута. – Иван повернулся к Кытылкоту и переговорил с ним. – Он просит нас задержаться здесь для погребения старика. Его надо сжечь.
– Сжечь? Какое мы имеем к этому отношение? – возмутился Алексей. – Мы, чёрт возьми, не дикари какие-нибудь, чтобы участвовать в этом. Мы… Я просто не понимаю… В конце концов, это решительно невозможно…
Григорий обменялся с Иваном тихими фразами, тот кивнул и сказал:
– Я не знаю, чего хочет Хвост Росомахи, но раз он приходил к Марье Андреевне…
– Приходил? Да это всё глупости! – крикнул Алексей и рубанул ладонью по воздуху. – Глупости!
– Ваша сестра утверждает, что дед разговаривал с ней по-русски, а он не понимал при жизни ни единого русского слова. Марья Андреевна узнала его, войдя в эту палатку. Узнала, Алексей Андреич!
Или вы не верите ей? Для чего ей сочинять? Пусть это был лишь сон, сударь, но согласитесь, что сон очень уж необычный, раз он так лихо привязан к жизни.
– Я ровным счётом ничего не понимаю. – Поручик снял треуголку и нервно постучал по ней пальцами, будто стряхивая пыль.
– Хвост Росомахи – шаман, – сказал Иван, – он знает и умеет то, чего мы с вами предположить не смеем.
– Умеет? Он же умер.
– Тело умерло, сударь, но не он.
– Я отказываюсь понимать такую чертовщину! Все эти варварские фокусы, демоны какие-то, чушь всякая… Надо как-то разобраться…
– Воля ваша, но позвольте вашей сестре присутствовать при сожжении трупа. Бояться нам тут нечего. До фортеции осталось не более десяти минут езды. Вон она, Раскольная, видна как на ладони отсюда… Я вышлю Григория вперёд. Если будет нужда, к нам направят казаков.
– Не могу взять в толк, в чём вы меня хотите убедить. – Алексей нахлобучил шляпу обратно на голову.
– Алёша, – Маша уже оправилась от потрясения и подошла к брату, – я остаюсь на эту… церемонию. В конце концов, это даже любопытно. Когда ещё доведётся увидеть, как происходит погребение дикого язычника, тем более сожжение.
– Это очень мудро с вашей стороны, сударыня, – улыбнулся Иван Копыто и вернулся к сыну умершего шамана.
Кытылкот, уже изрядно заждавшийся, немедленно привёл двух оленей, предназначенных для убоя. Павел Касьянович с Григорием, оставив нарты для Маши и Алексея, поехали к Раскольной, бастионы которой ясно прорисовывались в мягких солнечных лучах, а Ворон остался помочь с погребением. Он развёл небольшой костёр перед входом в ярангу и подтащил к нему принадлежавшую Хвосту Росомахи нарту. Через пару минут Кытылкот свалил обоих оленей ударом ножа в сердце и сломал им ноги топором, Ворон помог ему отпилить им рога. Маша и Алексей следили за их действиями, будто заворожённые беспощадностью происходившего и яркостью пролившейся на снег крови. Жуткие нравы туземцев пробуждали в них отвращение, но ритм, в котором двигались Ворон и Кытылкот, погрузил молодых людей в некий транс. Вид побежавшей крови не вызвал у Маши тошноты. Иван, Ворон и Кытылкот вошли в ярангу и долго находились там, совершая ритуальное очищение покойника пучком травы, однако ни Марья Андреевна, ни её брат этого не могли видеть. До их слуха донеслись только звуки заклинаний, затем послышался громкий шорох шкур. Неожиданно для них Кытылкот и Ворон появились с обратной стороны жилища, неся покойника на меховой подстилке. Иван же вышел спереди и направился к одной из собак, привязанных к дереву.
– Кытылкот! Я бью? – спросил он по-русски, указывая на псину.
Чукча кивнул. Пока он и Юкагир укладывали покойника на нарту и привязывали его к ней, Иван Копыто увёл собаку за ярангу. Через несколько секунд собака взвизгнула, и вскоре Иван вернулся, держа в руке испачканный кровью топор.
– Вы убили её? – вяло спросил Алексей.
– Да, её дух будет охранять заднюю сторону жилища, где вынесли мертвеца. Так полагается делать.
– Неужели надо ещё кого-то убить? – Маша осмотрелась, будто ища чего-то.
– Больше никого.
Нарту с привязанным к ней покойником перенесли на костёр. Глядя на мертвеца, Маша подумала, что этот старый Чукча вовсе не умер, а просто отдыхал, нарядившись в красивую одежду из белой кожи. Но вот к нему подошёл его сын, помедлил пару секунд и быстрым движением перерезал ему горло длинным ножом.
Маша вскрикнула, выведенная ужасным зрелищем из задумчивости. Зажмурив глаза, она долго стояла, обнимая брата и пытаясь справиться с накатившей на неё слабостью. Ноги её дрожали. Когда она вновь посмотрела на сани с мертвецом, то увидела, что поверх покойника были наложены поленья, уже медленно занимавшиеся огнём. Она вытянула шею, желая разглядеть лицо шамана и в то же время страшась этого зрелища. Лицо мертвеца не поменяло выражения. Крови на разрезанном горле не было. Хвост Росомахи продолжал притворяться спящим.
Кытылкот обошёл погребальный костёр и остановился перед девушкой.
– Он благодарит за то, что вы, Марья Андреевна, с уважением отнеслись к просьбе старика, – перевёл его слова Иван.
– Да, да, конечно. Теперь мы можем ли уйти?
– Можем.
– Тогда поедемте в фортецию, – попросила она, – я совсем ослабла от всего этого.
– Не сомлеешь ли? – с беспокойством спросил сестру Алексей.
– Теперь уж нет… Я собралась, я в порядке… Но вот когда он клинком по горлу… Это кошмарно…
– Мы можем ехать, Марья Андреевна, – сказал Иван Копыто, – здесь всё закончится само.
– Скажите мне, он весь сгорит? – спросила она, отворачиваясь от дыма и прикрывая нос рукавом полушубка, чтобы хоть немного оградить себя от отвратительного запаха, вдруг повалившего от костра с внезапной силой.
– Что не сгорит, будет зарыто в золе…
Оставшийся до крепости путь провели в глубоком молчании. К крепости подъезжали с северной стороны, где к стенам прилегали изрядные наносы снега; утрамбованный зимними ветрами, влажный, он растаивал обычно лишь к середине лета. Уже перед самыми воротами Алексей спросил, повернувшись к Ивану:
– Вы знали его лично?
– Кого?
– Этого шамана, – уточнил поручик, нахлобучивая треуголку пониже.
– Да. Я много раз останавливался в его яранге. Когда-то он хотел отдать мне свою дочь в жёны, но она умерла. Это окончательно убедило его, что Чукчам нельзя родниться с белыми людьми.
– Он хотел, чтобы вы взяли в жёны дикарку? Вы – русский человек…
– Я слышал, что когда-то великие русские князья вступали в брак с ордынскими красавицами и не считали это зазорным. Случалось такое? – спросил следопыт.
– Это разные вещи, – заговорила Маша, – там речь шла о княжеской крови, о княжеских дочерях, пусть даже о татарских женщинах или о половчанках. Но здесь ведь просто дикари.
– А разве я не дикарь, Марья Андреевна? – задумчиво спросил Иван. – Признайтесь, что вы смотрите на меня как на дикаря. Я же чувствую, что непонятен вам, чужд.
– Это не так, – неуверенно возразила она.
– Это так, – едва заметно улыбнулся он.
С того момента, как повстречались следопыты, Маша не раз обращалась мысленно к Ивану и удивлялась: этот дикарь притягивал её внимание вопреки всему. От него шёл терпкий запах кожаной одежды, пропитанной жиром и дымом, и это неприятно задевало Машу. Она понимала, что мужчина, будучи охотником и следопытом, не мог благоухать помадой и пудрой, как светский лев, но от Ивана исходил запах грязи, никак иначе Маша не могла назвать это. У него были тёмные руки, выразительно черневшие неухоженными ногтями и складками кожи на пальцах. Его недавно выбритое лицо могло показаться Маше привлекательным в других обстоятельствах, скажем, если бы такой человек – прилично, конечно, одетый и причёсанный – явился на губернский бал, тогда она бы увидела в нём скрытую силу, богатый жизненный опыт, оплетённый тайнами сотен трагедий; да, он был бы ей крайне интересен. Здесь же, в окружении дикой природы, Иван являл собой просто естественную часть природы, но никак не мог представлять собой человека, достойного её внимания. Маша не умела объяснить этого себе, но чувствовала что-то в таком роде. Да, Иван Копыто был для неё дикарём, и всё же он умел изъясняться, пусть и не отточенным слогом, и умел слушать. Несмотря даже на вонючую грязно-коричневую кухлянку и привязанные к поясу деревянные языческие амулеты, он настолько сильно отличался от своего приёмного отца-Юкагира и от Чукчей, что Маша, обращаясь к нему, говорила «сударь» и «вы». А ведь он занимал положение не выше крестьянского, а то и ещё хуже – бездомного скитальца. У него ничего не было, кроме ружья, связки ножей и запряжённой оленями нарты, однако он вёл себя как равный среди равных, не проявляя ни тени подобострастия. Наоборот, сквозившая в каждом его жесте независимость заставляла Марью Андреевну чувствовать себя в некоторой степени существом низшего порядка. И это изумляло девушку, даже пугало немного.
– Всё не так просто, – сказала она и вздохнула, – двумя словами этого не объяснить. Мы привыкли к другой жизни, другому поведению.
– Я кажусь вам грубым? Не смущайтесь, сударыня, я способен понять это.
– Не в том дело… Для вас тут всё естественно, к примеру эти похороны… Должно быть, вы привыкли… Я не знаю, я затрудняюсь… Я совершенно обессилела от всего, что увидела за последние дни…
Раскольная
Крепость Раскольная представляла собой квадрат со стороной примерно в триста шагов. За высоким частоколом стояли командирские покои, канцелярия с пристроенным к ней большим амбаром, гауптвахта, кузница, десяток тесно лепившихся друг к другу жилых изб, некоторые были в два этажа, и небольшая церквушка. Почти все избы были украшены резьбой; кое-где белели прибитые над входом оленьи черепа с ветвистыми рогами. На двух противоположных стенах крепости возвышались бревенчатые башни. С наружной стороны укрепления расположились ещё пять домов. В зимнее время у них по соседству обычно стояли также юкагирские и корякские чумы, принадлежавшие семьям тех туземцев, которые рассчитывали найти защиту от враждебных Чукчей у казаков, не надеясь на собственные силы. Сейчас этих конусовидных кожаных палаток насчитывалось четыре, возле них лежали сваленные в кучу нарты.
Приезд Павла Касьяновича, хорошо известного всем в гарнизоне, и поручика Сафонова с очаровательной сестрой произвёл в крепости приятный переполох. Когда Алексей и Маша въехали в сопровождении Ивана в ворота, внутри стоял гомон, от которого путники успели отвыкнуть за два месяца. Остановившийся посреди двора обоз был облеплен людьми.
– Касьяныч, дорогой мой, да неужто ты не привёз водки? Не поверю! Не расстраивай меня!
– Мешки с мукой нам сейчас очень кстати. Маловато, конечно, но всё равно хорошо.
– А табачок, табачок привёз?
– Маслица бы коровьего, Касьяныч, у нас всё вышло.
Всюду сновали бородачи в расстёгнутых тулупах, а то и просто в длиннополых рубашках. Громкие голоса неслись со всех сторон, слышался звон молотка в кузнице, лаяли лохматые собаки.
– Вот мы и добрались, – с наслаждением проговорила Маша, поднимаясь с нарты.
– Теперь вы сможете отдохнуть, сударыня, – сказал Иван.
Как из-под земли возле Маши вырос высокий молодой человек с худым лицом.
– Позвольте представиться, сударыня, – выпалил он, выразительно шевеля чёрными усиками и почтительно склоняя голову, – подпоручик Тяжлов. Вадим Семёнович Тяжлов. Прошу простить, что я не при параде. – Он молодецки выпятил грудь, и тулуп его распахнулся, показывая застёгнутую до верхней пуговицы белую полотняную рубаху.
– Очень приятно, господин подпоручик. – Она ответила кивком и улыбкой, распуская платок, покрывавший её голову.
За спиной Тяжлова она увидела сутулую фигуру в капитанском мундире и поняла, что это и был комендант фортеции. В свои пятьдесят лет капитан Никитин выглядел совсем стариком, непокрытая седая голова была растрёпана, но сзади волосы лежали тугой косицей. Капитан слегка приволакивал левую ногу, рядом с ним шагал Григорий, быстро рассказывая что-то ему.
– Рад приветствовать вас, сударыня, – проговорил Никитин, останавливаясь перед прибывшими, – и вам также, господин поручик, желаю здравия… да-с, желаю всем здравия… Редко мы видим в нашем захолустье новые лица, крайне редко. И посему весьма рады, весьма… Милости просим…
– Разрешите доложить, господин капитан, – вытянулся Алексей Сафонов.
– После, голубчик, после. – Глаза старого вояки были по-стариковски влажными. – Пока что размещайтесь. Думаю, что лучше всего вам у Полежаева в доме остановиться. А вам, сударыня… Какие ж чудесные глазки у вас, детка моя, просто ангельские… Простите старика за вольности… Думаю, что вас в доме Прохорова устроить лучше всего, там Устинья присмотрит за вами, сделает всё наиприятнейшим образом… Вот Григорий покажет вам, куда шагать… Как только обоснуетесь, голуби мои, так прошу ко мне на чай, там и обсудим, с чем пожаловали…
– Дозвольте мне, господин капитан, проводить нашу гостью, – вызвался подпоручик Тяжлов, бодро скалясь. Капитан кивнул, и туго стянутая сзади косица вильнула, как крысиный хвост.
– Как тут всё? – по-свойски обратился к капитану Иван Копыто.
– Всё, слава Богу, тихо. Никто из Чукоч с того дня так и не появлялся, разве что Хвост Росомаший с семейством. Но он сам по себе, с военным отрядом диких не якшался. Скончался колдун дня два тому, упокой Господь душу его. А ведь сколько мы с ним сил потратили в былые годы на войну, на беспокойство всякое, а? И вот на тебе! К самой смертушке своей вдруг заделался смирным человеком.
– Мы сейчас проезжали там, – сказала Маша, готовая последовать за подпоручиком Тяжловым, но задержавшаяся, заслышав имя шамана, – мы видели его погребение… Жуть какая!
– Господи владыко! Чего тут только увидеть приходится, – капитан опять тряхнул косичкой. – Попервой всё было любопытно и странно, а теперь уж никакого интереса, голубушка моя, ни к колдовству их, ни к голым их дикаркам… Простите старику его откровенность.
– Пойдёмте, сударыня, я провожу вас к Устинье, – напомнил о себе Тяжлов и взглянул на Алексея Сафонова. – Вы не будете возражать, господин поручик, что я оказываю столь явные знаки внимания вашей сестрице? Если бы вы прожили здесь несколько времени, вы бы поняли, что такое для нас тут появление очаровательной женщины!
В доме Маша увидела худощавую Устинью, женщину лет двадцати пяти, с добрым, кротким лицом; она замешивала тесто на столе. Заметив Машу, она улыбнулась и вышла навстречу.
– Устинья, принимай гостей! – громко объявил Тяжлов, грохоча сапогами по дощатому полу. – Комендант распорядился, чтоб Марья Андреевна у тебя пожила.
– Доброго здоровья, барышня! Ах, какая вы хорошенькая, просто прелесть! Да что ж это я вас в сенях-то держу, проходите в горницу, устраивайтесь. Сейчас пошлю Степана за вещичками вашими.
Комната была просторная и светлая, на деревянном полу лежали цветные холщовые половичками, на стенах были растянуты медвежьи шкуры. В красном углу под образами стояли на маленькой полочке какие-то чукотские деревянные куколки.
Ближе к вечеру Устинья отвела Машу в баню, стоявшую на самом берегу озера, шагах в пятидесяти от крепостной стены. С наслаждением скинув с себя одежду, Маша впервые за два месяца почувствовала себя легко, расслабленно, непринуждённо. Отпала надобность прятаться от посторонних глаз, чтобы обмыть интимные части тела или справить нужду, просить всякий раз попутчиков отвернуться и краснеть при этом.
– Отдыхайте, барышня, небось с дороги-то ноги совсем служить отказываются. Я скоро вернусь, веничком пройду по вашей спинке, волосы вам расчешу после купания.
Разглядывая свою обнажённую кожу, быстро раскрасневшуюся под горячим паром, она оглядывалась на весь проделанный путь от Усть-Нарынска до Раскольной и не могла поверить, что смогла выдержать эту трудную дорогу. Напрашиваясь брату в спутницы, она не представляла даже десятой доли тех неудобств, которые ей предстояло испытать. Те немногие разы, когда на почтовых станциях была возможность обмыться целиком, стоя в корыте, казались после утомительной езды поистине райским наслаждением. Люди попадались разные, всё больше хмурые и необщительные. Лишь на Горюевской фактории, то есть почти уже возле самой Раскольной, повстречался, наконец, человек с тёплым сердцем и живыми чёрными глазами – Павел Касьянович Чудаков. В его обществе прошло четыре дня. Маша без колебания назвала бы эти четыре дня самыми приятными из всего путешествия, если бы они не омрачились столкновением с Чукчами и омерзительной сценой погребения старого шамана.
И вот настоящая баня, с паром, с запахом растомившегося дерева, с мутным воздухом. Машино сердце разомлело от удовольствия. Она легла на спину, поглаживая бёдра руками, вытянулась на горячих досках и закрыла глаза.
Замужество
Главный недостаток Маши заключался в том, что она жила исключительно сердцем и воображением. Об этом недостатке прекрасно знала её мать, Василиса Артемьевна, и переживала, что лирические мечтания дочери могли омрачить её жизнь. Василиса Артемьевна была настоящая русская дворяночка – очень набожная и чувствительная, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, в юродивых, в домовых, в скорый конец света. Она не пропускала ни одного нищего без подачки, никогда никого не осуждала, не сплетничала. Замуж вышла против своей воли, но считала, что так и полагалось устраивать семью. Муж её умер давно, и Василиса Артемьевна отдала сына, следуя воле усопшего супруга, на военную службу, а дочь воспитывала так, как считала нужным сама, и более всего старалась привить ей мысль о правильном замужестве.
Едва Маше исполнилось восемнадцать лет, мать выдала её за майора Бирюковского, тучного пучеглазого мужчину, потерявшего когда-то в походе кисть левой руки. Замужество вырвало Машу из сладкого сна, сквозь розовую дымку которого она взирала на будущую жизнь. Образы нарисованных в обольстительных мечтах юных избранников её сердца были грубо вышвырнуты в бездну небытия холодной рукой вялого супружеского существования. Майор оказался человеком скучным, насквозь изъеденным молью, ленивым. Молодая жена интересовала его только первое время, пока в нём клокотала кратковременная страсть. Затем огонь затух, и Маша почувствовала себя как бы заброшенной в шкаф вместе с ненужными старыми платьями. Она не понимала, что майор продолжал любить её какой-то ему одному свойственной любовью, но влечение его к её молодому телу действительно ушло. Он стыдился этого и прятал свой стыд за маску равнодушия, проводя время за карточным столом в кругу таких же отставников и пропахших нафталином дам, которые то строго изламывали брови, то отмахивались платочком, то убеждали всех в каком-то грядущем несчастье.
Через год скончалась Василиса Артемьевна. Из близких людей у девушки остался только брат Алексей, с которым она виделась, к её огромному сожалению, крайне редко из-за его военной службы. Иногда он наезжал в дом Бирюковского и привозил с собой своих товарищей. Одним из них, курчавым и звонкоголосым Михаилом Литвинским, Маша серьёзно увлеклась. Причиной тому были вовсе не душевные качества Михаила, а мечтательность девушки, которую старалась заглушить Василиса Артемьевна. Как все девушки, которым не удалось полюбить, Маша хотела чего-то, сама не зная чего именно, поэтому она с лёгкостью наделила Михаила всеми возможными чудесными особенностями, которых сама не знала, но с помощью которых в её пылком воображении создался портрет юноши, не имевший ничего общего не только с Михаилом Литвинским, но и с действительностью вообще. В этот созданный ею облик она влюбилась горячо и искренне.
Алексей недолюбливал мужа своей сестры и предпочитал появляться в доме Бирюковского, когда отставной майор отсутствовал. Иногда же, сталкиваясь с ним, Алексей обменивался с Бирюковским незначительными фразами, кои полагалось говорить при встрече, и далее молча ждал отъезда майора.
Однажды, когда Маша находилась в доме одна и ожидала приезда брата, к ней вошёл Михаил. Он был бледен и решителен.
– Я у ваших ног, Марья Андреевна. Не губите! Молю вас о снисхождении! – Молодой офицер склонился до самого пола и поднёс к своим губам край её тёмно-синего платья.
– Что вы? Поднимитесь, прошу вас…
Воображение не раз уносило Машу за пределы того, что считалось дозволенным по законам обыкновенной морали, но то было лишь воображение. Теперь же у её ног находился юноша, и его глаза горели огнём.
– Поднимитесь, прошу вас, – повторила Маша и почувствовала, как по телу её разлилась непреодолимая слабость. – Поднимитесь.
– Никогда! Только если вы пообещаете составить мне счастье!