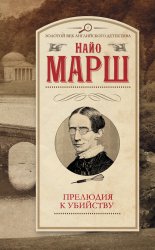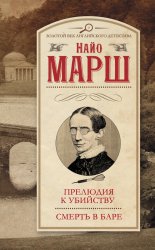Уроки тьмы Митрохина ЛюдМила

ЛюдМила Николаевна Митрохина – петербургский писатель, член Творческого союза историков искусства и художественных критиков Международной ассоциации искусствоведов (АИС), член Союза художников Санкт-Петербурга секции искусствоведения, составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради», автор книг: «Золотое сечение судьбы» о жизни и творчестве незрячего петербургского художника Олега Зиновьева, «В поисках себя» о творчестве камчатского художника Татьяны Малышевой, «Древо Жизни» о родословной своей семьи, соавтор заслуженного деятеля искусств РФ А. Г. Раскина книги «Скульптор Швецкая – классик реставрации» и электронной книги «Строгий талант» о петербургском скульпторе Тамаре Дмитриевой, а также автор множества статей о творческих личностях современности. Автор 12 поэтических сборников и 6 пьес, в том числе включённых в лонг– и шорт-листы Международного конкурса «Время драмы, 2014, зима».
Дипломант 8-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо Жизни» (2004 год), дипломант, лауреат, призёр ряда российских и международных литературно-поэтических конкурсов, в том числе «Расскажи историю в шести словах» (диплом газеты «Мой район» за подписью Б.Н. Стругацкого, 2009 год), «Добрая лира» за рассказ «Руса» (2010 год), «Триумф короткого сюжета» за художественное эссе «Росточек», «Фотостих-3» (2011 год), международных поэтических конкурсов «Золотая строфа» (2011 год, три диплома), городского конкурса «Неизвестный Петербург» за историческое эссе «История трёх Самсонов» (2013 год). В 2015 году награждена дипломом Германского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года» (Берлин-Франкфурт) «Память сердца» и статуэткой «Лавровый венок» за книгу «Золотое сечение судьбы», в которую входят повесть «Уроки тьмы» и эссе «Умозрение» о петербургском незрячем художнике Олеге Зиновьеве.
Составитель Д. Чернухина
Уроки тьмы
«И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.»
(Иоанна 9:39)
День первый
В неосвещённой квартире стояла безжизненная тишина. И если бы не мерное урчание старого холодильника, ничего не говорило бы о присутствии жизни в доме. На кухне в полной темноте неподвижно сидел высокий седой мужчина в больших чёрных очках. От его застывшей позы исходило молчаливое отчаяние, окаменевшие черты лица выдавали напряженную работу мысли, которую он словно боялся спугнуть неловким движением, потерять из виду в хаосе тревожных событий дня.
«Так не должно быть! Она не могла заболеть вот так – внезапно. Это несправедливо – приехали, сделали укол и забрали. Что это за скорая помощь? А как же я?..»
От одной только мысли, что вдруг его жена, с которой он не разлучался ни на секунду вот уже много лет, которая, казалось, была незыблема как мироздание, нужна как воздух и так же незаметна, присутствие которой было для него необходимым, как младенцу материнское чрево, может не вернуться домой, – он мгновенно покрылся холодной испариной.
«Пусть бы и меня тогда взяли», – подумал он, чувствуя абсурдность мысли.
Холодильник резко задрожал, издавая утробные механические звуки, отключился и перестал шуметь.
Мёртвая тишина стала давить на уши, и мужчина неожиданно услышал глухой ритмичный стук своего сердца. Сумбурные мысли будто приобрели голоса и, перебивая друг друга, зазвучали какофонией, вызывая головную боль.
«Ну, вот тебе и тишина, за которой бегал от жены, пытаясь сосредоточиться на своих фантазиях. Мало тебе было бессонных ночей, теперь и день сравнялся с ночью. Впрочем, темнота давно стала родной», – подумал он.
Мужчина снял очки и стал яростно растирать ладонями глаза, будто желая освободить их от внезапно наплывшей пелены. Ему показалось, что темнота, живущая в нём вот уже более двадцати лет, стала густеть, наполняться новыми оттенками, расширяться, превращаясь во вселенский мрак, в котором терялись комнаты, стены, мебель, предметы, да и он сам. Возникло ощущение, что его квартира, словно космический корабль, неслышно разрезает звёздное пространство, улетает с ним куда-то в бесконечность, и по мере удаления от Земли он с кораблём превращается в тающую точку, исчезающую из поля зрения.
«Неужели так бесследно исчезнет всё, исчезну я?» – пронеслось в голове.
Резко встав, он направился в свою комнату, где несколько дней назад приготовил диктофон и кассеты, чтобы наговорить свою жизнь на плёнку, вспомнить людей, поделиться, сам не понимая с кем, пережитым. От нарастающего беспокойства он потерял внутренние ориентиры, не найдя сразу выход из кухни. Сколько раз он бился о косяки дверей, углы шкафов, когда нервы сдавали. Расставив руки, подняв лицо к небу, он, как большая птица, пробирался в свою комнату мелкими осторожными шажками. Вот письменный стол, рядом беговая дорожка, диван.
«Хорошо, что всё приготовил. Будто предчувствовал. Есть чем заняться. Только бы дождаться её, мою единственную…» – стучало в голове.
Легкими, почти воздушными прикосновениями пальцев он ошупал лежащие на столе три кассеты и диктофон, пройдя в определённой последовательности по его кнопкам, включая и выключая их.
– Ну, с Богом! – сказал он и нажал на кнопку «запись». Послышалось лёгкое шуршание кассеты, и зазвучал чуть надломленный, но всё ещё твёрдый голос:
«Раз. Два. Три. Четыре. Олег Зиновьев. Моя жизнь. Первая кассета. Первая дорожка. Черновой вариант… Жажда жизни, разумная жажда жизни у слепого сильней, чем у других людей. Отклоняя взор от пестроты мира, легче думать о самых глубоких вопросах жизни и о самом себе. На фоне окружающего мрака великие вопросы в подсознании становятся живее. Русская пословица гласит: «Жизнь прожить – не поле перейти». Человек рождается для счастья. Жизнь у каждого человека складывается по-разному. Никто не знает, что его ждёт и как сложится его судьба…»
Олег остановил запись и прослушал надиктованное.
– Нет. Не то, не так! Штампованные газетные фразы, избитые истины. Надо проще, понятнее, никакой доморощенной философии. Всё как было, что помню, свою правду, – сказал он и начал заново:
«У меня огромный жизненный опыт, мне есть что рассказать тем людям, кто начал терять зрение, тем, кто его уже потерял, тем, кто обладает им в полной мере. Самая главная цель моей жизни – помочь людям, кто нуждается в этой помощи… Родился я 16 июля 1937 года в Ленинграде. На Земле стало на одного человека больше. Мои малограмотные родители были родом из бедных крестьянских семей, умели только читать и писать. Отец, Ефим Зиновьевич Зиновьев, – из Смоленской области. Мать, Евдокия Ивановна, – из Калининской. Мама была круглой сиротой. Долгое время работала нянькой в чужой состоятельной семье. Крестили меня в Сампсониевской церкви и назвали Олегом. Жили мы на Выборгской стороне, на Гжатской улице, которая проходила от Сердобольской и упиралась в Ланскую. Тогда это была граница города. За Ланским шоссе простирались колхозные поля. Жили мы в маленькой комнатушке на втором этаже двухэтажного деревянного барака, который находился прямо на территории автобазы Ленэнерго, где работал столяром отец. Мама работала вагоновожатой в трамвайном парке имени Калинина, который находился около нашего дома…»
Неожиданно он задумался о роковой цифре «37».
«Это надо же! – думал он. – Родиться в страшном 37-м. Большой террор! Ежовщина! Пока я лежал в колыбели, за один год извели почти миллион невинных людей. Как только моя семья не попала в эти жернова?! Одному Богу известно. Видимо, бедность и необразованность сыграли здесь на руку. А ведь в то кровавое время и слепых бы не пощадили. Было же «Дело группы ленинградских глухонемых». Несчастных глухих людей, не владевших иностранными языками, общавшихся жестами рук, обвинили в создании фашистско-террористической организации. Смели с лица земли одну из сильнейших организаций – Всесоюзное Общество глухонемых, где было всё – школа рабочей молодёжи, библиотека со спортивными секциями, кружки, институт для глухонемых с детским садом, школой, мастерскими и интернатом, швейная фабрика-школа, газета «Ударник», даже театр пантомимы. В наше время о подобном и мечтать не приходится. Эх, сейчас бы так развернулись для нас, инвалидов. Все под Богом ходим. Беда может прийти к каждому».
Много разных мыслей роем кружились в голове Олега. Теперь с высоты своих седых лет, узнав и перечувствовав многое, ему казалось, что он тоже вполне осознанно переживал драматические события страны. Как будто бы он был свидетелем жизней Ольги Берггольц и Анны Ахматовой. Но он не мог понять, зачем советской власти понадобилось уничтожать в таких безумных количествах свой народ.
Магическая цифра «37» волновала его: в 37 лет убили Пушкина, в 37-м году вернули имя Пушкина, которое было вне закона в большевистской России; 37 лет прожили – Маяковский, Хлебников, Рембо, Гумилев, Шопен, Тулуз-Лотрек, Ван Гог. Неожиданно в том же 37-м разрешили снимать фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский вызывал у большевиков патологическую ненависть, но фильм вернул национального героя, прославленного Церковью.
«Моя первая скульптурная работа – Александр Невский, – пронеслось в голове Олега. – От него пошла вера в себя, сила для жизни».
Он включил диктофон и продолжил:
«В свои первые детские годы я не помню, чтобы мать или отец читали мне сказки или пели песни, чтобы я уснул. Но им тоже их не читали, оттуда, из их трудного изнуряющего детства, шла их суровость. В 1939 году отец ушёл на Финскую войну. Я был слишком мал, чтобы понять, что стоит за этим словом – «война».
Отец вернулся с войны и привёз мне финские лыжи от пулемёта, которые переоборудовал в настоящие лыжи. Это было счастье! Я постоянно катался на лыжах и полюбил их на всю жизнь. Зимой меня невозможно было удержать от лыжных прогулок за городом. Так благодаря короткой Финской войне и тому, что отец остался жив, смог привезти военный трофей – пулемётные лыжи, – я привязался к спорту на всю оставшуюся жизнь. Мы в тот период даже мечтать не могли о покупке настоящих лыж, приходилось сводить концы с концами».
Олег остановил запись и задумался:
«Ах, если бы отец мог рассказать семье всю правду о Финской войне, про которую теперь уже многое известно… Но он никогда ни словом не обмолвился о том, что пережил и видел. В то время за это могли и расстрелять. Слава Богу, он остался жив и не попал в плен. Правда о войне со временем стала доступна. Финны вели тактику партизанской войны: небольшими отрядами лыжников с автоматами, преимущественно в тёмное время суток, нападали на двигавшиеся по дорогам русские войска, а потом быстро растворялись в лесу на своих многочисленных базах. Огромные потери наносили снайперы. Прочитанная им оценка германского посланника в Хельсинки потрясла его, он даже запомнил её почти дословно: «Прорывавшиеся вперёд соединения Красной Армии постоянно оказывались в окружении и прорывались назад, нередко бросая технику и вооружение. Несмотря на превосходство в живой силе и технике, Красная Армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолётов и в решающей мере не смогла завоевать территорию». Гитлер по итогам зимней войны назвал СССР колоссом на глиняных ногах и решился на войну с Россией. Зато, по оценке Сталина, война кончилась через 3 месяца и 12 дней только потому, что наша армия хорошо поработала. За какие же прегрешения командование двух дивизий было отдано под трибунал, был расстрелян полковой командир и всё командование 44-й дивизии перед строем? Мне, ребёнку, казалось, что отец приехал откуда-то из заморских стран, да ещё с таким ошеломляющим подарком. А ведь он мог и не вернуться…»
Лёгкими прикосновениями пальцев Олег прошёлся по диктофону и кассетам, ещё раз проверил, в каком порядке всё лежит на столе.
– Всё, устал. Завтра продолжу. Мысли растекаются: собственные воспоминания слились с прошлыми событиями страны. Такое ощущение, что всё меня касается и касалось. А может быть, так и было? Чего тут удивляться. Я сам и есть то время, которое срослось со мной всеми нескончаемыми бедами, короткими радостями и упорной надеждой на хорошее будущее. А теперь подготовка ко сну. Как там Валюша? Завтра сын всё мне расскажет. Спокойной ночи, родная!
Олег встал и уверенно прошёл на кухню, чтобы выпить, как всегда, чашку чая перед сном. На кухне он задумался. Всё, что касалось предметов его творчества, не вызывало у него препятствий, так как он сам следил за тем, чтобы все было на своих местах. Он досконально помнил, где лежат карандаши, кисти, краски и в каком порядке, включая цветовую гамму; как в большом стенном шкафу уложены планшеты и папки с графическими работами, с тематической разбивкой; какие скульптурные работы стоят на серванте, шкафах и полках; какие книги по Брайлю лежат на полке; где стоит старенький видеомагнитофон с телевизором, которыми он легко пользуется, слушая записи творческих встреч, классическую музыку и любимые звуки природы. Его комната напоминает спартанскую обитель – диван, рабочий стол, беговая дорожка и закрытые стеллажи вдоль одной стены с необходимыми материалами. Мебель в квартире расположена так, чтобы не мешать свободному передвижению. Она как бы уважительно жмется вдоль стен, уступая дорогу идущему. Никаких лишних вещей. Только небольшая комната жены насыщена многочисленными, на первый взгляд ненужными мелочами, но такими дорогими для её сердца. От комнаты исходит женское тепло и ощущение уюта.
Олег наошупь нашёл газовую зажигалку и чайник, налил воды, зажёг горелку и, осторожно приблизив ладонь к горелке, проверил силу огня. Долго искал кружку и листовой чай в металлической баночке. В раковине осталась невымытая посуда.
«Не успела Валюша вымыть, – подумал он, – приступ начался».
Громко и радостно засвистел чайник, вырвав его из оцепенения.
– Ну вот, теперь я не один – рядом живой и горячий чайник, – сказал он и выключил горелку.
Насыпал чай в кружку, налил кипяток и закрыл блюдцем. На кухонном столике обнаружил печенье. Чай пил долго, оттягивая время сна, так как знал, что желанный сон навряд ли посетит его сегодня. Сон вообще наваливался на него редко и неожиданно, в любое время суток и то ненадолго. Почти все ночи для него – это погружение в глубинные сферы подсознания, из которого он черпает образы, идеи, мысли, стараясь удержать в памяти ночные вспышки и озарения до утра, чтобы зафиксировать их на бумаге или осознанно положить в одну из ячеек тренированной памяти для будущей работы. Медитация замещала ему недостаток зрительных впечатлений, позволяла прикасаться к высшим духовным сферам бытия, раскрывая тайны его внутреннего мира, похожего на микрокосмос.
Он лёг на свой жёсткий диван в тренировочном костюме, накрылся лёгким шерстяным пледом, закрыл глаза и стал считать до ста, зная, что на какой-то цифре откроется внутреннее зрение, и он увидит меняющиеся очертания задуманных картин. Многие образы, которые он создавал, приходили к нему именно во сне. Что интересно, они у него накапливались и не уходили. Он по многу лет мог держать их в памяти. По мере роста мастерства он вновь к ним возвращался. Часто, засыпая, он задумывал какую-нибудь тему будущей работы, не видя её композиционного решения. К утру тема постепенно выстраивалась в готовую работу. Тогда он делал черновик, чтобы сохранить её для воплощения в материале. Он серьёзно увлёкся сновидениями, прочитал много литературы на эту тему, чтобы научиться владеть сном, запоминая сюжеты до утра. Утром он рассказывал жене об увиденных снах. Прерванные сны он мог восстанавливать по собственной воле, давая им естественное продолжение. Но более того, если он того желал, то мог видеть один и тот же сон несколько дней, будто открывая страницу книги на одном и том же месте. Сон для него стал источником информации, которой так не хватает незрячему художнику.
Похоже, сегодня его посетила бессонница. Голова была пуста, мелькали виденные когда-то леса, разнообразные формы стволов деревьев, слышался шум листвы. Казалось или чудилось в полудрёме, что земля уходила из-под ног, мелькали оголённые причудливые корни деревьев, о которые он спотыкался и падал в детстве, сбегая вниз под горку. Он бежал всё быстрее и быстрее, лесная тропинка с выпиравшими из-под нее сухими корнями высоких деревьев усиливала бег, по лицу стали бить колкие ветви огромных елей. Он цеплялся руками за ветки, шершавые стволы, пытаясь остановиться, но ничего не получалось. Страх усиливался, ещё немного, и он упадёт…
Олег вырвался из сна, и его сердце часто билось, но он продолжал лежать с закрытыми глазами, заново прокручивая и запоминания увиденное – разнообразные формы стволов деревьев и причудливые сказочные корни. Вот то, что надо! Не забыть бы эту природную фантазию форм лесного мира, из которого он черпает вдохновение. Нет, голова не была пуста. Работая днём над серией графических работ «Деревья как люди», мозг продолжал свои поиски ночью. Периодически проваливаясь в сонное состояние, Олег цепко удерживал увиденное, заставляя мозг возвращаться к нужному сновидению. Он не понимал, как это у него получалось, просто знал, что другого выхода у него нет – только память и осязание могли дать ему необходимую информацию. Остальное – дело рук, выработанных им же техники и методики переноса созревших образов на бумагу и в материал. Главное – это руки. Пальцы рук, подушечки пальцев, которыми он должен прикасаться ко всему. К земле, к небу, ко всему, что окружает. Чтобы творить, надо жить с небом. В незрячей жизни слепота – мудрый учитель.
День второй
Звуки природы Олег воспринимал как божественную литургию. Большую радость ему доставляло слушать пение птиц, шум моря, ветра, дождя. Звуки вызывали у него ассоциации с живыми цветными картинами, создавали душевное равновесие и гармонию с незримым миром, помогали творить в тишине, без ощущения бескрайнего одиночества.
С рассветом он услышал птичье пение, издаваемое настенными часами, легко проснулся, аккуратно застелил диван и встал на беговую дорожку. Без бега он уже не представлял своего существования. Спортивная форма была крайне важна для его выживания, самоуважения и самостоятельного передвижения по городским отработанным маршрутам, в основном от дома до мастерской. Тридцать минут бега придали ему бодрости духа, а кружка крепкого чая – уверенность, что всё будет хорошо, как прежде, и Валюта скоро вернётся домой.
Он сел за рабочий стол, включил диктофон и погрузился в тревожный 1941 год:
«1941 год. Началась Великая Отечественная война. Отец сразу ушёл на фронт. В детский садик мама водила меня недолго. Начались обстрелы города и эвакуации жителей. Мама осталась со мной в блокадном Ленинграде, отказавшись его покинуть. Я помню, что постоянно сидел один в закрытой комнате. А когда начинались боевая тревога и обстрелы, то я от ужаса метался по комнате в поисках укромных мест, чтобы запрятаться туда, стать незаметным и не слышать угрожающего воя и отдалённых взрывов бомб.
Однажды в один из жарких дней лета мама решила уйти спать со мной в сарай, не зная почему. И в эту же ночь бомба попала в наш дом, где мы жили. Почти все, кто там был, погибли. Материнский инстинкт спас нас. Нас переселили в новое общежитие, в большой 4-этажный каменный дом, только что построенный, который пустовал недалеко от Ланской станции и парка Калинина. Дали нам 25-метровую комнату с двумя окнами. Одно окно выходило на Сердобольскую улицу, где ходили трамваи, а второе – на 4-этажное здание школы, буквально в 25 метрах от нас.
В школе тогда находился госпиталь. Запомнил на всю жизнь, как постоянно хотелось есть. Мама что-то приносила из детского сада, готовила, ставила на стол, а я добавлял водички, размешивал и говорил, что у меня больше, чем у неё. Мы ели, не понимая что, лишь бы заглушить острое чувство голода. Травились, мучились, но не могли избавиться от этих голодных страданий. До сих пор вижу маму с опухшими перевязанными ногами.
На улице я почти не бывал. Там было что-то страшное, невообразимое и многое мне, ребёнку, непонятное. Мама всю войну проработала вагоновожатой. На трамвае она возила бойцов на Среднюю Рогатку, где проходил на Пулковских высотах фронт, пролегала оборона Ленинграда. Иногда мама брала меня с собой на работу.
Запомнился мне один случай: мы ехали с мамой от площади Мужества (так сейчас называется эта площадь) в сторону Кушелевки. Мама вела трамвай, а я сидел рядом. Неожиданно перед нами раздался взрыв, и наш трамвай клюнул носом в воронку. Загорелся мотор, и мама рукавицами стала гасить огонь. Погасив его, мы выскочили из трамвая и побежали в бомбоубежище. Ангел-хранитель во второй раз спас нас с мамой. Ангелом для меня была мама.
Однажды мама пришла с работы очень расстроенная, заплаканная. Оказалось, что хлеб, который она несла домой, у неё из рук вырвала какая-то озверевшая от голода женщина. Мы остались без хлеба. Я знаю, что мама любила меня, отдавала последний кусочек. Благодаря маме я выжил. Но я не помню, чтобы она хоть раз за всю жизнь поцеловала меня, приласкала. Теперь я понимаю, что это было из-за отсутствия тёплой материнской любви в её детстве, что сиротство наложило отпечаток внешней суровости, но наградило её силой материнской самоотверженности и бесстрашия…»
Только повзрослев, он смог представить и по-настоящему оценить героизм матери, которая каждый день в блокадном городе выводила трамвай на линию, несмотря на обстрелы и бомбёжки. Олег узнал, что ленинградцы, имея в виду Стрельну, говорили: «Враг у трамвайной остановки». Едва стихали дневные пассажирские перевозки, к передовой отправлялись трамваи с боеприпасами, санитарные поезда начинали вывоз раненых. На проспекте Стачек они не доходили даже до Кировского завода – дальше контактной сети уже не существовало. Трамвайные вагоны прицепляли к небольшому паровозу – «кукушке», трамвай шёл ещё километра два и останавливался неподалёку от передовой. Рядом рвались снаряды, а необычный поезд шёл сквозь огонь и дым к передовой с боеприпасами и оружием, назад – с ранеными. И так изо дня в день…
8 декабря 1941 года подача энергии прекратилась, и трамваи встали. Но, несмотря на это, трамвайщики приходили на работу каждый день. Женщины заменяли ушедших на фронт мужчин, ремонтировали вагоны, готовили их к выходу на линию. Люди верили – трамвай будет пущен. Прекращение подачи электроэнергии было столь неожиданным, что пятьдесят два состава так и застряли на линии, не успев уйти в парки. Печальную картину представляла собой цепь неживых обледеневших трамваев и троллейбусов с выбитыми стёклами и заснеженными сиденьями.
На двести девятнадцатые сутки блокады подали напряжение. 15 апреля 1942 года из нескольких парков одновременно вышли на линию трамвайные поезда. На остановках в трамваи садились люди, плача и смеясь от радости. Трамвайный звонок победно звучал в весеннем городе. За вагонами бежали люди на опухших от голода ногах и всё время просили, чтобы вагоновожатые звонили. Немцы не сразу поняли, что это была за странная иллюминация вдали. И были потрясены, увидев, что Ленинград на седьмом месяце блокады пустил трамваи.
Питерские трамваи были для Олега родными во всех отношениях. Он хорошо помнил, каких масштабов достигла трамвайная сеть Ленинграда в 1980 году, став самой большой в мире, за что была включена в «Книгу рекордов Гиннесса». А сейчас маршрутки вытеснили их, отравив воздух. А жаль! Трамвай для передвижения незрячего человека удобен – у него чёткий маршрут, слышно его приближение, открытие дверей, объявление остановок, звонки. У Олега зародилось желание увековечить мамин блокадный трамвай в шамоте.
– И всё же мы дожили до 44-го года, до прорыва блокады, – произнёс Олег и продолжил запись:
«Наступил 1944 год. Год прорыва блокады Ленинграда. Жизнь стала медленно и верно налаживаться. Увеличилась норма хлеба, стали возвращаться в город эвакуированные жители. Из двух домов, принадлежащих Ленэнерго, – один из них 4-этажный, в котором мы жили, другой 2-этажный деревянный, – осталось только трое детей: Римма Половинкина, я и Толя Журышкин, который стал моим лучшим другом на всю жизнь. Толя жил на первом этаже нашего дома. Помню, как мы с ним придумали трещотку, приспособили её на старый трёхколёсный велосипед и с восторгом гоняли взад и вперёд по длинному коммунальному коридору дома, оглушая шумом соседей. Стали открываться детские садики. Я с большим удовольствием ходил в детский сад. Мне было там интересно. Самым любимым занятием у меня было рисование. Воспитательницам нравились мои рисунки, они хвалили меня и предсказывали, что быть мне художником, не иначе. И я им верил. Ещё помню, как в большом дворе нашего дома, где гуляла детвора, вся земля была усеяна осколками снарядов. Я любил брать их в руки и рассматривать. Это были оплавленные куски металла причудливой формы и необычного цвета. До сих пор я отчетливо помню эти смертельные осколки войны. Они притягивали к себе, может быть, из-за пережитого страха бомбёжки или из-за их кажущейся всесильности над живыми. Люди от них прятались, страдали, погибали. Я очень сожалею, что не сохранил ни один осколок на память о военном детстве, хотя собирал их и складывал дома.
Во дворе появилось больше детей, с которыми я дружил. Наступило время идти в школу. Вместо портфеля мама приготовила мне противогазную сумку, вложила в неё папку и отвела меня в школу, которая находилась напротив нашего дома. В школе был урок пения. Впервые я запел, и мне это так понравилось, что дома, когда все уходили, я постоянно громко пел басом песню «Широка страна моя родная…», мучая слух соседей, которые деликатно, через маму, просили меня петь тише. Толя учился отлично, а я плохо. Он очень любил технику, а я рисование, но дружба у нас от этого стала только крепче. Благодаря Толику мы собрали первый детекторный приёмник, по которому, забившись подальше от взрослых, ловили «Голос Америки» и радиоволну Би-Би-Си. Появился у нас во дворе толстячок Юрка, над которым все худые блокадные дети издевались. Он терпел долго, а потом записался в спортивную школу и стал стройным сильным спортсменом, что нас сразило наповал, и мы его зауважали, тем более, что он мог играть на гитаре и пианино…»
«Всё же удивительно, как память медленно и верно открывает свои потайные створки, когда начинаешь углубляться в неё, погружаться в воспоминания давно минувших дней», – подумал он, прекратив запись.
Это как мистический бег пятками назад, похожий на перемотку киноплёнки в обратную сторону, который ускоряется, внезапно высвечивая такие памятные залежи, что возникшие перед тобой события, окрашенные ностальгической тоской, кажутся нереальными. Оказывается, детство – самое богатое по яркости чувств и полноте эмоций время. И не важно, трудно ли было, сыт ты был или голоден, любили тебя или терпели, нуждался ты или был пресыщен, – жизнь принималась такой, какой была, впитывалась и познавалась с огромным интересом через радость, удивление, боль и страдание.
Олег вспомнил и явственно представил внутренним зрением Удельный парк недалеко от Удельного шоссе, куда в свободное от школы время они убегали с друзьями. Как они там, забыв обо всём на свете, рылись в земле в поисках драгоценных мальчишеских военных трофеев – касок, гранат, патронов, которые тайно переносили в свой двор, предварительно вырыв блиндаж. Делали, прячась от матерей, самопалы, заряжая разными начинками, и стреляли, порой невольно себя калеча. Они хотели воевать, быть защитниками, подражая своим отцам и мечтая уйти на фронт. Делясь на «красных» и «белых», вооружившись самодельными деревянными мечами и щитами, с упоением сражались дворовой командой с командой соседнего дома до окончательной победы. Большой разбитый танк, распластанный на пустынном школьном дворе, облепленный худенькими телами мальчишек, оживал от их криков и команд. А в сквере на Ланской станции лежал подбитый боевой самолёт. Какое счастье было потрогать
его руками, посидеть на месте лётчика, прикасаясь к рукояткам непонятных приборов, завывая звуком мотора, представляя себя летящим в синем небе на огромной высоте, стреляющим в ненавистных врагов. Вдоль Сердобольской улицы сплошной линией стояли заброшенные трамваи до самой Чёрной речки. Пруд сквера напротив дома был завален битыми автобусами. Вот где можно было разгуляться детскому воображению! Целыми днями Олег со стайкой мальчишек пропадал на этих кладбищах битой техники, прогуливая школу, а потом и забросив её окончательно.
В это время родилась сестрёнка Тамара, маме было не до него.
А ещё в памяти Олега всплыло, как мама перед самым окончанием войны выменяла что-то из одежды на бутыль молока, которого они не видели давно. Вместе пошли за молоком, а когда шли обратно домой, бутыль неожиданно выпала из маминых рук на землю. Как она смогла выскользнуть? Видимо, была слишком тяжёлой для маминых обессиленных рук. Молоко растеклось белым несбыточным счастьем и как в замедленной съёмке медленно просочилось в чёрную землю, жадно впитывающую живительные ручейки на их остекленевших от горя глазах.
Есть хотелось постоянно. Поэтому он частенько рыскал в шкафах в поисках еды, не боясь залезть на самый верхний стенной шкаф, где мама хранила самые сокровенные запасы. Однажды придвинув стол, поставив на него табуретку, а на неё скамеечку, Олег обнаружил спрятанные конфетки. Соблазн и страх боролись недолго. Он нашёл золотую середину – аккуратно разворачивал цветные обёртки конфет, отрезал лезвием ровные кусочки от каждой конфетки и заворачивал обратно, придавая им прежний вид. Отрезанное съедалось и слизывалось с ладони молниеносно. Когда мама обнаружила обман, то не ругала его за это, а только испугалась за него, что он залезал так высоко – ведь можно было упасть и покалечиться.
Олег включил диктофон:
«Наступил долгожданный 1945 год Победы. Стали возвращаться отцы с фронта. Мой отец после Германии был отправлен со своей частью в Китай, вернулся только в 1946 году, когда мне было девять лет. Отец продолжил работать столяром на прежнем месте. В доме появилась сделанная им мебель. Для меня он сколотил небольшой письменный стол, за которым я делал уроки и рисовал. Отец не обращал на меня никакого внимания, а дочь очень любил, постоянно её балуя, что сказалось на наших отношениях с сестрой. Мама переживала за меня, но изменить ничего не могла. Воспитание отца заключалось в том, что за все провинности он порол меня ремнём. Отец стал погуливать, приходить домой пьяным. Мама с двумя детьми на руках мужественно терпела загулы и измены отца.
Для меня осталось лишь несколько радостей – школа, рисование и улица. Рисовал я тогда только карандашами, другое было недоступно. Придумал ещё один способ: маленькие кусочки белых тряпок натягивал на самодельные рамочки, брал на кухне из плиты уголь и рисовал углём по ткани. Однажды мне подарили картонную палитру с пуговками цветных красок, а кисти не было. Тогда я осторожно отрезал у домашнего кота Васьки кончик шерсти с хвоста, привязал к палочке, и получилась кисть, которой я с большой гордостью рисовал красками. С тех пор я представлял себя художником.
Наш Васька появился в доме не просто так. Полчища крыс каждую ночь нагло бегали по комнате, по мебели и даже по спящим людям. Они наводили на меня ужас. Их боялись все, особенно за маленьких детей, которым крысы иногда обгрызали уши, руки, всё, во что они могли вцепиться мёртвой хваткой. За время блокады в Ленинграде были съедены все коты, поэтому достать котёнка было огромной удачей. И нам с мамой повезло – привезли несколько котят с Большой Земли и нам отдали одного. Мы боялись, что крысы его, ещё такого маленького, могли съесть. Но инстинкт и Васькина храбрость взяли своё. Крысы покинули нашу комнату. Позже Васька пропал, мы искали его и подумали, что его украли. Через месяц кто-то открыл подвал дома и там обнаружил нашего несчастного кота, худого и заморённого, который еле дышал, даже мяукать не мог. Мы потихоньку отпаивали его молоком и осторожно кормили, чтобы не умер от переедания. И он прожил с нами долгую кошачью жизнь, где-то лет до шестнадцати.
Я стал много и с удовольствием читать. Первые книги были о полярниках. Школу не прогуливал. После школы пропадал во дворе, играя в многочисленные игры. Особенно любил футбол. Мячом нам служила камера, набитая тряпками, которую мы гоняли на школьном дворе, сделав футбольное поле. Позже появился настоящий мяч, который мы постоянно латали, так как играли беспрерывно с утра до вечера, снашивая обувь, которую завязывали тряпками и верёвками, чтобы не отвалилась подошва. Домой приходил только спать. Иногда летом мама отправляла меня в пионерский лагерь. А зимой с друзьями я постоянно ходил на лыжах до Поклонной горы и обратно. Там, в Озерках, были отличные склоны у озёр, с которых мы катались. Во дворе каждую зиму заливался каток, на котором мы сами учились фигурному катанию. Ходил в школьный драмкружок, был задействован в трёх спектаклях. С любимым другом Толей Журышкиным с огромным увлечением играли в шахматы. Пользовался школьной библиотекой и библиотекой трамвайного парка имени Калинина, где работала мама».
Олег замолчал и не заметил, как воспоминания поглотили его целиком, окутали плотным облаком глухой тишины и увели в памятные дебри отрочества. Перед глазами возникла толстая книга, случайно попавшаяся ему на глаза в библиотеке трамвайного парка под названием «Пособие для художественных заведений», которая дала ему сильный толчок к самообразованию, постижению того, к чему так стремилась его юная душа. Книга потрясла его – ведь это было то, чего ему так не хватало. Он мог учиться рисовать по настоящим урокам мастерства. После школы он с нетерпением бежал домой, чтобы скорее открыть этот волшебный кладезь знаний и страницу за страницей, урок за уроком переписывать в толстую общую тетрадь. Мало того, все до единой иллюстрации он бережно переводил на кальку, вставляя их в нужные, переписанные в тетрадь, разделы. Он с восторгом разглядывал картинки, впитывал в себя каждую деталь, изучая линии, штрихи, полутона и тени. Возвращался к одному и тому же тексту много раз, чтобы вникнуть в суть сказанного, увидеть подтверждение в рисунке, и, главное, повторить самому, как молитву. Никогда он не испытывал такого рвения и счастья от изучения учебного материала, как от этого, никому не нужного в трамвайном парке, запылённого толстого пособия по рисованию.
Теперь он уже не бегал просто так с друзьями в парк Лесотехнической академии, он открыл его для себя в новом свете, рисуя его деревья, кусты, дорожки и аллеи, меняющиеся на глазах в зависимости от погоды и времени суток. С походным альбомом для зарисовок с натуры он не расставался и так увлёкся уроками мастерства, что даже на занятиях в школе не мог совладать с соблазном делать наброски с ребят, за что его часто наказывали учителя, отнимая рисунки. Это было каким-то наваждением, рисовать хотелось бесконечно. Он чувствовал, что рука становилась увереннее и твёрже. Он решился переступить порог Академии художеств, чтобы рисовать декор античных залов. Вход был тогда свободный. Олег стал посещать каждую новую выставку в залах Союза художников на улице Герцена, в которых он робко бродил, лелея тайную мечту стать художником и выставлять когда-нибудь свои работы здесь, в этом храме искусства. Записался в библиотеку Выборгского Дома культуры, упорно ища то, о чём грезил. Как он много и вожделенно читал всё, что ему попадалось по искусству, многое не понимая, но чувствуя безошибочно основную мысль. Но именно первое пособие помогло ему утвердиться в единственном выборе своего пути – стать художником во что бы то ни стало.
– Что-то я засиделся, – сказал он вслух. – Так можно и форму потерять, а ведь пробег городской не за горами.
Мысли переключились на нерешённые проблемы с лидером. Лидер для незрячего бегуна – это всё: его жизнь в спорте, тренировки, соревнования, борьба с застойной тьмой, наконец. С большой благодарностью он вспоминал не раз руководителя спортивного клуба инвалидов «Ахиллес» Михаила Горбунова. В команды он включал пять человек незрячих, пять человек с остатком зрения и спортсменов-лидеров, которые и на тренировках, и на соревнованиях помогали незрячим бегунам. Каждому незрячему он подбирал зрячего бегуна-лидера по его силам, с которыми они бежали, связанные между собой верёвочной петлёй, надетой на руки, за счёт которой можно было регулировать дистанцию между бегунами – где отпустить от себя, где притянуть поближе. По ходу, если возникали опасности или неровная дорога, можно было делать предупреждения друг другу, которые были у каждого свои. Незрячим бегунам разрешили официально участвовать в соревнованиях с лидерами, многие имели награды. Все мечтали пробежать марафон. Незрячие бегуны были моложе, чем Олег, лет на двадцать, но он имел значительные преимущества перед ними, потому что стал заниматься бегом ещё до полной потери зрения.
Память легко раскручивала свою ленту в обратную сторону. Он вспомнил стадион «Спартак» в Удельном парке, где серьёзно приступил к тренировкам в клубе любителей бега, возглавляемом Олегом Юлиановичем Лосем – известным спортсменом-бегуном, совершившим легендарный пробег Москва-Варшава-Берлин. Тогда, в 1984 году, остатки зрения позволяли ему тренироваться без лидера. Весной они с Валюшей появились в этом клубе. Валентина занималась в нулевой группе, где проводили небольшой комплекс упражнений, лёгкий пробег по парку и игры в волейбол. Его зачислили сразу в третью – марафонскую группу – благодаря физической подготовке. Бегали по двадцать километров. Был у них уникальный тренер Слава Филиппов. К каждому у него был свой подход, он постоянно что-то придумывал, изменял, вводил новое. После разминки совершали пробег, потом принимали душ, пили чай и вели задушевные разговоры. И так каждое воскресенье. Дополнительно в Сосновке он уже сам замерил три круговые трассы в пять, десять и двадцать километров, по которым бегал на неделе каждый день. Стал вести спортивный дневник для самоконтроля. И через год успешно пробежал свой первый официальный соревновательный пробег в двадцать километров в городе Колпино. Это была первая личная победа. А ещё через год со своим другом и лидером Геннадием Сидоровым пробежал Сестрорецкий классический марафон за три часа сорок пять минут.
– Господи, когда это было, – недоумевал Олег. – Что же сейчас случилось и почему всё это рассыпалось, стало недоступной мечтой именно тогда, когда слепых людей становится всё больше и больше во всём мире? Все разбежались, попрятались по своим норам, как кроты, и никому в спорте нет до нас дела. Готов заплатить любые деньги за лидера, лишь бы не быть на обочине жизни, бежать, бежать к жизни, а не от неё к неподвижности и забвению. Да, я немолод, но я и не глубокий рыхлый старик. Неужели ни один спортсмен не откликнется на просьбу? Не надо чемпионов, есть же бегуны со средними результатами, которые не в ущерб себе могли бы бежать с незрячими.
Олег выключил диктофон. Встал, выполнил несколько разминочных упражнений и направился к входным дверям. Сняв домашние тапки, он надел кроссовки. Ключи от квартиры лежали, как всегда, на своём месте – на тумбочке в прихожей. Олег без труда определил по конфигурации наружный ключ, открыл дверь, вышел на лестничную площадку без трости, вставил ключ, закрыл дверь и положил ключи в карман. Кабина лифта находилась справа, рядом с дверью. Уверенным жестом Олег точно попал на кнопку вызова. Прислушавшись к шуму, он определил, что лифт спускается с последнего, девятого этажа. На лестнице было тихо. Никого. После открытия дверей, придерживая створки руками, он вошёл в кабину. Кнопочную панель он представлял явственно и знал наизусть. Он спустился на первый этаж, вышел и, пока лифт не закрылся, быстро нажал на кнопку девятого этажа. Одновременно с шумом закрытия дверей он начал свой бег по пролётам лестниц вверх, соревнуясь с лифтом. Пробегая этажи, он старался не отстать от лифта и прибежать раньше него на девятый этаж. Количество ступенек и поворотов он знал наизусть. Как только он добегал до самого верха, то старался запрыгнуть в открытые двери лифта, чтобы поскорее спуститься на нём на первый этаж и начать всё сначала, не останавливаясь. И так раз десять. Бег возвращал ему силы, он раззадоривал его, заставлял мобилизоваться, преодолевать невидимые препятствия и себя самого. Это было похоже на пробег с сильным лидером. Эх, жаль, что нет таких роботов-бегунов, за которыми можно было бы пристроиться и бежать, бежать, бежать… Такую тренировку придумал он сам для себя тогда, когда наступила та внезапная тотальная слепота, к которой надо было адаптироваться, пройдя через терзающие душевные муки и страдания, через сопротивление и отчаяние, похоронив упорно жившую надежду на возврат зрения и покорившись судьбе.
Пробежав лестничную трассу, он вернулся в свою квартиру в лучшем состоянии духа и тела. Аккуратно положил на своё место ключи, надел тапки, ополоснулся в ванне, где все его туалетные принадлежности лежали в строго определённом порядке. Побрился. Валентина чётко поддерживала нужный и необходимый для его жизни порядок.
Войдя на кухню, Олег сначала пересмотрел руками все лежащие предметы на столах, потом, осторожно открывая навесные шкафчики, прошёлся по их содержимому, касаясь пальцами посуды и упаковок с продуктами. Изучил холодильник. Тренированная память запечатлела то, что увидели чуткие пальцы. Всё встало на свои места. Он знал, чем питаться и где что лежит. Не надо беспокоить сына, который был нужнее матери в больнице. Только бы Валюте помогли.
Неожиданно в тишине громко зазвонил телефон. Олег ринулся в проходную гостиную к дивану, где стоял телефон. Он знал, что это сын с долгожданной вестью о жене. От волнения он расшиб лоб о косяк двери, но, не обращая на это внимания, постукивая руками по дивану, подобрался к тумбочке с телефоном. Звонок был от сына. Новости неплохие – приступ сняли, будут делать бескровную операцию, удалять камни в желчном пузыре, и дня через три-четыре жена уже будет дома. Внутренне Олег будто освободился от чего-то гнетущего. Он расслабился, выдохнул, повалился на диван и впал в короткий глубокий сон.
Проснулся Олег с просветлённой головой, с желанием выполнить слово, данное жене, – записать рассказ о своей жизни на диктофон, не оттягивать со сроками, а сделать это к её приезду. Воспоминания странным образом выстраивались в события, которые он видел будто бы со стороны. Казалось, что он говорит не о себе, а о ком-то другом, близком ему человеке. В скупых отрешённых словах у него не получалось выразить огромную гамму чувств и эмоций, которые он пережил в своё время.
– Пусть фиксация фактов, но это моё преодоление, мой путь жизни, который я хочу осмыслить и которым хочу поделиться с другими, – решил он и продолжил запись за своим рабочим столом:
«В шестнадцать лет у меня стали появляться первые симптомы болезни глаз. По вечерам, когда сгущались сумерки, острота зрения резко снижалась, но я и никто из родных на это не обращали внимания. Помню, как я искал упавший со стола на пол карандаш, долго шаря руками по полу, не понимая, почему я не мог его увидеть сразу, ведь он лежал у моих ног.
После окончания средней школы меня сразу призвали в армию. В то время вся молодёжь стремилась туда, особенно в военно-морской флот. Появилась реальная возможность испытать себя на суровой военной службе, о чём мы мечтали в детстве, увидеть мир, другие города и даже зарубежье. Впервые я попал к врачам в военкомате, придя на осмотр приёмной медицинской комиссии. Заключения врачей были положительные, кроме глазного врача. Он обследовал меня, потом долго и много что-то писал в карте и выдал мне направление на срочную консультацию в Военно-медицинскую академию, куда я сразу явился.
Тщательное обследование показало, что у меня близорукость, надо носить очки, а также куриная слепота и сужение поля зрения. Тревожащие меня симптомы подтвердились имеющимися заболеваниями. Но точный диагноз не был определён в то время. Врач Военномедицинской академии провёл со мной откровенную беседу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, что не знает, правильно ли поступает, говоря правду пациенту, но молчать не может, потому что всё слишком серьёзно. Заболевание у меня неизлечимое, и врачи в данный момент бессильны что-либо предпринять, чтобы помочь мне. Он напрямую сказал, что я должен готовиться к самому худшему – зрение будет падать и может пропасть окончательно, но когда это произойдёт, никто сказать не сможет.
Так в начале своей взрослой жизни я получил два удара – позорный «белый» билет из-за непригодности к военно-строевой службе и грозящую впереди внезапную слепоту из-за неизлечимой болезни глаз. Придя домой, я долго думал над словами врача и пришёл к выводу, что должен быть готовым ко всему и не опускать руки, бороться с болезнью и за свою мечту выучиться на художника. Всё же лучше жестокая правда, чем щадящая ложь, которая могла ослабить волю и навредить. Я стал носить очки, постоянно принимать рыбий жир, делать внутримышечные витаминные уколы, надеясь в душе на чудо, не отравляя себе и своим близким жизнь поселившимися тревогами и сомнениями…»
«Всё же молодость прекрасна!» – подумал Олег, остановив запись.
Наперекор и вопреки всему желание быть художником возрастало, ускоряя темп жизни. Разве мог он тогда предположить, что с момента приговора, озвученного врачом, зрение, тая с каждым годом, покинет его окончательно через 37 лет? Опять та же роковая цифра. Можно было выстроить иной путь – перестать напрягать зрение: не читать, не писать, не рисовать, найти работу, не связанную с напряжением зрительного нерва и просто существовать, как растение, сгибаясь от непогоды. Не исключено, что это могло в определённой степени притормозить процесс потери зрения и продлить на какой-то срок зрячую жизнь. Но что взамен? Унылая жизнь, окружённая страхами? Нет. Мечта вела его за собой, как поводырь слепого, как любовь свою жертву, пронзённую стрелой Амура, и сопротивляться этому не было сил.
В тишине прозвучал щелчок от включённого диктофона, зашелестела плёнка и вновь зазвучал его голос:
«При таком положении дел со зрением подавать документы в высшие художественные заведения было бесполезно. И я решил поступать на двухгодичные курсы по росписи фарфора на Ленинградском фарфоровом заводе имени Ломоносова. На приёме сначала отбирали по представленным работам. Потом проводился экзамен по рисунку. Экзамен я сдал успешно. Чтобы пройти первичный медицинский осмотр на заводе, я выучил наизусть таблицу по проверке зрения и удачно проскочил, получив разрешение для прохождения обучения. Я был счастлив, несмотря на то, что приходилось вставать каждое утро в шесть часов и добираться до завода в течение двух часов почти через весь город на двух трамваях с пересадкой.
Началась новая интересная жизнь. Я изучал полный спектр палитры красок, технологию их изготовления, технику мазков, всевозможный орнамент, направление декоративных стилей. Много времени уделялось рисунку – основе декоративной живописи. Получив первую стипендию, я сменил свой потёртый заношенный фланелевый костюм на настоящий, с брюками, что придало мне в собственных глазах некую весомость. Учёба пролетела как один день. И вот я уже стал живописцем 4-го разряда по росписи фарфора. Определили меня в сервизный цех. В то время выпускали сервизы с золотой сеткой. Я наносил на чашки с блюдцами волнистой формы золотую сетку. Такие чашки делали и до меня лет двадцать, но они пользовались огромным спросом, и потому их выпускали. Впервые я принёс в дом зарплату, купил маме в подарок немецкую фарфоровую вазу саксонского завода с интересной росписью и сделал памятную гравировку на ней. Нам стало жить гораздо легче, мои заработки пришлись как нельзя кстати, так как отец к этому времени ушёл из семьи…»
На этом Олег остановил запись, пытаясь осмыслить прожитое. Когда ушёл из дома отец, он был уже не ребёнок и многое мог понять. Но никогда он не видел свою мать в упавшем состоянии духа, плачущую, потерянную или настраивающую детей против отца. Она стойко, как оловянный солдатик, переживала семейную драму, отдавая себя детям. Воспоминания о ней как бы сами лепили её образ, делая его с каждым возникшим в памяти штрихом всё более монументальным, мощным и несгибаемым. Мама становилась в его воображении всё более значительной и весомой. И то, чего она тогда не имела, не умела, не могла, сейчас казалось пустым и малозначительным. Острое чувство утраты, окрашенное поздним раскаянием в том, что он мог дать и не дал, что он должен был сказать и не сказал, подкатилось щемящим солёным комом к горлу. Мама не только родила его, она крепко держала ниточку его жизни в своих руках, тихо и незаметно жертвуя собой.
Впервые он был оторван от родного дома во время обучения на живописных курсах фарфорового завода. Ах, какая это была замечательная пора! В колхозе Тихвинского района Ленинградской области молодые живописцы строили коровники, возили на лошадях картошку, косили траву, готовили дранку для крыши и жили полнокровной самостоятельной жизнью с твёрдой верой в свою исключительность и причастность к искусству. Ошалелая свобода и молодость обостряли все чувства – и он впервые влюбился в высокую стройную девушку с точёной фигурой, напоминающую ему Ариадну из греческой мифологии, изображаемой на вазах. Мир стал ещё ярче и прекраснее.
Наконец, они с мамой в ту пору могли осуществить мечту – побывать на её родине в Калининской области. Впервые они туда поехали втроём – мама, он и сестра, а потом только с сестрой. Добирались на поезде до города Осташкова, потом пересаживались на пароход, чтобы пересечь весь Селигер, где-то пятьдесят километров, после ехали на лошади двенадцать километров, потом на лодке по озеру Стерж до деревни Сосново. В то время Калининская область была самая бедная. Но для него, горожанина, этот мир казался необыкновенно интересным и впечатляющим по красоте открывающихся перед ним лесных пейзажей с живописными берегами озера Стерж. В деревне жили старики, пожилые люди и девчата. Ребята, отслужив в армии, домой в деревню уже не возвращались. Тяжёлый труд падал на женские плечи. Олег с удовольствием пахал и ездил на лошадях на покосы – косить сено и пшеницу вместе с девушками.
Жили они на возвышенном берегу озера Стерж. Спал он на сеновале. И каждое утро с замиранием сердца открывал дверь, чтобы увидеть волшебную панораму раскинутого перед ним озера с виднеющейся вдали полуразрушенной церквушкой под переменчивым завораживающим небом. Глаза жадно впитывали красоту и величие природы, переводя увиденное на плёнку памяти. Здесь он много писал этюдов маслом, бродя со своим большим этюдником по десять километров по лесам и полям, из деревни в деревню. Делал графические работы на тонированной бумаге, множество набросков. Питался хлебом, картошкой, молоком и окрошкой. А на лодке он любил уплывать к другим берегам озера, чтобы позагорать, поплавать, пособирать грибов и ягод, а главное – уйти с головой в неземную тишину лесов, раствориться в водных просторах озера и писать, писать, писать свои этюды до изнеможения, стараясь забыть про суетливый город и точащие душу проблемы.
– Неужели я это всё видел, мог прикоснуться взглядом, запечатлеть воочию гармонию и совершенство природы? – сказал он вслух. – А как же слепые от рождения? Им сложнее. Мне повезло, это живёт во мне и помогает работать.
Олег включил диктофон и продолжил:
«Работая на заводе Ломоносова, я стал постепенно разочаровываться в своей профессии. Однообразие рисунков раздражало, а глазурь вызывала быструю усталость глаз и потерю зрения. Оно резко упало, и меня положили в Военно-медицинскую академию, где я пролежал полтора месяца. Поставили диагноз: близорукость, пигментная дегенерация сетчатки, прогрессирующее сужение поля зрения. Назначили через каждые три месяца в течение одного месяца делать каждый день по четыре укола, чего я придерживался до конца зрячей жизни. Как только меня выписали, я, ещё работая сдельно на Ломоносовском фарфоровом заводе, стал искать творческую работу, но не сдельную, на окладе.
Мне повезло. В 1962 году я прошёл отбор по художественному заданию (отмывка космического корабля) в студии «Леннаучфильм» и бъл принят на работу в цех мультипликации с месячным испытательным сроком на должность художника-разрисовщика первой категории. Мне казалось, что я попал в иной мир, совершенно не похожий на тот, в котором я работал раньше. В студии царила доброжелательная творческая атмосфера, задачи ставились разнообразные, давая простор художественной фантазии. Работать можно было спокойно, без торопливости, не так, как на заводе, борясь за сдельный заработок. Я с радостью погрузился в освоение новой профессии. Студия в основном выпускала научно-популярные фильмы. Работа была разнообразная. Использовали темперную краску и цветную тушь, пользуясь аэрографом».
«Какой это был счастливый год, год встречи с Валентиной, начала новой семейной жизни, взята ещё одна ступенька к овладению творческой профессией», – размышлял про себя Олег, остановив запись.
Всё началось с праздника Дня песни, который проводился в Ленинграде каждый год в первое воскресенье июня. Закадычный друг Славка Сидоров достал два пригласительных билета на праздничный вечер, проводимый на конфетной фабрике имени Микояна, и стал настойчиво уговаривать Олега туда пойти. Но он последнее время стал избегать всяких знакомств с девушками из-за своей куриной слепоты. Проводить девушку он мог, но как домой возвращаться вслепую?
Слава всё же уговорил, и они пошли на танцы. Так как Олег в школе занимался танцами, то был спокоен за их исполнение, тренировался со своей сестрёнкой дома. Но, начиная с третьего класса, с момента объединения женских школ с мужскими, до двадцати пяти лет, он никак не мог преодолеть сильного стеснения, разговаривая с девушками. Заливался краской по уши, теряя нить разговора.
Фабрика находилась всего за две остановки от общежития. На вечере он встретил много знакомых ребят, и за обсуждением всяких новостей было не до танцев. И тут объявили дамское танго. К нему подошла скромная девушка небольшого роста, на первый взгляд ничего особенного – не красавица, но и не дурнушка. Танцевала она хорошо, понимала движения партнёра, двигалась легко и ритмично, будто они знали друг друга давно и не раз танцевали. Он испытал удовольствие от этого танца. По окончании танца он проводил её на место и вернулся к своим друзьям. Больше он не танцевал. Но когда опять объявили дамский танец, то она вновь подошла к нему и пригласила. Во время танца, преодолевая стеснение, они постепенно разговорились. В результате протанцевали весь вечер вдвоём. Её звали Валентиной. С каждой минутой она ему нравилась всё больше и больше. Он пошёл её провожать до Литовской улицы.
В Ленинграде стояли белые ночи. Судьбоносная встреча с его единственной любимой женщиной, самым близким другом, состоялась под белым небесным покровом, освещавшим им дорогу, чтобы соединить их, как оказалось, на всю жизнь.
С тех пор не было ни одного дня, чтобы они не видели или не слышали друг друга. Валентина работала старшим лаборантом в Институте токсикологии, который находился недалеко от «Леннаучфильма». Оказалось, что она тоже увлекалась искусством, коллекционировала открытки по русскому искусству, а он – по западноевропейскому. На выставках и на просмотрах кинокартин их вкусы совпадали. Особую радость им доставляли путешествия в Гатчину, Павловск, Пушкин. Архитектура, живопись, садово-парковые императорские ансамбли органично вошли в их жизнь, пронизывая отношения особым чувством и одухотворённостью. Белые ночи, искусство и любовь соединили их судьбы.
Олег вспомнил, как мучительно долго он готовился к серьёзному разговору с Валей. Он должен был сказать ей всю правду о себе, открыть ей горькую перспективу своего будущего, чтобы она могла взвесить свои силы, все «за» и «против», для осознанного принятия его предложения руки и сердца. Разговор для него был сложный, ведь решалась не только его судьба. Сколько ему отпущено зрячей жизни – никто не знал. А если наступит такой момент внезапно, может быть, буквально завтра, то какой обузой он станет для любимой женщины? Одно он точно про себя решил: если после откровенной жестокой правды он получит отказ в любой форме, то больше никаких серьёзных и длительных отношений с девушками позволять себе не будет.
Разговор состоялся. После его признания в любви и долгих объяснений об имеющемся неизлечимом заболевании глаз и неотвратимом финале Валентина легко и быстро сказала: «Да!», добавив при этом:
– Я буду с тобой всегда, а наступит этот час – стану твоими глазами.
Даже сейчас, по истечении пятидесяти лет совместной жизни, двадцать два года из которых он живёт в тотальной слепоте, он не может забыть её слов и, вспоминая их, каждый раз мысленно вздрагивает и преклоняется перед силой любви и мужеством той хрупкой девочки Валюши, без промедления разделившей с ним его горькую участь.
Ему захотелось во что бы то ни стало именно сейчас нарисовать черты её лица, всплывшие в его памяти из тех счастливых дней молодости. Планшет четвёртого формата с вложенным в него чистым листом и карандашом был, как всегда, на своём месте.
Методика рисования была освоена им после полной потери зрения в процессе поиска оптимального решения для осязания рисунка пальцами. Добиваясь нажимом карандаша получения контррельефного изображения, он мог проследить чувствительными подушечками пальцев линию углублённого рельефа и воспроизвести полученный образ в воображении.
К этому решению он пришёл не сразу. Сначала просто пытался шутливо рисовать с внучкой собачек, кошечек и разных зверюшек, не представляя, что получалось. Водил, как по воздуху, шариковой ручкой по бумаге. Никакого контакта с полученным рисунком не было. Потом сделал планшет из твёрдой книжной обложки, вырезав на верхней корочке поле отверстием 16x20 сантиметров. Ощупывал пальцами поле, расстояние пальцев, как в ширину, так и в высоту. Закладывал под верх лист чистой бумаги и рисовал более осмысленно. Стало гораздо удобнее в ограниченном пространстве листа компоновать рисунок.
Но невозможно было контролировать точку отсчёта рисунка и образ в целом. Изображение накладывалось одно на другое, просматриваясь с трудом в ажуре нанесённых линий. Продолжал поиски, начав вырезать из бумаги трафареты основных сюжетных образов, накладывать их на чистый лист и обводить, что-то дорисовывая по наитию. Но и этого было недостаточно. Надо было добиться рельефного эффекта, чтобы пальцы чувствовали линию. Только тогда можно было понять, что изображено. Пробовал давить костяной палочкой брайлевскую бумагу, подкладывать резину, но это зеркальное изображение не помогало. Подбирал разные карандаши и бумагу, но безрезультатно. И, наконец, пришёл к верному решению – закладывать в самодельный планшет линолеум или резину, сверху – бумагу и работать простым карандашом только «М» или «М1» с тупой заточкой. Надо было найти оптимальный вариант нажатия карандаша, чтобы не резалась бумага и не ломался графит. Тренируясь, Олег запоминал усилие нажатия, правой рукой проводя линию, а левой, подушечкой пальца, прощупывал след карандаша в заданном пространстве.
Почему такое маленькое поле 16x20 – это для того, чтобы привыкнуть к пространству. Пальцы должны постоянно двигаться по бумаге, чтобы быстрее схватить компоновку рисунка, знать, где начать и где закончить. Потом он перешёл к большему рабочему полю – 17x24 сантиметра. Стало сложнее работать. Тогда он стал делать по утрам две зарядки – физическую и творческую. Каждый день по тридцать минут работал с карандашом. Теперь же свободно владеет форматом А4, в котором чувствует себя вполне уютно. Рисовал на меловой бумаге, на перевёрнутых обоях не только карандашами, толстыми графитами, но и шариковыми ручками. На меловой бумаге сделал два планшета – дорожный 16x18 сантиметров и для дома 20x30. Созданная им методика рисования для слепых позволила ему вернуться к ежедневным зарисовкам, где бы он ни находился – в дороге, в транспорте, в музее, на выставке или дома. Эти наброски хранили его творческие идеи, увиденные в снах образы, помогая ему подняться на другую ступень самосовершенствования.
Олег открыл нижний ящик письменного стола, вытащил планшет, толстый графит и положил перед собой. Он быстро прошёлся кончиками пальцев по поверхности листа, определив внутренним зрением размер планшета. Взял в руки графит и замер. Его неподвижный взор устремился к потолку, будто он увидел там что-то очень важное. И сам он, сидя на стуле, подобрался и вытянулся в струну. Правая рука с графитом заметалась витиеватыми движениями в определённой точке листа и, нажимая на мягкую плоскость листа, быстро понеслась по нему, делая при этом на первый взгляд непонятные узоры. Пальцы левой руки почти одновременно, не отставая от графита, бежали по этой проведённой контррельефной линии, передавая свою осязательную информацию в мозг, так рисунок приобретал конкретные формы, что помогало внутреннему зрению представить полученное изображение. Чтобы не потерять в процессе рисования образ, надо выполнить рисунок от начала до конца, не отрывая рук от бумаги. Стоит поднять графит вверх, оторваться от линии, – сразу терялась связь с образом. Свои молниеносные рисунки без единого отрыва рук от листа бумаги Олег определил ёмкой фразой: «За мыслью вслепую бежит карандаш».
Закончив первый эскиз, Олег быстро вынул его, вложил второй чистый лист в планшет, удерживая в памяти образ. Теперь уже быстрее и увереннее он воспроизвёл его, как ему показалось, ближе к оригиналу. Мысль работала чётко и ясно. За мыслью свободно бежал карандаш, воспроизводя уже точнее то, что он видел внутренним зрением. Так он делал несколько раз. Отпечаток его воображения на бумаге был ему недоступен зрительно, но каким-то непонятным для него образом в определённый момент приходила к нему уверенность, что всё получилось.
Закончив последний эскиз, Олег выдохнул и расслабился. Неожиданно в тишину ворвался резкий телефонный звонок. Он вздрогнул. В отсутствие жены звонки вызывали тревогу, будто в его закрытое молчаливое пространство врывалась иная жизнь, несущая неразрешимые проблемы.
– Ну-ну, спокойно, – сказал себе Олег, вставая со стула. – Жизнь не остановишь, нечего прятать голову в песок.
Сосредоточившись, он повернулся к дверям своей комнаты, вышел из неё и направился к телефону в проходную гостиную.
«Интересно, кто это? Сын сегодня не обещал звонить.
Может быть, лидера мне нашли для пробега?» – думал он, подходя к аппарату. Подняв трубку, Олег услышал звонкий голос Катерины, референта скульптурной секции Союза художников.
– Олег Ефимович, здравствуйте! Спешу сообщить вам, чтобы вы готовились к очередной осенней выставке Союза. Привозите новенькую работу на секцию, готовим экспозицию. Не затягивайте, место надо забивать.
На всё про всё дней десять.
– Катюша, есть, есть у меня новенькое, послезавтра с утра поеду в мастерскую на Петроградскую, а оттуда прямо к вам в Союз с работой. Спасибо, что не забыли про меня. До встречи, – сказал он радостно и положил трубку.
Мысли о выборе работы стали крутиться в голове с удвоенной силой. Религиозная тема не ко времени. Надо приберечь для рождественских дней. Можно выставить портрет друга, Игоря Бузина. Для Дня победы есть задумка, над которой ещё работать и работать. Олег перебрал в голове последние работы и остановился на портрете Владимира Высоцкого. Долго он к нему подбирался. Хотелось подчеркнуть техникой исполнения характер поэта, выполнить его свободными, резкими, рваными пластическими мазками. Найти то выражение, тот наклон головы, которые были узнаваемы для всех и включали бы в себя поэтический накал души барда. Но пока портрет не удавался. Да ещё и постамент поехал.
«Пожалуй, отнесу композиции «Нежность» и «Газовая труба», – подумал он, приняв окончательное решение.
К реалистическим портретам известных личностей он шёл своей непроторенной дорожкой. Придумывал разную методу исполнения, стараясь приблизить образ к оригиналу. Его не пугала кропотливость и трудоёмкость придуманных манипуляций. Многое отвергалось им самим, но он шёл дальше, пытаясь найти ту точку соприкосновения с образом, которая позволяла бы ему осязательно представить в воображении образ в целом, чтобы передать его в материале. Здесь ему приходил на помощь его опыт работы с силуэтами, с рисунком и линогравюрой, требовались только ксерокопии портрета в разных ракурсах и небольшая техническая помощь. Проще было с портретами друзей, которых он мог изучить живьём и представить как скульптуру, запоминая форму головы, улавливая чуткими пальцами неповторимые черты лица каждого.
Многие в Союзе художников удивляются: зачем ему это надо? Достичь схожести с оригиналом, тем более с его внутренней сутью, даже у зрячих скульпторов не всегда получается. А он посмел это делать и упорно идёт этой тропой. Да, не всё выходит так, как хотелось бы. Но с каждой работой, тренируя свой мозг, развивая воображение, концентрируя память, обостряя тактильную чувствительность пальцев рук, он становился ближе к своей мечте.
Олег на подъёме вернулся к своему рабочему столу. Нажав на говорящий будильник, проверил, который час, и решил ещё немного надиктовать воспоминаний, потом попить чаю, послушать в семь вечера короткую радиопередачу «Зримый город», которую вёл его любимый журналист, теперь уже его друг Владимир Дзоциев, и готовиться ко сну.
Включил диктофон и продолжил запись:
«13 августа 1962 года я женился на чудесной девушке Валентине Фёдоровне Павловой. Она переехала ко мне жить в общежитие в двенадцатиметровую комнату, которую мы перегородили, придумав отдельный выход через небольшой тамбур. Так появилось у нас своё гнёздышко, которое мы стали любовно обживать. Медовый месяц мы проводили в деревне Хлопотово Псковской области, где жила бабушка Валентины, в трёх километрах от станции, около речки с тем же названием. Природа Псковской области уступала селигерским местам Калининской, но по-своему была интересной. На Псковщине мы отдыхали не раз. И за эти годы я много выполнил работ в технике акварели, темперы и гуаши, со множеством карандашных зарисовок. От масляных красок я отказался. Помню, как увлёкся росписью больших псковских камней акварелью. Камни на глазах преображались от прозрачной акварели, делались необычными, фантастически привлекательными. Работа жила на природном ландшафте до первого дождя. И в этом была её прелесть.
Мы с Валюшей часто ездили в отпуск в деревню к Валюшиной маме в Псковскую область. Там у неё был большой сад. Однажды меня попросили спилить деревья, затеняющие фруктовые деревья. Ну и закипела работа. В углу сада стояла большая ракита, сплетённая из нескольких стволов. Колючая, раскидистая, высокая. Спилить её полностью, конечно, я не смог. Но она давала большую тень. Я оставил три метра от корней, а остальное спилил. Потом долго смотрел на ствол и думал, что можно было бы из этого сделать. Очень хотел работать с деревом. Из инструментов были – топор да пара острых стамесок. Из верхней части ствола получилась большая голова воина в шлеме. У двух засохших яблонь я также оставил стволы, удобные для развешивания белья. Но на этих макушках я как мог оформил сказочных героев. На старой осине я также спилил верх и вырезал трёхметрового старца. Вот так я впервые прикоснулся к дереву. Я вырезал рога, которые повесили при входе в избу – для одежды. Сделал двухметровую скульптуру фараона, которую поместили в центр большой круглой клумбы.
Меня это настолько увлекло, что я подошёл к этому серьёзнее. Я купил несколько специальных стамесок. Во время отпуска или в выходные дни занимался резьбой. Так появились дома первые две крупные работы – большая деревянная ваза «Израильтянка» и оригинальное сиденье, в котором можно было отдыхать и работать за столом.
К дереву у меня на всю жизнь выработалось особое отношение, как к живой душе. Каждое дерево обладает своими качествами, которые тонко ощущает рука скульптора. Оно может быть податливым и мягким, твёрдым и рассыпчатым, плотным и пластичным. От дерева исходит живое тепло, даже в мебели, не говоря о художественных произведениях, в которых эти качества усиливаются от прикосновения рук и души мастера. Дереву можно и нужно петь гимны, как божеству и источнику жизни…»
Олег остановил запись из-за нахлынувшего на него желания прикоснуться к образу Ксении Петербургской, выполненной им в дереве, которым он внутренне гордился, часто стоя перед ней с внутренней душевной молитвой. Скульптура Ксении Петербургской стояла на открытой полке стенки на уровне руки, чтобы он имел возможность в любое время вести с ней молчаливый диалог, прикасаясь чувствительными пальцами к гладкой фактуре дерева, в котором жил её образ, помогавший ему в самые трудные часы жизни.
День третий
Ночь прошла в кратких минутах забытья и терпеливом ожидании первого слабого щебетанья птиц настенных часов. Проваливаясь много раз в один и тот же сон, он скорее слышал, чем видел там Валентину, ощущая почти физически её присутствие дома. Ему чудилось в полудрёме, будто Валентина орудует на кухне, постукивая посудой, шумя водой из-под крана, открывая и закрывая холодильник. Тепло и запахи живого дома доходили до него почти явственно. Просыпаясь, он старался подольше удержать это ощущение, чтобы продлить его в последующих рваных снах.
Раздались рассветные трели настенных часов. Олег окончательно проснулся и стал решительно собираться на утреннюю пробежку по своей знакомой трассе за домом. Пока народ только просыпается, он пробежит свои три километра, никому не мешая. Потерять спортивную форму легко, а вот войти в неё – проблема. Потом ледяной душ, завтрак и ожидание звонков от сына и от лидера-бегуна, если такой найдётся.
Олег надел лёгкие тренировочные штаны, специальную белую футболку с надписью на груди и на спине: «Незрячий бегун», «Никогда не сдавайся» и «От старости нельзя уйти, от старости можно только убежать». На голову под волосы натянул широкую фирменную повязку. За пояс заткнул небольшую садовую тяпку. Взял специальную трость с тяжёлым стальным шариком на конце, колокольчик, ключи и вышел из квартиры. Закрыв двери, он вызвал лифт, спустился, подошёл к металлической двери парадной, нажал на внутреннюю кнопку, услышал сигнал, толкнул дверь и вышел на улицу.
Свежий прохладный воздух обдал его мощным осенним порывом, вызвав прилив энергии и знакомую стартовую радость от предстоящей тренировки. Ведя белой
тростью вдоль стены дома, он направился в правую сторону. Дойдя до угла, дотронулся до трубы на уровне руки, зафиксировав своё месторасположение. Повернул за угол, прошёл вдоль стены до следующего угла, прямо от него в трёх шагах должен быть закрытый люк. Ощутив его ногами, он пересёк дорогу для автомобилей, держа трость вытянутой параллельно земле. Главное, не споткнуться о поребрики, которых было предостаточно во дворе.
Вступив на свою освоенную трассу около детской площадки, Олег вытащил из-за пояса тяпку, приложил к поребрику и, пятясь назад, стал очищать его от скопившейся сухой листвы. Надо было обеспечить контакт трости с поребриком, вдоль которого пролегала его трасса, иначе его могло занести при беге на детскую площадку, где он спотыкался и падал не раз. Затем он вытащил колокольчик и привязал его к ручке трости для страховочного сигнала. Теперь надо пройти по обозначенной трассе семьдесят пять широких шагов и начинать бег туда и обратно сорок раз, неотрывно держа трость вдоль поребрика, чтобы не сбиться с пути.
Олег начал бег, позванивая колокольчиком, набирая темп и ощущая прилив крови во всём теле. Мышцы разогревались, тело оживало и наполнялось живительной энергией. Движение дарило жизнь. Бегая, он считал количество поворотов, загибая пальцы. По мере движения в необъятном тёмном пространстве он на короткие мгновения забывал про слепоту, сроднившуюся с ним, ставшую для него неизбежной нормой. Ему представлялось, что он бежит в кромешной ночной темноте, заставлявшей напрягать внимание и концентрировать память. Во время бега он испытывал истинное наслаждение, радуясь, как ребёнок, своему отвоёванному счастью. Постепенно город просыпался: заурчали моторы автомобилей, стали слышны редкие отдалённые голоса и плач непроснувшегося малыша, которого, видимо, силком тащили в детский сад.
Отбегав свои три километра, Олег направился домой знакомой «муравьиной» тропой, не отклоняясь от неё. Вдоль проторенной тропы росли особые гигантские тополя, посаженные им ещё в первой зрячей жизни под недоумевающие взгляды и ехидные реплики жильцов дома. Эти тополя мужской особи не цвели пухом, врывающимся белыми хлопьями в квартиры горожан, вызывая раздражение и аллергию. Это и спасло их от распиливания, дав им возможность тянуться всё выше и выше к животворящему солнцу, наблюдая с высоты за суетящимися мелкими людьми.
Олег владел белой тростью в совершенстве, ведь вне стен дома, когда он выходил один на один в меняющийся бурлящий город, она была его единственным другом во мраке, его глазами, передатчиком жизненно важной информации. Трость, соприкасаясь с преградами, могла даже передавать их структуру – камень, дерево, асфальт, стекло или что-то иное, благодаря звуку и вибрации, исходящей от шаровидного наконечника по чуткой трости к руке. Мало кто из проходящих мимо людей знает о свойствах хрупкой белой трости, о её предназначении и значимости для незрячего.
Многие предполагают, что трость нужна слепому для дополнительной физической опоры. Но это не так. Белая трость является глазами слепого. И если кто-то, случайно наткнувшись, с разбега ломает её, то для слепого человека это настоящая трагедия – без трости он как без рук, беззащитен, дезориентирован в пространстве, потерян, унижен и растоптан толпой. А ведь трость выдаётся один раз в четыре года. В случае утери или поломки – надо покупать самому, а стоит хорошая белая трость немалых денег. Трость также надо менять в зависимости от сезона – летнюю на зимнюю, как колёса автомобилей. Белая трость видна днём, тогда и сигнал для перехода водитель заметит. А вечером, в сумерки или ночью белую трость никто не видит.
Олег часто задумывался о том, как можно было бы решить эту проблему малыми средствами. Ну, к примеру, установить свет к трости: не меняя конструкции, дополнить её батарейкой, вставив её в верхнюю часть ручки под снимающуюся крышку. От батарейки протянуть проводок через полость трубки к концу трости, к сменной головке из небьющегося оргстекла, в которой можно было бы закрепить лампочку. Летом можно снимать, оставляя металлическую головку, а зимой устанавливать новую из оргстекла. Хорошо бы иметь включатель-выключатель на ручке. Можно сделать мигающий свет, что более эффективно. Ещё проще – можно применить светодиодную раскраску трости, как знаки на фирменной одежде дорожных рабочих, чтобы светилась в темноте. Для этого нужна только голова и сердце…
Однажды вечером он попытался перейти дорогу со стоящими в несколько рядов автомобилями по звуковому сигналу зелёного светофора. Только он стал поднимать трость в горизонтальное положение, как этого требуют действующие правила для водителей и незрячих пешеходов, – трость с хрустом надломилась, попав под переднее колесо автомобиля, решившего проскочить вперёд. Он мгновенно дёрнул трость к себе, чем спас её от второго колеса. Трубчатая белая трость была сломана пополам. Ему ничего не оставалось, как отойти от обочины тротуара, прижаться к стене дома, чтобы понять, как дальше продвигаться к дому. К счастью, ему пришла в голову блестящая мысль: в полость одной половины трубчатой трости вставить вторую, отломанную, используя конусообразную форму трости.
Главное – в момент неожиданных ситуаций не растеряться, не потерять правильную ориентацию, понять, где ты находишься, где стоишь, в какую сторону продолжать движение, что впереди и что позади тебя. Всё обошлось. Он дошёл до дома сам и был рад, что преодолел очередную трудность.
Но самая большая удача была в изобретении трости
для бега незрячего человека, придуманной им самим. При беге чуткая белая трость от соприкосновения с поребриком и дорогой сильно вибрировала и скакала, теряя при этом упор и точное направление бега. Из-за этого он не раз убегал в другую сторону, спотыкаясь и падая от неожиданных препятствий. Тогда ему в голову пришла блестящая мысль – соорудить из лыжных палок весомую трость. Он заказал два монолитных шарика диаметром с пятикопеечную монету из титана, закрепил их к концу палок, отрезал от них ненужные кругляшки – и трости готовы. С такой тростью он уже не сбивался с пути. Правда, возникла другая проблема: при беге вперёд люди его видели и уступали дорогу, а при беге назад тот, кто шёл впереди, его не видел, и он не раз набегал на людей, пугая их. Вот тогда и родилась идея привязать к ручке колокольчик для оповещения. А затем они с Валентиной заказали спортивную футболку с надписями о незрячем бегуне. Прохожие к нему привыкли, некоторые приветствуют при встрече, желая здоровья.
Вернувшись домой после пробега, Олег принял ледяной душ, растёрся полотенцем и аккуратно повесил спортивные вещи на верёвку в ванной, в которой был идеальный порядок, придающий ему чувство независимости и уверенности. Теперь – крепкого чайку с лимоном, нарезанным заботливыми руками Валюши, посыпанным песочком и уложенным в баночку. Можно сварить пару яиц вкрутую, хлеб, сыр, колбаска – всё есть. Он, сам не зная почему, постоянно общался вслух с Валей, будто она была рядом с ним.
– Валюта, давай я за тобой поухаживаю, – говорил Олег, ставя чайник на плиту и кружку на стол. – Сегодня будем пить чаёк покрепче, чтобы мысль работала яснее. Ничего, ничего, цвет лица не испортишь. Ты для меня всегда молодой остаёшься, как тогда, в белые ночи. Тебе с лимоном? Ну и мне тоже. А вот нарезка с сыром, докторская колбаска. Сейчас я найду, где сливочное масло в холодильнике, поставлю на стол и сделаю тебе бутерброды. Давай попьём сегодня зелёный чай. Извини, если перепутаю и возьму не тот пакетик. Нюхать бесполезно, чай в пакетах без запаха. А я два положу из разных коробочек. Не возражаешь?
Разговаривая, Олег накрывал на стол, аккуратно наливал кипяток в кружку, варил яйца на плите, делал бутерброды, ориентируясь всё лучше и лучше на кухне. Чаепитие получилось отменное. Затем он перешёл в свою комнату, сел за рабочий стол и решительно продолжил свои воспоминания, включив запись на диктофоне:
«23 февраля 1965 года у нас родился сын, которого мы назвали Вадиком. Исполнилось моё желание. Я очень хотел иметь сына. В семье прибавилось забот, и возникли проблемы материального плана. Заработки были нестабильные: иногда хорошие, а порой ниже желаемого. Всё зависело от того, к какому режиссёру попадёшь в бригаду. Из-за этой нестабильности и сдельной работы я уволился.
А в это время на Ленинградском телевидении разворачивались работы на студии мультипликационного участка. Освободилось одно место художника-мультипликатора, и меня туда взяли. Поначалу группа была маленькая: один оператор, один шрифтовик, два художника-мультипликатора. Оклад у меня был 120 рублей. Сначала работы было немного. Технические возможности на уровне кинолюбителей. Но постепенно мультицех оснащался современным оборудованием, появились новые художники и операторы. Работа была интересная, приходилось делать всё самостоятельно от начала до конца, так как не было специальных режиссёров-мультипликаторов, как на «Леннаучфильме». Занимался разработкой сценария, писал съёмочный паспорт для оператора. Некоторые работы снимал самостоятельно. В основном мы делали мультзаставки к цикловым, музыкальным, учебным, театральным и другим передачам. Эти короткие заставки были в пределах от одной до пяти минут, не более.
После рождения Вадика Валюта перешла работать в Институт гриппа, который находился рядом со студией. Мы ходили иногда вместе обедать и часто возвращались домой вдвоём. Нам стало тесновато жить в узкой 12-метровой комнате. К счастью, в городе стали переселять семьи в новые квартиры, и мы решили съехаться с мамой и сестрой в одну трёхкомнатную квартиру-распашонку на проспекте Науки, где шло крупное строительство жилых домов. Всё свободное время я старался проводить с сыном.
Когда Вадику исполнилось пять лет, мы два лета подряд ездили в Молдавию. Жили в Бендерах, в Парканах, ездили на пароходе на Каролину-Бугаз к Чёрному морю. Путешествовали «дикарями». Я делал много акварелей, нигде не расставаясь с этюдником. Дважды были в Томске у отца Валюши. Сибирь оставила неизгладимое впечатление благодаря своей природе, ярким краскам, прозрачности воздуха и таёжным лесам. По сравнению с псковским и калининским, этот период жизни оказался самым плодотворным…»
Через несколько секунд диктофон щёлкнул и остановился.
«Первая дорожка закончилась», – понял Олег и, перемотав плёнку немного назад, включил её. Услышав последнюю фразу, добавил: «Конец первой дорожки первой кассеты». Затем выключил диктофон и погрузился в себя, вороша память, как слетевшую золотую листву своего Древа Жизни.
И всё же, что бы он ни делал, куда бы ни ходил, мысль о внезапной потере зрения жила в нём постоянно, заполняя всё его существо какой-то нереальной ностальгией по краскам жизни, ещё вовсе не потерянным, но уже отдающим болезненной острой тоской, которая внезапно ошпаривала его с ног до головы или обдавала холодной испариной. Он верил и не верил одновременно в то, что, по словам опытного врача, ждало его впереди. Короткого душевного покоя он мог достичь только тогда, когда с увлечением погружался в своё творчество. Подсознательно он торопил момент наступления этого состояния, искал его, а погрузившись в него, старался продлить его как можно дольше. Каждый зрячий день своей жизни он принимал как последний и пытался прожить его не впустую. Иногда он закрывал глаза, чтобы представить: а как это – жить в полной темноте? Становилось страшно. Он гнал от себя эту, как он надеялся, бредовую мысль. Ну, не может быть такого, чтобы в наше время дать человеку спокойно ослепнуть! Есть же хирургия, лекарства и вообще чудо на свете? Да, тогда он еще мог взвешивать все «за» и «против» и на что-то надеяться, так как он видел солнце, своего сына, жену, ходил на работу и был востребован жизнью.
Однажды в журнале «Наука и жизнь» он прочитал статью о том, что в знаменитой одесской клинике глазных болезней имени Филатова стали впервые проводить лечение больных с подобным диагнозом. На крыльях надежды они с мамой отправились в Одессу. Мама была на пенсии, а он взял отпуск. Больница находилась на берегу Чёрного моря. Они сняли комнату недалеко от больницы, и Олег стал проходить амбулаторное лечение. Одесса и Чёрное море потрясли их. Ведь они с мамой были там впервые. Весь день, кроме часов лечения, они проводили на берегу моря, отдаваясь во власть ослепляющего солнца и тёплых морских волн. Он как мальчишка бегал по морскому побережью в поисках диковинных ракушек, из которых с упоением резал причудливые фигурки, чтобы подарить соседям и хозяевам комнаты. Катались на пароходе, осматривали город, спускались в катакомбы и просто путешествовали пешком, куда ноги несли. Время лечения пролетело молниеносно. Результат: поле зрения не изменилось, но видеть он стал лучше на две строчки. Рекомендовали продолжать тот же курс лечения постоянно дома и приехать в Одессу через шесть месяцев на повторный курс.
В следующее лето Олег уже приехал с Валентиной и Вадиком, остановившись у прежних хозяев. Для семьи это было счастливое время пребывания на Чёрном море. Олег радовался за них, понимая их восторженное состояние, в котором сам когда-то пребывал. В этот раз его положили в стационар и тщательно обследовали. Результат был удручающий: близорукость вернулась в прежние рамки, будто бы и не было улучшения полгода назад. Более того, впервые ко всем выявленным болезням глаз в заключительной справке была указана ещё одна – «синдром Ушера». Что это за коварное заболевание, Олег не понял, так как ему не удосужились объяснить. В беседе лечащий врач дал ему понять нецелесообразность прохождения курсов лечения в Одессе. Вот так, в полном неведении, с мыслью о бесполезности проведения каких-либо лечебных мероприятий, они уехали домой в Ленинград. Кто его знает, может быть, надо было приезжать на лечение в Одессу каждые полгода? Но для семьи это было бы разорительно, а с работы никто бы его не отпустил в отпуск два раза в году, просто уволили бы, и всё.
Домашние дела развивались по своему сценарию. Сестра вышла замуж, родила дочь и развелась с мужем.
Двум семьям некомфортно стало жить под одной крышей. Пришлось разъехаться. Олег с Валентиной и сыном переехал в маленькую кооперативную квартиру рядом с Пискарёвским лесопарком. Сестра с дочкой и мамой получили большую муниципальную однокомнатную квартиру. Вадик пошёл в школу. Увлёкся шахматами, ходил в бассейн, много читал и рисовал, наблюдая, как это делает отец и посещая с ним выставки в Союзе художников. Он оформлял школьные стенгазеты и недурно рисовал карикатуры и дружеские шаржи. В результате у него выработался неплохой вкус. На старости лет, пережив тяжёлый развод, мать и отец Олега неожиданно для всех вновь соединились и стали проживать отдельно от детей в деревянном доме недалеко от Пискарёвки. Олег со своей семьёй часто приезжал к ним, чтобы помочь, чем мог, и отдохнуть.
На работе дела шли своим чередом: коллектив пополнялся художниками-мультипликаторами, в том числе Светланой Исаковой – интересным художником, великолепным акварелистом, настоящим другом, с которым он работал ещё на студии «Леннаучфильм». Дружба с ней по сей день принесла ему много полезного в творческом плане. К тому времени он имел первую категорию художника-мультипликатора. Работал коллектив с большим интересом и творческим накалом, помогая друг другу.
Время равнодушно отсчитывало свои часы, пожирая медленно и верно его зрение, которое, как шагреневая кожа, сжималось с каждой секундой в его всесильных руках. Как остановить этот стучащий в голове блокадный метроном, разбить сужающееся кольцо мрака вокруг глаз, извлечь из себя этот гнетущий страх, – он не знал, предощущая себя среди людей в недалёком будущем потенциальным изгоем.
Воспоминания высвечивали целые пласты жизни. Годы укладывались в короткие ёмкие фразы, понятные ему одному. Олег сомневался – сможет ли он в своих лаконичных сухих записях передать это состояние? И нужно ли это делать? Для кого? Но слово, данное Валентине, да, впрочем, и любому человеку, для него было превыше всего. Чувство долга было основной движущей силой его жизни. Не считаясь ни с чем, он трудился сутками, брался за любые «халтуры», в тяжёлые времена стал делать на продажу чеканки, одну из которых он подарил библиотеке для слепых в ДК имени Шелгунова, где она заняла почётное место.
Он понимал, что зрение «сгорает» от перенапряжения, но жить иначе не мог. В то время его поле зрения составляло двадцать пять градусов, очки он использовал плюс три диоптрии. В дневное время он чувствовал себя увереннее, а вечером из дома один уже не мог выходить. Он начал приспосабливаться к наступившим изменениям так, чтобы не быть обузой для родных и друзей. В сумерках стал ходить медленнее и внимательнее, приглядываясь к спинам прохожих, чтобы выбрать впереди себя идущего человека, одетого во что-нибудь светлое или белое, стараясь идти за ним следом, не отставая. А если он сворачивал в сторону, то быстро выбирал другое светлое пятно впереди себя. И таким образом добирался до дома. Если посмотреть на это со стороны, то можно принять его за странного преследователя или частного детектива, непрофессионально следящего за своим объектом. Он, как в спорте, выбирал себе лидера-пешехода, с которым был связан не верёвочной петлёй, а белым спасительным цветом одежды и короткой неуправляемой дистанцией.
Внезапно в вечернее время при передвижении у него появились какие-то новые ощущения. Проходя мимо стены, дерева, даже небольшого узкого ствола, он чувствовал, что у него сжимается перепонка уха, появлялось ощущение давления от какого-то препятствия, которого он не видел, но явственно чувствовал. И это существенно помогало ему в передвижении. Но почти одновременно с этим появились первые признаки понижения слуха. Институт уха, горла, носа поставил диагноз – невроз слухового нерва, или тугоухость, которая не подлежит лечению. Врач института, рассматривая его медицинские документы, удивлённо расспрашивал о «синдроме Ушера». Но если врач института не мог знать о такой болезни, то что же мог сказать ему он? Правда, через несколько дней ему разъяснили, что «синдром Ушера» является редким и неизлечимым заболеванием. Человек полностью теряет зрение и слух, но болезнь также может отрицательно влиять на вестибулярный аппарат и речь. У всех это происходит по-разному: дети могут родиться полностью слепыми или слепыми и глухими сразу; кто-то постепенно теряет зрение, потом слух, или наоборот. Болезнь мало изучена, только в настоящее время приступили к её изучению.
Олег, очнувшись, вынырнул из своих воспоминаний, вытащил кассету из диктофона, перевернул, нажал на кнопку «Запись» и произнёс: «Вторая дорожка первой кассеты». Через несколько секунд продолжил:
«В 1975 году я стал инвалидом третьей группы по зрению с правом работы по профессии. С таким узким полем зрения я ещё мог работать мультипликатором в определённом кадре – 2x4, 3x3 сантиметра, не более. В справке было написано: «Может работать с уменьшенным объёмом работы, исключая вечерние часы, по усмотрению администрации». Я мог потерять пятьдесят процентов своей зарплаты. Надо отдать должное администрации и коллективу телевидения, особо начальнику мультицеха Борису Дмитриевичу Курбатову, который разрешил мне работать дома с полной нагрузкой без потери зарплаты. На работе я появлялся только в дневные часы, чтобы сдать, принять работу, провести всевозможные консультации, смотры, съёмки. Зарплата осталась прежняя, пока я справлялся со всем объёмом работы.
Сейчас я с большой радостью вспоминаю весь свой 25-летний творческий путь на телевидении, где меня окружали интересные доброжелательные люди, имевшие художественное образование – среднее, высшее или то и другое вместе. А мне так этого не хватало! Я до сих пор, даже находясь в тотальной слепоте, сожалею, что не смог получить эту профессиональную подготовку. Поэтому мне приходилось изо всех сил доказывать всем и себе самому, что я имею право работать на уровне с моими коллегами, не отказываясь ни от какой работы. Всё делал качественно и в срок.
Ни одна передача не была сорвана по моей вине, мои работы были не раз отмечены как лучшие. Я постоянно самообразовывался, подтверждая свой уровень, работая наравне со всеми.
Шли годы. Вадику исполнилось одиннадцать лет. И я решил приобщить его к серьёзным спортивным нагрузкам, включая утренние физзарядки. На лыжах зимой мы семьёй катались постоянно в Пискарёвском лесопарке. И вот, сделав утреннюю физзарядку, мы в один из дней пошли с сыном в лесопарк на первую пробежку. После этой пробежки я еле-еле приковылял домой, совершенно разбитый и расстроенный. Мне было тогда только 39 лет, а я уже не мог взять короткую дистанцию и пробежать с сыном на уровне. Решение пришло молниеносно – не сдаваться, взяться за тренировки, изменить образ и ритм жизни во имя физического здоровья, без которого, как я понимал, мне не выжить в будущем.
На следующий день я пошёл в библиотеку, набрал кучу литературы, проштудировал её дома, сделал записи, выписал дополнительно журналы и стал вести спортивный дневник, фиксируя нарастающие нагрузки и достижения до настоящего времени. Я забыл о простудных заболеваниях, убрал лишний вес и избавился от лени. Свою жизнь я стал представлять каким-то поединком на ринге. С одной стороны – наступающая зловещая слепота, с другой – крепость духа, упругость мышц и лёгкость на любых дистанциях.
После года совместных тренировок с Вадиком сын поступил в высшую школу спортивного мастерства имени Алексеева. Бегал он на средние дистанции, лето проводил в спортивных лагерях, ездил на сборы в Карпаты, откуда присылал домой открытки с письмами, в которых рисовал интересные картинки цветными шариковыми ручками. Но после 8-го класса он отказался идти в специальную спортивную школу. Вадим выбрал морское ПТУ. Но наши занятия не прошли даром. В армии он совершал марш-бросок легко, с запасом физических сил, в отличие от ребят, которые валились от усталости на землю. Сын часто писал нам и благодарил меня за физическую подготовку, без которой солдату очень трудно.
А я продолжал свой бег и тренировки, но уже один. К приходу сына из армии я со своим другом по бегу Геннадием Сидоровым уже бежал классический марафон. С Геннадием, военным врачом, я познакомился ещё в 1984 году в спортивном клубе «Спартак», возглавляемом Олегом Юлиановичем Лосем. Именно тогда мы задумали с ним подготовиться к настоящему марафонскому пробегу длиною в сорок два километра сто девяносто пять метров, что и выполнили через два года, пробежав вдвоём Сестрорецкий марафон с небольшим разрывом во времени в мою пользу.
Сын готовился поступать в институт. А мое зрение становилось всё хуже и хуже. Я узнал об открытии лаборатории по изучению пигмента дегенерации сетчатки при Московском институте глазных болезней имени Гельмгольца. Дважды ездил в Москву в институт, но результат был нулевым. Впервые в Москве посетил Третьяковскую галерею и Музей изобразительных искусств имени Пушкина…»
Раздался телефонный звонок. Олег остановил запись и заторопился к телефону.
– Наконец-то, – произнёс он. – Должно быть всё хорошо, сердце подсказывает. Сейчас, сейчас, Вадик, дорогой, иду уже, потерпи… Алло, Вадик, я слушаю! Ты из больницы?.. Кто это?.. Плохо слышу. Говорите громче. Да, да, сейчас хорошо… Не может быть, это здорово!
Я ждал. На средние дистанции меня устраивает. Могу заплатить… Я не хотел вас обидеть, что вы! Нет, нет, всё отлично, всё хорошо, буду ждать вашего звонка. Я сам доеду до Технологической, всё возьму с собой. Забег через три дня – знаю. Спасибо, ничего не надо. Надеюсь. Договорились, ровно в десять у метро на выходе. Время ещё есть. Запомнил. Спасибо. До встречи.
«Ну вот, проблема с лидером разрешена, скорее бы сын позвонил. Дай Бог дожить до забега, обнять Валюту и с лёгким сердцем на трассу», – подумал Олег, открывая дверь балкона.
Ему захотелось вдохнуть полной грудью свежего воздуха, почувствовать порывы ветра в предвкушении долгожданного очередного забега. Он уже видел себя бегущим за лидером в общей спортивной колонне, слыша отдалённые голоса, шум автомобилей, выкрики случайных зрителей и организаторов. Каждый раз в забегах он ощущал небывалое чувство единения с людьми, все были объяты одной целью, двигались в одну сторону, даже дышали как-то в унисон. Пропадало острое чувство одиночества, какой-то отверженности, отстранённости от той первой жизни, которую он потерял из-за слепоты.
Бодрящий осенний ветер срывал с деревьев последние сухие листья и разбрасывал их щедрой рукой куда придётся. Олег почувствовал на лице прикосновение листа, схватил его в руки, прошёлся по нему пальцами и определил, что это его любимый кленовый лист. Он приложил его к губам, вдыхая пряный запах шальной свободы. Как он любил лес и тосковал по нему! Только там, в лесной тишине, он мог полностью погрузиться в себя, отключиться от ненужных мыслей, дать голове покой, а душе – умиротворение. Ощупывая прилетевший к нему листочек, он пытался угадать, какого он цвета и оттенка. Сказочная палитра осенних листьев жила в нём зелёной, жёлтой, красной, бурой красками. Ему казалось, что листочек слишком тонок, значит, в нём застыли зеленовато-жёлтые цвета с красными вкраплениями. Бурые листья почему-то толще, плотнее. Может быть, это из-за внезапных ночных заморозков? Как жаль, нет Валюши рядом, а то бы они сейчас поспорили. Только в самом конце она бы ему сказала, какого цвета этот листочек.
Взяв с собой кленовый лист, Олег ушёл с балкона.
Неожиданно он вспомнил свои рабочие флаконы с цветной тушью на столе в мультицехе. Последнее время, до полной потери зрения, он заметил, что стал путать цвета синий с зелёным, красный с коричневым и другие. Пришлось все флаконы с тушью подписывать. А тут ещё и катаракта стала созревать, размывая очертания предметов. Даже днём стало проблематично добираться до работы и обратно домой. Солнце стало резко раздражать и слепить глаза.
Тающее с каждой минутой зрение заставляло его ускорять темп жизни. Он старался не терять ни одной минуты впустую. Занимался спортом, рисовал, писал, ходил по городу в поисках новых впечатлений, цепляясь уплывающим зрением за городские пейзажи, лица прохожих, за сады и парки, за поющих и чирикающих птиц, за изменчивое волнующее петербургское небо, за всё, что давало импульс творчества, а значит – жизнь.
Такие путешествия с остаточным зрением таили в себе определённые опасности. Три раза он попадал в открытый люк. Если в первых двух случаях всё обошлось благополучно, то в третьем он боролся за жизнь из последних сил. Это было на тихой малолюдной улице уже в наступающих сумерках. Падая, он инстинктивно схватился за край люка и повис. Под ногами почувствовал воду, но достать дна ногами не мог. Судорожно держась онемевшими руками за люк, он постарался успокоиться, чтобы понять, что делать дальше. Кричать и звать на помощь было бесполезно. Над головой стояла мёртвая тишина. Под ногами была чёрная пропасть. Долго так висеть на слабеющих руках он бы не смог.
Собрав все силы, он попытался подтянуться, но сделать это ему не удалось. Более того, он сразу почувствовал острую боль где-то слева под грудной клеткой и услышал глухое хлюпанье внутри себя. Стало не хватать воздуха. Видимо, падая, он нанёс себе травму, что осложняло ситуацию. Силы быстро убывали. И он понял, что у него остался последний шанс выбраться из западни.
Он собрал в кулак всю свою волю, остатки сил и с диким глухим рычанием поднял своё ноющее тело вверх, судорожно перебирая ногами по шершавой круглой стене. Оперевшись на локти, он повалился набок, вытащил ноги и откатился в сторону. Частое тяжёлое дыхание сопровождалось усиливающимся хлюпаньем. Острая боль в левом боку давала о себе знать, усиливаясь при движении. Дышать становилось всё тяжелее. Понял, что случилось что-то с рёбрами и лёгкими.
Всё же сумел доехать до травматологического пункта, а когда вошёл туда, то потерял сознание. Придя в себя, узнал, что у него сломаны все рёбра на левой стороне грудной клетки. По «скорой» его сразу увезли в больницу, где он постарался быстрее встать на ноги, несмотря на боль. После небольшого улучшения он сразу же стал передвигаться по больничному коридору. Выйдя из больницы, он уже через месяц ходил с Валентиной по два-три километра, а потом приступил к бегу. Рёбра болели целый год. И всё же он вышел на работу, где ему становилось всё тяжелее и тяжелее.
Как он ни старался скрывать свои проблемы со зрением от друзей и коллег, держать марку полноценного здорового человека, быть независимым, он всё же попал в ту ситуацию, которой избегал и боялся пуще всего. Однажды в их мультицех под конец рабочего дня пришло руководство с каким-то сообщением. После спонтанного собрания всех отпустили домой. Олег мог видеть и рисовать на маленьком формате своего рабочего поля при направленном свете яркой лампы, но, вставая из-за стола, в полумраке помещения действовал по наитию и памяти. А тут, как назло, разволновался из-за присутствия начальства. Поначалу он не мог понять, почему вдруг наступила такая мёртвая тишина в комнате. Потом дошло, что он на глазах у всех тыкался, как слепой котёнок, вдоль стен помещения, в котором проработал двадцать пять лет, в надежде найти, наконец, дверь, чтобы выйти. Это был шоковый момент для окружающих, которые воочию убедились в его тяжёлом недуге, неожиданно прозрев и поняв, в каком состоянии он работает наравне со всеми и как ему тяжело даётся то, о чём они просто не задумываются. Олег кожей почувствовал острые стрелы жалости, идущие от людей, и какую-то обречённость в предчувствии конца своей любимой творческой работы.
«Я же знал, что всё этим кончится. Всё надеялся на чудо. Нет, это был не позор, коллеги сочувствовали от души. И начальство можно понять – они не имели права держать инвалида на такой работе», – думал Олег.
Потом включил диктофон и продолжил:
«И вот я опять в больнице. Мне дали вторую группу инвалидности по зрению без права работы по профессии. Со второй группой от меня ушло ощущение препятствия, которое помогало в ориентации. В январе 1990 года была поставлена точка. Я перестал быть художником, потерял любимую работу навсегда. Последний раз прошёлся по студии, прощаясь с сослуживцами и друзьями. Двадцать пять счастливых незабываемых лет, казалось, пронеслись как один день. И всё куда-то кануло в один миг. Печаль разъедала мою душу. Я прощался не только со студией, ной с той первой жизнью, которую уже не вернуть. Я это знал, готовясь к худшему.
В этот период я спасался бегом, который помогал и помогает мне преодолевать все горести жизни по настоящий момент. А зимой мы с Валюшей ездили на лыжах пять-восемь километров в Сосновке рядом с домом. Делалось это так – она вешала маленький приёмник за спину, который постоянно работал (радио «Маяк»), и этот сигнал мне позволял сохранять расстояние, чтоб не наехать, или вела счёт (раз, два, три, четыре).