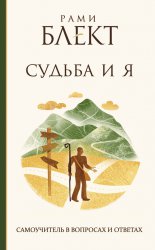Война: Журналист. Рота. Если кто меня слышит (сборник) Подопригора Борис

© А. Константинов, 2007, 2013
© Б. Подопригора, 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2014
* * *
Андрей Константинов
Журналист
От автора
Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, – живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.
Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, – художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней, – авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями – случайны, а расхождения – наоборот, закономерны.
На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу.
Пролог
Октябрь 1990 года
Рейс Аэрофлота Москва – Триполи
– …Палестинец, хочешь воды? Палестинец! Ты что, спишь? Выпей воды, она вкусная… Тебе бесплатно налью.
Маленький грязный мальчишка с пластиковой пятилитровой канистрой в руке с любопытством смотрел на Андрея. Обнорский огляделся – кроме него и уличного разносчика воды, на крошечном пятачке у Нади Дуббат[1] не было ни души. Солнце, ветер с песком, мрачная пустая улица, вспыхивающая тысячами отблесков от стреляных автоматных гильз, и внимательные черные глаза мальчишки… Аден… Господи, неужели опять Аден?! Это ведь все уже было однажды…
Обнорский с трудом оторвал голову от нагретой белой стены, привалившись к которой он полусидел-полулежал:
– Где я?
Мальчишка, будто не слыша вопроса, продолжал тянуть свое:
– Выпей воды, палестинец, она сладкая, мой дедушка привозит ее из волшебного источника Бир аль-Айюн[2], тайну пути к которому знает он один. Выпей воды, палестинец.
– Я не палестинец… Я русский офицер… Помоги мне встать, мальчик.
Ощущение опасности вдруг затопило Обнорского, он потянулся рукой к лежавшему рядом в нагретой солнцем пыли автомату, но чья-то нога в щегольском высоком офицерском ботинке наступила на ствол…
Андрей поднял глаза – мальчишка исчез, вместо него перед Обнорским стоял майор Мансур, улыбался недобро, сминая в острые морщины коричневую кожу на своем волчьем черепе:
– Товарищ Андрей… Как поживаешь? Здорова ли твоя семья?
Ласково-вежливый тон Мансура плохо вязался с уставившимся Обнорскому в лицо черным зрачком пистолета. Андрей чувствовал, как его тело, закрытое от солнца зеленой палестинской формой, начинает обволакивать липкая испарина страха.
– Ты удивляешь меня, переводчик. Сначала ты казался мне умнее. Зачем ты вмешиваешься в чужие дела? Абду Салих погиб от несчастного случая и собственной неосторожности – зачем ты хочешь оскорбить память покойного подлым подозрением его друзей? Почему ты надел форму палестинского офицера? Может быть, ты не тот, за кого себя выдаешь? У нас не любят шпионов…
«Сейчас выстрелит, сейчас…» Обнорский, задыхаясь от слабости и ужаса, на мгновение прикрыл глаза, но через секунду сделал над собой усилие и разлепил веки. Мансур исчез. Вместо него на пустой улице стоял Кука – точно такая же, как у Андрея, палестинская форма красиво облегала его худощавую фигуру. В правой руке Кука держал пистолет:
– Извини, братишка, – служба. – Кука улыбнулся и выстрелил Обнорскому в голову.
Время замедлилось, исчезли звуки. Андрей видел, как медленно и бесшумно выкручивается из ствола тупая пуля, как плывет она к его голове… Вспышка, боль, чернота, снова вспышка, снова чернота… Потом под веками в черном киселе начали плавать оранжевые, малиновые и зеленые шары, которые, сталкиваясь, взрывались холодными разноцветными искрами. Откуда-то пришел голос. Знакомый голос. Кто говорит?
– Не прикидывайся, ты меня узнал. У нас мало времени, слушай внимательно…
Да, конечно, Андрей его узнал. На пластиковом стуле у его кровати в госпитале министерства обороны НДРЙ[3] сидел резидент ГРУ полковник Грицалюк собственной персоной и по своему обыкновению что-то быстро жевал, не переставая говорить. Слова его журчали и сливались в какой-то гипнотизирующий рокот, до сознания Обнорского докатывались лишь обрывки фраз:
– …Проявить благоразумие… сложная стрессовая ситуация… неправильные выводы и неадекватная реакция… серьезное ранение, стресс и потеря крови… отсутствие свидетелей… внебюджетное финансирование…
Грицалюк душил Андрея своим журчащим рокотом. Обнорский, задыхаясь, хватал ртом воздух, как вытащенная из воды рыба.
– …ненужная драматизация… лишние проблемы… отсутствие выбора… просто забыть… должен согласиться…
«Должен согласиться? Ни за что! Сволочи!!!»
– Согласен… – хрипит Обнорский пересохшим горлом. – Дайте воды…
Грицалюк вскакивает и подбегает к двери в палату:
– Пропустите к нему водоноса!
…Снова черные глаза мальчишки напротив.
– Дай воды, мальчик…
Мальчишка покачал головой и начал выливать воду из канистры на пол:
– Ты не палестинец…
Госпитальная палата исчезла, осталось лишь ощущение обиды и чувство стыда… Пить… Как хочется пить…
…Свежая, еще не обустроенная могила на Домодедовском кладбище – на самом краю Москвы. Кто здесь похоронен? С фотографии, закрепленной на могильном холме, смотрит Илья. Это его могила. Но почему же тогда он стоит рядом с могилой и смотрит Обнорскому в глаза?
– Илюха… Ты что, живой?
Илья улыбается и качает головой.
– Илья… я обещаю тебе… – Обнорский говорит запинаясь, еле выдавливая из себя слова.
Илья предостерегающе вскидывает руку:
– Запомни, Андрюха, ты мне ничего не должен…
Обнорский задыхается от жажды, язык царапает гортань, слова обдирают горло наждачной бумагой:
– Ты спас мне жизнь тогда, в восемьдесят пятом…
Илья качает головой и улыбается.
– Илья, зачем ты ушел? Зачем ты это сделал? Зачем?
Илья снова качает головой, но на этот раз уже без улыбки:
– Все было не так. Ты же сам уже это знаешь. Ты не забыл, что я никогда не пил пива с креветками? Вспомни… И я сейчас все тебе расскажу…
Илья вдруг двинулся к Обнорскому прямо через холм собственной могилы.
– Стой! Не подходи, Илья! Не дотрагивайся до меня!
Илья остановился, посмотрел на Андрея с удивлением и улыбнулся:
– Ты что, Палестинец, до сих пор мертвых боишься? Не бойся…
– Не подходи!!! – беззвучным ртом кричит Обнорский.
…Кладбище исчезает… Темнота… Редкие оранжевые вспышки… Ровный, спокойный механический гул… Жажда… Горло словно забито песком… Пить…
– Эй, браток… Браток, ты в норме? – Андрея тряс за плечо сосед, представившийся при посадке Витей – летчиком из Джофры.
Витя, как и Обнорский, отмотал уже в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии два года и сейчас возвращался из отпуска, проведенного в Союзе, на последний, решающий виток. Больше трех лет подряд советские офицеры в Ливии находиться не имели права – исключения, конечно, бывали, но Десятое Главное управление Генштаба шло на них с большой неохотой – невидимая очередь из офицеров, желающих заработать за границей, растягивалась на многие годы…
– Ты в порядке? – Летчик Витя участливо заглядывал Обнорскому в глаза. – Приснилось что-то?
Андрей огляделся: салон «Ту-154» был заполнен чуть больше чем наполовину. Из Москвы вылетали рано, поэтому пассажиры в основном спали, отходя от традиционных русских проводов, – да еще в страну с сухим законом. Несмотря на хорошо работавшую вентиляцию, салон самолета был полностью напоен непередаваемым букетом самых разнообразных перегаров.
– Приснилось, – ответил соседу Андрей. – Я кричал что-нибудь?
– Кричать не кричал, а стонал очень жалобно, – ухмыльнулся Витя. – Что, не хочется обратно в Джамахирийку?
– Не хочется, – честно ответил Обнорский. – Совсем.
Летчик вздохнул:
– Да кому охота… Платили б дома по-людски, кто бы туда поехал… Ты-то хоть в Триполи сидишь: какой-никакой, а все же город. А у нас в Джофре – каждый день одно и то же кино и все про пустыню эту сраную… Я своего инженера неделей раньше туда из отпуска провожал – так он в Шереметьеве белугой ревел, ага… Хорошо хоть, что не при погонах были…
Обнорский вздохнул и вытер испарину со лба. Кошмар короткого сна ушел, но сердце продолжало бухать в груди, как после долгого бега.
– Слушай, Витя, у тебя попить ничего нету? Сушняк во рту, будто лошади насрали…
Летчик крякнул и достал из пластикового пакета две банки пива:
– Выручу уж, чего там… Давай, братишка. На посошок пивком отполируемся…
Холодное пиво уняло противную похмельно-нервную сухость во рту и дрожь в руках. Андрей расслабился. Похмелье было ощутимым, но вполне терпимым. Учитывая, что последние три дня он пил, что называется, вчерную, могло быть и хуже. Майор Витя через несколько минут задремал, стиснув в руке пустую банку из-под «Хейникена», а Обнорский закурил, откинувшись в кресле, и, покусывая нижнюю губу, начал думать.
«Что же делать?.. В самоубийство Ильи я не верю – не таким был парнем Новоселов, чтобы вот так, ни с того ни с сего себя газом травить… Да еще в Триполи… Да еще накануне прилета из Союза Ирины… Только те, кто плохо знал Илью, могли считать его свихнувшимся на войне интернационалистом…»
Обнорский знал, что Новоселов сумел переломить свой «йеменский синдром». Или только думал, что сумел?..
Андрей вспомнил постаревшую, опухшую от слез и водки вдову Ильи… Бред какой, в двадцать пять – вдова… Когда Обнорский увидел Ирину, Илью уже месяц как похоронили, а она все еще не отошла… Обнорского Ирина сначала не хотела пускать в квартиру, потом долго кричала ему в лицо какую-то обидную, несправедливую бабскую чушь, потом, выпив водки, истерично хохотала, давясь сигаретным дымом… Предсмертное письмо Ильи она все-таки почитать Андрею дала, вернее, не дала – швырнула в лицо смятый, покоробленный высохшими слезами голубоватый листок, заполненный твердым, убористым почерком. Обнорскому уже приходилось пару раз читать записки самоубийц – когда-то в Йемене в контингенте советских военных советников и специалистов вспыхнула настоящая суицидная эпидемия… Письмо Ильи отличалось каким-то странным внутренним спокойствием и даже неким жутковатым лихачеством:
«Ирина, прости и не осуждай. Не терзай себя – ты тут абсолютно ни при чем, все дело во мне. Когда ломается внутренний стержень, жить становится невмоготу. Видимо, во мне не хватило силы сопротивляться прошлому – оно настигло меня и сделало жизнь мучением. Сейчас мне уже легко – решение принято и обратного хода нет. Извинись перед всеми, и пусть меня не поминают плохо – подлостей я никому не делал, а своей жизнью могу распорядиться сам. Жаль, что не увижу больше Россию, Москву, – все это снится мне каждый день. Сегодня видел сон, как сижу в „Жигулях“ и пью пиво с креветками… Утром даже вкус во рту ощущал. Да ладно, видно, не судьба… Я прошу – прости меня и живи легко.
Твой Илья».
Число, подпись – и все это четко, аккуратно, со всеми запятыми и без единой грамматической ошибки. Именно это сразу очень не понравилось Обнорскому – принявший решение на уход человек обычно настолько взвинчен или, наоборот, подавлен, что это отражается на почерке и на орфографии. А тут такое впечатление, что Илья был спокоен, как танк. Обнорский споткнулся еще на чем-то в письме Новоселова, но размышлять об этом у Ирины не стал – она то плакала, то проклинала всех подряд и Илью тоже… (Родина, как обычно, сделала для вдовы своего офицера «все что могла»: валютный счет Ильи был заморожен во Внешэкономбанке, но Ирине пообещали, что часть денег ей, может быть, вернут, но не в долларах, а деревянными, по официальному курсу. А пенсия ей не полагалась – детей у Новоселовых не было, да и погиб Илья не при исполнении, а сам на себя руки наложил… Так что осталась Ирина у разбитого корыта – ни мужа, ни денег, ни даже работы: собираясь к Илье в Ливию, она, естественно, уволилась с Московского радио, где работала корреспондентом, место это тут же было занято.)
…На Домодедовском кладбище Андрей с трудом разыскал могилу Ильи. На ней не было пока ни креста, ни обелиска. Ограды тоже не было. На невысоком холмике, размытом начавшимися осенними дождями, сиротливо и жалко лежала маленькая плитка из дешевого гранита. На плитке была закреплена фотография Ильи в форме, а под ней выгравирована лаконичная надпись: «Капитан Новоселов Илья Петрович 17.03.1962–25.08.1990».
Обнорский достал из кармана плоскую бутылку джина «Бифитер» (этот джин был их любимым напитком в Йемене, плоские бутылочки там называли «ладошками», их удобно было таскать в заднем кармане), плеснул немного на могилу, потом в три глотка опорожнил полбутылки. Джин пился легко, словно вода, его не хотелось ни запивать, ни закусывать. Андрей закурил и присел на корточки, глядя на фотографию Ильи. Он никогда не видел Илью в советской военной форме – теперь вот только сподобился, на могильной фотографии… Андрей сделал еще несколько больших глотков, «закусывая» их лишь табачным дымом, и почувствовал, что его наконец-то начало цеплять. Внутреннее напряжение спадало, глаза заслезились. Обнорский обхватил голову руками и начал легонько раскачиваться, сидя на корточках, взад-вперед. Уткнувшись лицом в колени, он начал негромко постанывать, словно напевая какой-то жуткий мотив:
– Что же ты, Илюха, что же ты, что?!
Если бы кто-нибудь видел сейчас Обнорского со стороны, он непременно решил бы, что парень – тронутый. Но рядом с могилой никого не было.
Андрей допил джин и поднялся. Он снова взглянул на фотографию Ильи и вздрогнул – ему вдруг показалось, что губы Новоселова шевельнулись… Нет, это просто капля дождя скользнула по портрету. Тем не менее у Обнорского екнуло сердце, и он шумно перевел дух. Что-то не отпускало его от могилы, в мозгу билась какая-то важная мысль. Алкоголь, растекаясь по жилам, уже не пьянил, а, наоборот, помогал концентрироваться. Письмо Ильи… Что-то там очень не понравилось Обнорскому. Почерк… Стиль… Что-то еще, какая-то важная деталь… Пиво с креветками! Ну конечно же – пиво с креветками!
Андрея бросило в жар: Илья не мог видеть во сне, как пьет пиво с креветками. Новоселов ненавидел креветки, у него на них была аллергия, он не раз рассказывал Обнорскому об этом в Йемене. Когда-то давно, еще курсантом Военного института, Илья отравился несвежими креветками, причем как раз сидя в «Жигулях», с тех пор от одного упоминания об этих «дарах моря» Новоселова мучили рвотные позывы… «Но это же значит… Господи…»
– Елки-палки, – хрипло сказал Обнорский, глядя в неподвижные глаза Ильи на портрете… По фотографии стекали капли начавшегося дождя, и казалось, что лицо Новоселова меняет выражение…
…В тот день Андрей напился до полного бесчувствия, напился – пожалуй, даже не то слово. То, что Обнорский сделал со своим организмом, может быть, лишь частично выразит неприличный глагол «нахерачился»… Оставшиеся недели отпуска Андрей провел в Ленинграде, стараясь ни о чем не вспоминать и ни о чем не думать. Он инстинктивно давал себе отдых перед… Перед чем? Не думать, не думать, не вспоминать…
За три дня до отлета в Триполи Обнорский приехал в Москву, получил в Генштабе документы, оформил билет, а потом запил по-серьезному на хате, в которой жил тогда еще один трипольский «переводяга» – Серега Вихренко, приехавший в отпуск неделю назад. Эта «квартирка-капкан» на Каширском шоссе передавалась офицерами-переводчиками друг другу по наследству и пользовалась у жильцов пятиэтажной «хрущевки» дурной славой. Она либо месяцами стояла пустой, либо гудела чудовищным, крутым и совершенно беспредельным разгулом, да и постояльцы были в ней какие-то странные – молодые, вроде бы русские, но все какие-то чернявенькие, с угрюмыми глазами… Милиция, которую жильцы «хрущевки» время от времени вызывали, чтобы унять ночные дебоши с громким визгом девок и ревом незнакомых песен, почему-то хулиганов в отделение не забирала… А потом снова несколько месяцев подряд двухкомнатная квартира стояла пустой…
…Воспоминания о предотъездном загуле были обрывочными и смутными: Андрей с Серегой в ресторане сняли каких-то девок – якобы студенток педагогического… А может, и не якобы, студентки-то пошли такие, что… Естественно, не обошлось без драки – Обнорский, глянув на разбитые костяшки правого кулака, смутно припомнил, как бил кому-то морду во дворе дома на Каширке, хрипел что-то матерное насчет «тыловых крыс». Вихренко с трудом оттащил его от уже неподвижного толстомордого мужика, что-то не так сказавшего Андрею… Утром Сергей поднял Обнорского, собрал и отволок в аэропорт – по неписаной традиции, все заботы об отправке товарища брал на себя тот, кто оставался в Союзе. Серега в ту ночь и не ложился даже, чтобы не проспать… Через четыре недели кто-нибудь из «переводяг» так же проводит Вихренко.
…Сосед-летчик мирно сопел, продолжая стискивать рукой пустую банку из-под «Хейникена». Андрей потер рукой левый висок и вернулся к вопросу, от которого «закрывался» весь отпуск. Зачем в своем предсмертном письме Илья упомянул пиво с креветками? Ответ был простым и страшным – Новоселов давал сигнал тревоги, предупреждая кого-то, кто хорошо его знал и мог прочитать письмо, о вынужденности своих действий. Значит, его заставили уйти. Заставили написать прощальное письмо, накрыться одеялом и, открыв вентиль газового баллона, дышать через резиновую трубку газом… Но кто? Кто мог его вынудить на это? Истихбарат?[4] Непохоже: они так тонко не работают, да и зачем им было это делать? Смысл? А если свои? Но опять же – зачем? Своим проще было бы выдернуть Илью в Москву, если уж его в чем-то подозревали, «выпотрошить» там как следует и в случае крайней необходимости красиво и аккуратно инсценировать несчастный случай. Нет, тут вообще что-то другое, только вот что? Очень похоже на чью-то частную инициативу… Зачем? И почему Илья согласился сыграть по этим нотам?
С каждым новым возникающим в мозгу вопросом Обнорский все больше мрачнел и все сильнее машинально тер рукой левый висок – там, где пять лет назад скользнула по черепу пуля Куки, просыпалась тупая боль, Андрей уже чувствовал ее приближение и знал, что через несколько минут навалится приступ, боль будет терзать его минут тридцать, а потом отпустит, надо только вовремя таблетку принять. С 1986 года Обнорский всегда носил с собой таблетки от головной боли, хотя приступов иногда не было по полгода, но все же… Боль имела обыкновение приходить в самый неподходящий момент.
«Может, поговорить с нашими особистами? А почему это не сделал сам Илья? Не успел? Или у него были серьезные резоны не доверять им? А я расскажу? Илью подставлю? Мертвых уже не подставишь… А если он закрывал кого-то живого? Фраза о креветках могла быть адресована кому-то очень своему – ну да, я ее и получил. Наверное, кто-то еще мог бы ее понять, но получил-то ее я. Что же теперь, делать вид, что я ничего не понял?»
Обнорский снова вспомнил ту ночь в сентябре восемьдесят пятого, когда он, раненый и преданный, на одной ненависти (сил уже не было) полз через расстрелянный, залитый кровью Аден… Если бы не Илья тогда…
«Не вспоминать! Забыть, забыть, забыть!»
Андрей заставлял себя не вспоминать о Йемене – ничего хорошего эти воспоминания не несли, от них сердце начинало молотить как сумасшедшее, и хотелось напиться до полной отключки, до черноты, до нуля, так, чтобы в пьяном забытьи уже не привиделся давнишний йеменский кошмар…
«Значит, придется мне попытаться самому Илюшины загадки разгадывать… Только как? И вообще, реально ли это? И не помчусь ли я потом с разгадкой к Илюше в гости – вместе радоваться? Но других-то вариантов нет. Не могу же я на самом деле забыть…»
Забыть, забыть…
От принятого решения на мгновение стало легче, но потом боль в левой половине головы проснулась окончательно, она потекла с виска на лоб, потом опустилась на левый глаз и запульсировала оранжево-красным цветом… Обнорский достал таблетки и, морщась, нажал кнопку вызова стюардессы, чтобы попросить стакан воды…
Показавшаяся в конце салона фигура бортпроводницы кого-то напомнила Андрею… Да, конечно, чуть пополнее, правда, но все же очень на Лену похожа, и волосы такие же – как это он не заметил сразу при посадке… Лена… Перед глазами мелькнул расстрелянный аэрофлотовский «рафик» в Кресенте, у морских ворот Адена, растрепанные волосы и растерзанная блузка Лены, ее дрожащий голос: «Ты… тебя ведь зовут Андрей… Это ты, Андрюша?»
«Не вспоминать, не вспоминать!» – едва не закричал в голос Обнорский, поднял взгляд и обмер. Перед ним с непередаваемым выражением на лице стояла Лена – повзрослевшая, чуть пополневшая, но все же – она… И вот тут прошлое прорвало все шлюзы памяти и с головой накрыло Андрея…
Часть I
Палестинец
Ветхий Завет, Книга Екклесиаста, гл. 2, стих 11
- …И оглянулся я на все дела мои,
- которые сделали руки мои, и на труд,
- которым трудился я, делая их:
- и вот, всё – суета и томление духа,
- и нет от них пользы под солнцем!..
…Заканчивался октябрь 1984 года. Советский Союз глубже увязал в бессмысленной и жестокой афганской войне, весь западный мир гневно осуждал агрессоров и требовал вывода «ограниченного контингента советских войск». В ООН создавались специальные комиссии по афганскому вопросу, газеты и журналы печатали душераздирающие репортажи, с экранов телевизоров слово «Афганистан» летело к зрителям десятки раз за день. За всей этой шумихой почти не освещенным осталось то обстоятельство, что советские офицеры и солдаты выполняли «интернациональный долг» во многих других развивающихся странах, причем число этих стран измерялось не единицами, а десятками. Но если на Западе кто-то где-то хоть немного и слышал об этом, то в Советском Союзе единственным известным мирным обывателям сортом «интернационалистов» были афганцы… Об остальных знали лишь те, кому это положено было по долгу службы, да близкие родственники, которых, впрочем, предупреждали о том, чтобы лишнего они не болтали…
…Студент пятого курса восточного факультета Ленинградского государственного университета имени товарища Жданова Андрей Обнорский летел в столицу Южного Йемена Аден. Моторы самолета гудели мирно и ровно, за бортом была глубокая ночь, но спать Андрею совсем не хотелось – сказывалось возбуждение. Впервые за двадцать один год жизни он покидал рубежи Родины.
С каждой минутой все дальше и дальше оставалась осенняя Москва, заплаканные родители, Маша…
Вспомнив о жене, Обнорский закурил и начал нервно покусывать нижнюю губу. Похоже, был прав отец, говоря перед свадьбой: «Торопишься ты, сынок. Хотя – тебе жить, тебе и решения принимать». Маша тоже училась на восточном, только тремя курсами старше Андрея, ее специальностью были история Китая и китайский язык, а распределение она получила в Москву, в одну закрытую контору, которую на восточном факультете знали как «Спектор». Среди студентов циркулировали упорные слухи, что этот «Спектор» был одним из подразделений КГБ СССР, но чем занималась эта контора и что в ней делали выпускники восточного факультета – никто не знал. Кстати, попадали в этот «Спектор» в основном не выпускники, а выпускницы – на каждом курсе восточного факультета было около пятнадцати девчонок-москвичек, о которых все знали, что они «кагэбэшные целевички», то есть направленные на учебу в Ленинград по целевому направлению… Видимо, в этом был определенный резон: за пять лет учебы в Ленинграде москвички рвали все ненужные связи в столице и возвращались домой с минимумом московских контактов. Их будущих шефов это вполне устраивало.
У Обнорского закрутился с Машей сумасшедший роман, когда он был на втором курсе, а она на пятом. Потом Маша уехала в Москву, два года они перезванивались и изредка виделись – Андрей приезжал на каникулы, иногда по выходным. А потом они решили пожениться, наверное, не столько из-за любви, сколько из-за боязни боли от приближавшегося разрыва. Свадьба, состоявшаяся в марте, мало что изменила в их отношениях, видеться чаще они не стали: Андрей не мог бросить учебу, а Маша – работу. Кстати, даже после свадьбы Обнорский практически ничего нового о работе своей жены не узнал, на все вопросы она отвечала коротко: «Ничего особенного, в основном занимаемся переводами». И все. Все так все… Жизнь у молодоженов пошла своим чередом. Вот только семьи не было. Какая, к черту, семья, если живут врозь, в разных городах, а муж даже толком не знает, где жена работает и чем занимается? Когда Андрей заполнял анкеты, оформляя документы для загранкомандировки, в графе «Место работы жены» он поставил сообщенный ему накануне пятизначный номер войсковой части… Обнорский был очень рад предстоящей командировке – он и пошел-то на восточный факультет, чтобы дальние экзотические страны повидать, а что в этих странах делать придется, его не особо волновало. Тем более что студентам толком никто ничего не объяснял. Как правило, после третьего или четвертого курса студентов – арабистов, афганистов и иранистов – поголовно загребали на годичную практику в страны изучаемых языков. Одни ехали по гражданской линии – учились год в местных университетах, другие, у которых с блатом было похуже, «гремели по войне» – то есть отправлялись военными переводчиками в многочисленные военные контингенты СССР в странах Африки и Ближнего Востока. Военных переводчиков для советских советников и специалистов катастрофически не хватало, вот и затыкали дыры студентами. Те, кто попадал на «практику» от Министерства обороны, возвращались обычно на факультет какими-то странными – молчаливыми, с непонятной горькой мудростью в глазах и карманами, набитыми деньгами. Деньги эти вернувшиеся из разных горячих точек ребята с каким-то непонятным остервенением пропивали по кабакам и общагам, но даже в кураже чудовищных загулов вернувшиеся старшекурсники мало что говорили своим младшим коллегам, у которых первые командировки были еще впереди. Много трепались и рассказывали про свои геройства лишь те, что на самом деле сидели при штабах, – они, кстати сказать, как правило, возвращались доучиваться с орденами или медалями. Только когда ребята сами наконец попадали на свои «практики», они, вспоминая рассказы старших, начинали понимать, что было враньем, а что – правдой. Только правду говорили редко – слишком уж она была жестокой, некрасивой и неромантичной… Совсем неромантичной. Из своей группы Обнорский уезжал предпоследним – остальные уже где-то месили сапогами песок арабских пустынь. Из одиннадцати студентов-арабистов выездная комиссия факультета не допустила до оформления документов двоих – Мишку Немцова и Обнорского. Немцов стал невыездным еще на втором курсе – всерьез и надолго. Мишка был круглым отличником, да вот занесла его однажды нелегкая на исторический факультет, где группа студентов развернула дискуссии по комсомолу – дескать, аморфная организация стала, надо что-то менять… Комитет государственной безопасности на эти милые шалости придурков посмотрел серьезно – Немцова хоть и не выгнали с «идеологического» восточного факультета, но на его карьере навсегда был поставлен жирный крест. Прегрешение Обнорского было явно меньше – он однажды засмеялся не вовремя на военной кафедре: шла конференция, посвященная сорокалетию Сталинградской битвы, и докладчик-полковник путал падежи, предлоги и ударения в словах. За этот смешок Андрей, тем не менее, схлопотал выговор с весьма угрюмой формулировкой: «За глумление над памятью отцов, павших в Сталинградской битве». Быть бы и Обнорскому невыездным навеки, да вмешались какие-то крупные начальники Маши из Москвы. К тому же некомплект переводчиков в странах Ближнего Востока к 1984 году составил чуть ли не пятьдесят процентов – и из Главного управления кадров Министерства обороны СССР полетели директивы: оформлять и отправлять всех кого можно – хулиганов, двоечников, хромых, слепых, сифилитиков, дебилов… Индульгенция не коснулась лишь категории «антисоветчиков», в которую умудрился попасть несчастный Немцов. Это клеймо не смывалось ничем.
На предварительном собеседовании в Главном управлении кадров Андрея практически ни о чем не спрашивали – какой-то генерал-майор два часа извергал из себя маловразумительный водопад общих слов о высоком доверии Родины и «интернациональном долге». После этого собеседования Обнорский абсолютно не понимал, в чем будет заключаться его «практика», и, что самое печальное, ему даже не сказали, в какой именно «одной из развивающихся стран» (как было написано в документах) ему предстоит оказаться. Потом было собеседование в ЦК КПСС, где какой-то мелкий клерк так же неконкретно воодушевлял на что-то, но уже короче – в течение часа. И только в последней инстанции, в Десятом Главном управлении Генерального штаба, Андрей узнал, что его расписали в Народную Демократическую Республику Йемен, а если короче – в Южный Йемен, социалистический. (Был и «капиталистический». Северный Йемен – Йеменская Арабская Республика. Эти две арабские страны в то время находились в состоянии перманентного конфликта, периодически обострявшегося до кровавых пограничных стычек, однако и в Северном, и в Южном Йемене сидели советские военные советники. В то время такая ситуация никому не казалась дикой – в Десятом управлении, ведавшем посылкой советских офицеров в разные страны мира, знавали и не такое…)
Чем меньше дней оставалось до отъезда в Аден, тем мрачнее становилась Маша и тем более возбужденным делался Андрей. Ему хотелось вырваться в мир новых ощущений да и убежать от запутанных семейных отношений тоже… Какой же мальчишка не грезит о военных походах в далекие страны… А Маша, видимо, предчувствовала, что эта командировка окончательно поставит точку в их странных отношениях – точку в агонии любви, которую не смогли спасти даже штампы в паспортах.
Родители приехали из Ленинграда проводить Андрея в Шереметьево-2. Мать все время плакала, Маша держалась лучше, но ее платочек тоже вскоре промок, отец крепился, но был мрачен. Печальное настроение провожающих резко контрастировало с радостью Андрея, которую ему с большим трудом удавалось скрывать…
Пройдя таможню, Обнорский оглянулся в последний раз – все трое стояли, прижавшись друг к другу, они казались такими растерянными и беззащитными, что у Андрея екнуло сердце… Впрочем, он быстро отвернулся и пошел в буфет – успеть хлопнуть коньячку перед посадкой. Потом он часто будет вспоминать это прощание, но все это будет потом…
Самолет оказался полупустым, это очень удивило Обнорского, потому что билет в Аэрофлоте он получил с большим трудом: там почему-то говорили, что все места на Аден давно проданы. Андрей летел не в составе группы, а один – очередная смена в Йемене закончилась две недели назад, основная группа новеньких уже улетела, а на Обнорского все никак не давали добро – видно, решали где-то серьезные дяди, достоин он или не достоин выполнять «интернациональный долг».
В проходе между кресел появилась стюардесса, разносившая напитки, – молоденькая, с огромными голубыми глазами, чуть вздернутым носиком и короткими светлыми волосами. Андрей внимательно рассмотрел ее фигуру и даже расстроился – так она ему понравилась. Стюардесса была тоненькой, но без «французской» истощенности, все было на месте, и это «все» было настолько выпуклым, что очень хотелось потрогать.
– Чего желаете? – Стюардесса остановилась рядом с креслом Андрея и перечислила ассортимент напитков: – Вино, пиво, минералка, лимонад?
– Э… э… – Обнорский почему-то растерялся, сам на себя разозлился за это, а потом вдруг почувствовал, что краснеет.
Стюардесса, видимо, поняла, какое впечатление произвела на парня, и еле заметно улыбнулась. Ее улыбка была скорее не насмешливой, а… как бы это сказать… неосознанно довольной, что ли… Но Андрей этого не понял, насупился и вдруг неожиданно для себя самого ляпнул:
– А можно я еще немного подумаю? Я вообще-то не тупой, соображаю быстро, просто мне на вас смотреть нравится, и если я быстро выберу, то вы сразу уйдете…
Стюардесса фыркнула и оглянулась – большинство пассажиров уже спали, да и было-то их всего ничего.
– Меня зовут Андрей, – сказал Обнорский. – А вас как?
– Лена, – ответила стюардесса. Похоже, нахальство Обнорского не было ей неприятно, по крайней мере уходить она не торопилась.
– Лена, – серьезно начал Андрей, – проблема вот в чем. Я первый раз лечу за границу и очень волнуюсь. Заснуть явно не могу. Поэтому вы должны оказать мне посильную помощь.
Лена широко распахнула глаза:
– И что же я должна сделать, чтобы вы заснули?
– Э… э… – Андрей замялся, потом вдруг понял некую двусмысленность своей фразы и смешался окончательно. – Я имел в виду не то, чтобы… а даже наоборот. В смысле… Ну я подумал, может быть, вы мне что-то расскажете…
– Сказочку? – Стюардесса уже откровенно издевалась над Обнорским, и он, вздохнув, кивнул:
– Извините… Я, наверное, действительно похож на придурка… Я не хотел вас обидеть.
Лена рассмеялась, продемонстрировав шикарные белые зубы, оглянулась еще раз и вдруг, похоже неожиданно для себя самой, сказала:
– Ладно, я сейчас доразношу и подойду к вам, пассажир. Раз уж вы такой впечатлительный.
– Это не я впечатлительный, это вы – впечатляющая. Честно.
Лена хмыкнула и пошла дальше по салону, а Андрей полез за новой сигаретой. Обнорский удивлялся самому себе – что это на него накатило такое, раньше для него всегда было проблемой познакомиться с понравившейся девушкой, хотя уродом он не был, наоборот, девчонки сами проявляли к нему интерес, но тем не менее Андрей никогда не чувствовал себя с ними уверенно. Притом что на факультете его почему-то считали бабником, его сексуальный опыт был совсем небогат.
– Ну и что же вам рассказать? – Вернувшаяся Лена присела на краешек кресла через проход от Андрея.
– Не знаю, – ответил Обнорский. – Вы москвичка?
– Москвичка.
– А я из Ленинграда, – сказал Андрей и чуть было не ляпнул: «А вот жена моя – москвичка», но вовремя осекся. – Я в Йемен на практику лечу. На переводческую.
– Правда?! – удивилась Лена. – Вы знаете арабский?
– Да, – важно сказал Обнорский, но снова осекся, сморщил нос и добавил: – Если честно, то я не знаю, знаю я его или нет. Мы в университете классический арабский учили, а в Йемене, говорят, диалект такой, что ничего не понять… И вообще, я четыре курса только закончил и с живым арабом лишь однажды говорил, но этот араб – из эмигрантов, он в Союзе уже лет пятнадцать живет, на русской женился, сам наполовину русским стал. Так что, как я переводить буду – это еще вопрос. Могут и выгнать – говорят, такие случаи бывали.
– Ничего, – сказала Лена. – Все у вас получится. Я это чувствую.
– Спасибо, – улыбнулся Андрей и спросил: – А вы давно на международных линиях летаете?
Лена взглянула на часы, прищурила глаз и ответила:
– Да уж сколько… часа три уже как летаю.
– То есть?.. – не понял Обнорский.
– Ну у меня это первый международный рейс. И я, кстати, тоже очень волнуюсь.
Они посмотрели в глаза друг другу и рассмеялись. А потом Андрей начал рассказывать Лене о своем факультете, об арабских странах – то, что им читали на лекциях об исламе и эпохе великих арабских завоеваний. Они проболтали минут тридцать, и, когда Лена наконец встала, у Обнорского возникло странное чувство, что он уже давно знаком с этой девушкой. Чувство это было тем более странным, что о себе Лена практически ничего не рассказала… Андрей не заметил, как уснул после ее ухода. (Потом он очень жалел, что проспал посадку на дозаправку в Каире. Впрочем, в те времена отношения между Египтом и СССР были уже такими, что из транзитных самолетов все равно никого не выпускали, даже в аэропорт.)
Его разбудил яркий солнечный свет, бивший из иллюминатора. Самолет летел над морем, и невиданная яркость красок ослепила Андрея: сине-бирюзовое море, лазурно-голубое небо и густой желтый солнечный свет – все это было как на какой-то полузабытой картинке в детской книжке…
Стюардессы разносили завтрак.
– Как вы себя чувствуете, Андрей? – спросила Лена, ставя перед Обнорским небольшой пластиковый контейнер с куском курицы, сыром, маслом и чем-то еще.
«Интересно, – подумал Андрей, – как это она, поспав не более трех часов, умудрилась остаться такой свежей и жизнерадостной?» Обнорский оглядел Лену восхищенными глазами и ответил:
– Я чувствую себя прекрасно, потому что такая красивая женщина подает мне завтрак в такое солнечное утро. Может быть, я еще сплю?
Лена фыркнула и чуть зарделась:
– Вы завтракайте лучше, а то пока будете комплименты говорить – все остынет… Вас на вашем факультете специально учили девушкам головы кружить?
– Нет, – серьезно ответил Обнорский. – Это у меня природное. – И он погладил сам себя по черной, спутанной после сна шевелюре.
Лена засмеялась и хотела что-то ответить, но тут к ним подошла старшая бортпроводница, глянувшая на них со снисходительной улыбкой взрослого человека.
– Через два часа в Адене садимся, молодежь, – сказала она, и Лена сразу как-то засуетилась, смутилась и убежала в носовую часть.
Внизу показалась земля – прямая асфальтированная трасса, казалось, шла прямо через море, пересекая залив, на берегах которого раскинулся огромный город.
«Аден, – зажмурился Андрей. – Значит, я все-таки добрался сюда!» Обнорский не верил в это до самой последней минуты. Даже когда он садился в самолет в Шереметьеве, ему казалось, что в последний момент появятся какие-то угрюмые дядьки в плащах и шляпах и снимут его с рейса как идеологически не готового к сложной загранкомандировке.
Самолет качнуло, и он начал выполнять разворот со снижением. В салоне началась какая-то суета с гигиеническими пакетами – там сидела группа строителей, возвращавшихся в Йемен из отпуска. Эта группа «квасить» начала, видимо, задолго до отлета, по крайней мере перед посадкой почти все мужики были уже практически «в ноль». Один из них ответил на замечание пограничного офицера:
– Только придурок полетит в Йемен трезвым. – И громко икнул в подтверждение своей мысли.
Теперь вся группа строителей («Интересно, – подумал Обнорский, – а что они там строят?») дружно блевала и материлась. Андрей почувствовал, как его прекрасное настроение начинает понемногу портиться…
Наконец самолет коснулся бетонки, и все сидевшие в салоне зааплодировали. Лена (Андрей узнал ее голос) объявила через динамик температуру воздуха за бортом. В Адене было тридцать пять градусов выше нуля. «Ого! – подумал Андрей. – В куртке, пожалуй, будет жарковато».
Он снял свою кожаную куртку, запихнул ее в сумку и остался в джинсах и светлой рубашке с галстуком. Насчет галстука его в Генштабе предупреждали особо – мол, если кто прилетает без галстука, то такого могут чуть ли не в тот же день выслать обратно в Союз, как не справившегося с задачами командировки. Обнорский, правда, подозревал, что полковник-направленец в Десятом управлении, давая ему такие инструкции, мог просто хохмить (а чего же не поглумиться над салагой, который всему верит: скажи ему в противогазе полететь – полетит ведь), но рисковать на всякий случай не стал. Кстати сказать, в самолете он единственный и был в галстуке, но он также был единственным, кто летел от «десятки» – все остальные пассажиры явно летели от каких-то других контор. Еще во время пограничного контроля Обнорский обратил внимание на то, что у него одного на руках служебный, синий паспорт, а у всех остальных – красные, общегражданские. Синий паспорт, выданный в «десятке», украшала на первой странице следующая надпись: «Предъявитель этого паспорта является гражданином СССР, командированным за границу. Всем гражданским и военным властям СССР и дружеских государств пропускать беспрепятственно и оказывать содействие предъявителю». Направленец, выдавая Обнорскому паспорт, прочел эту надпись вслух, после чего добавил: «Терять этот документ я тебе очень не советую, парень. Возникнут проблемы…»
Готовясь к выходу из самолета, Андрей проверил бумажник: синяя паспортина была на месте, рядом с ней был маленький листочек – прикрепительный талон в местную «физкультурную организацию», полученный Обнорским в ЦК вместо сданного на хранение комсомольского билета (деятельность политических партий среди иностранцев за границей была запрещена, поэтому партийные ячейки за кордоном именовались «профсоюзными организациями», а комсомольские – «физкультурными»).
В самолете постепенно становилось жарко, но пассажиров все не приглашали на выход. Андрей посмотрел в иллюминатор, пытаясь понять причину задержки. На летном поле толпились какие-то люди в темных рубашках и пестрых юбках. Они выстроились в некое подобие шеренги и, казалось, чего-то ждали. Наконец из-под самолета выкатилась платформа, на которую был водружен какой-то ящик. Шеренга пришла в волнение, забурлила, люди размахивали руками и что-то кричали. «Да ведь это гроб, – дошло до Обнорского. – Ни хрена себе… Значит, мы с покойником сюда летели…»
– Дурной знак, – тихо сказал кто-то из строителей, так же, как и Обнорский, прильнувший к иллюминатору. Соотечественники дружно обматерили коллегу за карканье, но настроение у всех как-то сразу упало.
Выход разрешили лишь через полчаса. Андрей выбирался из самолета последним. У трапа стояла Лена.
– Ну, – одновременно сказали друг другу Андрей и Лена и, смутившись, рассмеялись.
– Может, увидимся еще? – спросил Обнорский.
Лена пожала плечами. Андрей помялся немного, но спрашивать номер телефона в такой ситуации было, конечно, нелепо. Поэтому он тряхнул головой и выпалил:
– Удачи вам. Можно я поцелую вас на прощание? Спасибо.
Он не стал дожидаться разрешения или возражений, быстро прикоснулся губами к теплой нежной щеке девушки и кубарем скатился с трапа:
– Не сердитесь на меня! Прилетайте к нам сюда почаще!
Лена, смеясь, махала ему рукой и что-то говорила, но что именно – было уже не разобрать.
Если бы в эту минуту Обнорскому кто-то сказал, как переплетется его судьба с судьбой красивой стюардессы по имени Лена, он счел бы этот рассказ бредом сумасшедшего. Может быть, не так уж и плохо, что обычные люди не могут предугадать даже ближайшего своего будущего. Иначе жить на белом свете было бы очень страшно…
…Через несколько минут после выхода из самолета Андрей был уже насквозь мокрым. Казалось, он попал в баню, причем не в финскую сауну, а во влажную и душную русскую парную. Рубашка и джинсы мгновенно прилипли к телу, а дурацкий галстук, казалось, стал самопроизвольно затягиваться на шее.
Обнорский подошел к платформе, на которую сгрузили багаж, нашел свой чемодан и огляделся.
Никто не торопился его встречать, как обещали в «десятке». Андрей стоял перед низеньким маленьким строением, совсем не похожим на международный аэропорт. На какое-то мгновение в душе Обнорского даже шевельнулось нелепое сомнение: а в Аден ли он прилетел?
Пассажиры сбились в две большие группы и сдавали свои красные паспорта каким-то уверенным дядькам в светлых рубашках и штанах необычного покроя – в Союзе такие на улицах еще не встречались.
Обнорский сунулся было к этим дядькам в крутых штанах, но они, увидев его синий документ, почему-то шарахнулись от него как от зачумленного:
– Военный, что ли? Это не к нам. Тебя свои встретить должны.
– А… кто свои-то?.. И где они?
– Там, – неопределенно махнули руками собиратели красных паспортов, отворачиваясь от Андрея. – После таможни…
Обнорский стиснул зубы, выматерившись про себя, и, подхватив чемодан и сумку, побрел к зданию аэропорта. Перед входом в это неказистое строение стоял маленький смуглый человечек в юбке, рубашке и вьетнамках на босу ногу. Андрей решил приветствовать первого встретившегося ему йеменца по всем правилам классического арабского, какому учили его в университете. Обнорский говорил несколько минут, объясняя, что он только что прилетел из Союза, что не знает, куда идти и что делать… По мере того как он говорил, лицо кучерявого человечка в юбке все больше вытягивалось – казалось, он напряженно пытался понять, чего хочет от него этот странный русский. Когда Андрей умолк, заговорил абориген. Его речь была настолько непонятной, что Обнорский едва не выронил чемодан. Несколько секунд Андрей и мужичок в юбке тупо смотрели друг на друга, а потом как-то воровато разошлись в разные стороны.
Обнорский присел на чемодан и решил перекурить. Его пальцы мелко подрагивали после первого опыта общения на живом арабском языке.
– Блядь какая! – сказал вслух Андрей после первой затяжки. – Переводчик приехал, называется…
Пробегавший мимо худощавый брюнет в странной форме песочного цвета удивленно оглянулся на Обнорского и остановился:
– Это кто тут матерится? Ты чей, хлопец?
Андрей вскочил с чемодана и с надеждой уставился на брюнета:
– А вы – русский?
– Почти, – хмыкнул брюнет. – Вообще-то я хохол, но тут мы все – русские. А ты-то кто такой?
– Я военный переводчик, – ответил Обнорский. – Из «десятки»… Там сказали – здесь встретят…
Брюнет удивленно покачал головой и протянул:
– Ну дела… Из «десятки», значит… Совсем там охренели, как я погляжу. Нас никто и не предупреждал, что ты прилетаешь… Повезло тебе, что меня зацепил. А то куковал бы тут долго. Переводчик, значит… Ну а я – твой начальник, референт Главного военного советника майор Пахоменко Виктор Сергеевич.
– Обнорский Андрей Викторович, – вытянулся Андрей, оправляя сбившуюся рубашку.
– Звание?
Обнорский замялся, потом пожал плечами:
– Я еще студент. Восточный факультет ЛГУ, на пятый курс перешел…
– Практикант?! – Референта перекосило как от зубной боли, а Андрей виновато кивнул – да, мол, практикант, виноват, исправлюсь.
– Ну и суки, – сказал Пахоменко. – Просто суки, и все.
– Кто? – не понял Обнорский.
Референт махнул рукой:
– Мы их как людей просили – пришлите переводчиков нормальных, в бригадах советники уже осатанели… В стране черт знает что творится… Прислали – три вагона практикантов да лейтенантов пяток… И тебя, такого красивого, в довесок…
Кровь бросилась Обнорскому в лицо, он стиснул зубы и по-бычьи наклонил голову: