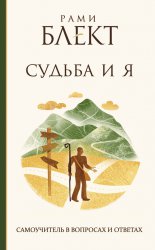Война: Журналист. Рота. Если кто меня слышит (сборник) Подопригора Борис

Луговой совсем по-мальчишески подмигнул и побежал вставать в ворота…
На следующий день Глинский сдавал судьбоносный для него экзамен по английскому. Борис волновался так, что потом с трудом смог вспомнить, о чём спрашивал его уже немолодой, но атлетического телосложения экзаменатор-полковник и что он говорил в ответ. Но говорил всё же по делу – толково разобрался в разнице между двумя похожими на слух вопросами: «Can A be C?» и «Can a bee see?» То есть может ли А быть Цэ? И может ли пчела видеть? Получив в итоге «отлично», Глинский ошалело выскочил из аудитории и буквально наткнулся на непонятно откуда взявшегося курсанта Лугового с портфелем-дипломатом. Тот глянул в счастливое лицо абитуриента и удовлетворённо улыбнулся:
– Ну я же говорил! Файв?
Боря только кивнул, переводя дух.
– А кому сдавал? Капалкину? Ну полковник такой, он ещё ко всем обращается «друг мой»?
– Да. Вроде ему. А что?
Луговой пожал плечами:
– Ему сдать – «в уважуху». Он – великий Шаман. Знаешь, про него у нас байка тут ходит: говорят, курсов семь назад, или около того, он народ начал строить насчёт спортивной подготовки, дескать, занимайтесь, друзья мои, большим теннисом. Типа, это единственный вид спорта, который не выдает национальности игрока. Мол, поверьте мне, я сам был чемпионом сухопутных войск. В пятьдесят пятом году. Тут его кто-то и решил подколоть: «Товарищ полковник, а разве у нас тогда проводились такие чемпионаты?» А он: «Друг мой, я был чемпионом сухопутных войск США – The US Army… Take care, guy».
– Ни фига себе! – не поверил было Глинский. Но Луговой абсолютно серьёзно кивнул в подтверждение своих слов:
– Точно тебе говорю. Можешь потом у преподов спросить. В Штаты, понятное дело, не съездишь, не проверишь. Но вообще, Капалкин – мужик серьёзный, «спикает» как бог, с разными выговорами! Может как образованный американец, может – как докер-негритос. А как техасцев пародирует – уржёшься… «А-а-нчо-ус» – знаешь, что это? Orange juice – апельсиновый сок… Да у нас тут таких интересных людей много, скоро сам узнаешь.
– У меня ещё мандатная комиссия.
Луговой беспечно махнул рукой:
– Пройдешь… Это, считай, формальность. А с тебя – яйцо под майонезом в чипке[144]. За моё счастливое пророчество. Ты ж москвич? Ну вот. С первой родительской заначки. Меня Витей зовут. Я – «перс».
Неожиданная аналогия с персидским котом заставила Глинского широко улыбнуться.
– Борис. Ну Боря.
Ребята пожали друг другу руки. «Персами» в ВИИЯ называли курсантов, изучающих персидский язык. Уже ради дружбы с Луговым Борис тоже захотел изучать тот же язык, но наивно посчитал, что с его тройкой за сочинение это нереально… Хотя дело было не в тройке, а в «конкурсе родителей».
Через день мандатная комиссия официально назвала Бориса Глинского курсантом. Тогда же ему определили первый язык – арабский. Но какой язык лучше, какой – хуже, поначалу мало кто задумывался. Борис был счастлив тем, что поступил. Он ощущал какую-то безграничную радость от этой, наверное, самой первой настоящей взрослой победы в жизни. Омрачить эту радость не могло даже перетаскивание на склад кроватей и матрасов, оставшихся от абитуриентов-неудачников.
Вечером обещали выдать полевую форму, а на утро был назначен отъезд в учебный лагерь на КМБ[145] недалеко от Звёздного городка. Перед ужином бывшие абитуриенты, ещё даже толком не познакомившиеся друг с другом, пошли гонять мяч на спортивную площадку. Борис не особо увлекался футболом, но тут оказался нападающим. Переполнявшая его радостная энергия позволила забить красивый гол метров с пятнадцати. Наблюдавшая за игрой группа старшекурсников (готовившихся в зарубежную командировку и потому коротавших время в институте) зааплодировала. На шум и крики к полю вышел помощник дежурного по институту – невысокий, сухопарый, опрятный капитан. Офицер снял фуражку, сунул её себе под мышку и с иронией, хоть и не без любопытства, стал наблюдать за мальчишеской вознёй. Через несколько минут капитан не выдержал и закричал азартно и неожиданно звонко:
– …Ты, как тебя?.. Чего в углу жмешься? Откройся. Теперь назад давай!.. Ё-моё, в центр пасуй, в центр… Ай… Под удар… Мягко сбрось, мягко! Ну убил…
…Мяч от ноги Глинского вдруг покатился прямо к капитану, и тот небрежно, как-то очень щегольски вдруг «пожонглировал» им обеими ногами в хромовых сверкающих сапогах, а потом изящно, почти без замаха, отправил его в сторону ворот. Вратарь даже дёрнуться не успел. Старшекурсники снова загалдели и зааплодировали.
– Кто это? – спросил, переведя дыхание, остановившийся рядом с ними Борис.
– Ещё узнаете, салаги, – с чувством превосходства ответил один, но другой добродушно пояснил:
– Это Пономарёв. Бывший капитан сборной Союза. Физо преподаёт.
Сказал и засмеялся, увидев округлившиеся глаза Глинского. В этих глазах легко читалась простая мысль: «Если даже физо здесь преподаёт недавний призёр чемпионата мира, то кто же тогда остальные преподаватели?»
Игра продолжалась, но прежнего куража у Бориса уже не осталось. Под наблюдением Пономарёва играть было как-то неловко. Ну всё равно что устраивать самодеятельные пляски перед Плисецкой.
А капитан всё не унимался, похоже, на его азарт уровень игры не очень влиял:
– Не обводи, не обводи! Длинный, длинный… ну ты, белобрысый… на ход дай, на ход! Пас! Клади в сачок… Йес!!!
Длинным и белобрысым он явно называл Глинского, и правда, природа и папа с мамой не обидели его ростом, а насчет «белобрысости»… В общем, не был он белобрысым, у него были густые темно-русые волосы, но слева от пробора, ближе к левому уху, выделялась большая очень светлая прядка. Она была у Бориса с рождения. Ну и, конечно же, эта прядка всю жизнь становилась поводом для подначиваний и подкалываний. Глинский давно к этому привык и не обижался.
Когда игра закончилась (Борина команда победила со счётом семь – два), Пономарёв неожиданно подошёл, посмотрел с прищуром и сказал добродушно:
– Ну, парень, ты ж не за зайцем гонишься. На настоящем поле у тебя бы давно дыхалка кончилась…
Борис ничего не ответил, просто шумно дышал, и капитан продолжил:
– Я, конечно, понимаю, ты сюда поступил не для того, чтобы в футбол играть. Но футбол… Футбол – это особая игра, это, если хочешь, квинтэссенция жизни, самая естественная форма состязания. А соревнуются все и всегда. Всю жизнь. Так вот, футбол – как танго, в котором всегда любовь и смерть. Футбол учит думать и бегать. А любой нормальный офицер обязан ясно думать и хорошо бегать. Эти умения, парень, могут спасти жизнь. Понял?
– Понял, товарищ капитан, – кивнул Глинский, дивясь тому, что знаменитый футболист выдал такую просто-таки поэтическую тираду. Хотя что он, собственно, тогда понял? Слова Пономарёва он вспомнит много лет спустя и в другой стране… Вот там он их по-настоящему поймет… И счёт этот, семь – два, в своем первом институтском матче Глинский тоже вспомнит, и жутко ему станет от мистического совпадения…
Но всё это будет потом. А тогда… Комсомольцы-первокурсники не очень верили в судьбу и предчувствия. В это начинали верить после спецкомандировок. Так что если и почудилось Борису что-то странное – про футбол, жизнь, смерть и любовь, – то он тогда, конечно же, мысленно от этого отмахнулся.
Этим июльским погожим вечером верить хотелось только в хорошее. В то, что жизнь будет такая же звонкая и азартная, как игра, в которой он забил свой первый в институте гол. И в то, что побед в жизни будет обязательно много. Больше, чем промахов.
И даже будни – и они обязательно будут с приключениями, интересными и светлыми… Семнадцать лет – это, как известно, возраст самых красивых мечтаний и самых чистых надежд.
…На ужине к Борису опять подошёл Луговой – уже как к «своему», почти равному. Оттянув Глинского чуть в сторону, Витя заговорщицки подмигнул и тихонько спросил:
– Наши ещё к вам с мульками не подходили?
– С какими мульками? – не понял Борис.
– Ну с разными финдиборциями и кандиснарциями?
Глинский рассмеялся над чудными словами, а Луговой совершенно серьёзно неожиданной скороговоркой произнёс:
– К финдиборциям и кандиснарциям надо быть готовым, чтобы избежать аннексий и контрибуций. А также репараций и реституций. Это у нас так «примочки» называются. Над абитурой же грех не поглумиться. Ты ухо-то держи востро. Если старшие подойдут и будут спрашивать, на какое ты отделение хочешь – на «разведчицкое» или дипломатическое, – ты не «покупайся». Отвечай: «Куда Родина прикажет». И всё. И на ускоренный курс гипнотизёров-диверсантов не записывайся. Не надо. И вообще, будь повнимательней. Всех «примочек» я тебе всё равно не расскажу, у нас затейников много, постоянно что-нибудь придумывают. А… Ещё одну вспомнил: если к тебе подбежит старшекурсник, протянет палец и попросит за него дёрнуть – не дёргай.
– Почему?
– Потому что он пёрнет.
– Не понял…
– Ну ясно же. Ты дёргаешь за палец, а он якобы именно от этого пердит. Все вокруг веселятся… Привыкай, брат. Такое у нас тут казарменное детство. А из игрушек только хрен да молоток…
После ужина всем поступившим выдали полевую форму – хэбэшные бриджи, гимнастерку и пилотку, кожаный ремень с солдатской молоткастой звездой и сапоги – яловые, прочной кожи. Именно эти сапоги (солдатам-то в войсках кирзу выдавали) обозначали курсантский статус. Ну и, конечно, погоны – красные, с жёлтыми продольными полосками.
Вчерашние школьники в большинстве своём искололи иголками в кровь все пальцы, пришивая к гимнастеркам погоны, петлицы и подворотнички. Подворотнички, правда, не пришивали, а подшивали, что сути дела, в общем, не меняло.
Глинский справился чуть ли не раньше всех – сказались тренировки, которые устраивал ему отец. И вот ведь как бывает: только вспомнил он про отца, как вбежал к ним посыльный дежурного по институту:
– Кто Глинский? Давай на КПП, там тебя какой-то генерал-лейтенант спрашивает.
Разумеется, это был отец. Оглядев сына, облаченного в новенькую курсантскую форму, Глинский-старший как-то смешно сощурился, будто ему в глаз что-то попало, а потом обнял Бориса и долго не отпускал:
– Молодец, сынок. Молодец!
На них вовсю глазели какие-то курсанты и солдаты, и Борис застеснялся, поторопился высвободиться из отцовских объятий. Генерал, видимо, правильно понял причину – усмехнулся и предложил отойти в сторонку.
– Да я на минутку к тебе. По дороге на аэродром – сегодня опять в Семск[146]… Поздравить и всё такое… Мать очень просила. Она вся аж извелась за эти дни. Ладно. На КМБ завтра?
– С утра, – кивнул Борис.
– Ты, сынок, имей в виду: некоторые на КМБ расслабляются, думают, что уже всё позади, а это, считай, ещё один экзамен. И бывает, что прямо с КМБ – обратно на гражданку. Или в войска – для старослужащих. Так что…
– Я знаю, пап, я постараюсь.
– «Папа»… – улыбнулся Владлен Владимирович. – Ты теперь меня имеешь полное право не только папой называть, но и «товарищем генерал-лейтенантом». Погоны позволяют. Я ведь тоже когда-то курсантом был…
– Так точно, товарищ генерал-лейтенант, – лихо бросил ладонь к пилотке Борис. Отец удовлетворённо улыбнулся:
– Ну честь отдавать – ещё, конечно, потренироваться надо. Пальцы чётче ставить. Но в целом…
И он снова обнял сына, предварительно «официально» козырнув ему. Вот так и вышло, что первое в своей жизни воинское приветствие отдал Борис генералу, да еще и родному отцу. А это запоминается на всю жизнь! Глинские не отличались особой сентиментальностью, но в этой сцене было что-то очень искреннее, растрогавшее обоих…
– Так, Боря, я тебе тут привёз кое-что, – спохватился генерал, расстёгивая принесённый с собой портфель. Новоиспеченный курсант подумал было с тайной надеждой, что мама послала домашние пирожки. Но Глинский-старший вытащил из большого портфеля сапоги – точно такие же, яловые, как на Борисе, только помягче. Это были генеральские сапоги, и Глинский-младший много раз надевал их, когда ходил в лес за грибами или ягодами. Размер ноги у него уже с девятого класса был такой же, как у отца.
– Меняй, – сказал отец. – В новых-то на КМБ вмиг ноги сотрёшь. А эти разношенные.
– Спасибо, папа, – даже как-то растерялся от такого необычного выражения родительской заботы Борис.
– Пожалуйста. Оценишь через пару дней. У этих-то, видишь, подошва потоньше, да и не такие тяжёлые. Да, вот я ещё портянки фланелевые захватил, вам-то небось одни обрывки выдали?
– Ну да… Портянки могли быть и побольше.
– Могли бы и побольше, если б прапорюги воровали поменьше… Ладно, сынок. Давай. На присягу к тебе мы вместе с мамой придём. Я уже и в график свой Москву поставил. Там, позвонишь, скажешь, когда…
Генерал уже повернулся, чтобы уходить, и вдруг как-то не по-генеральски хлопнул себя по козырьку фуражки, что-то вспомнив:
– Отставить, чуть не забыл. Курсант Глинский!
– Я!
– За успешное поступление!.. – Владлен Владимирович рассмеялся, не выдержав торжественного тона, и продолжил уже обычным голосом: – В общем, так, мы с мамой посоветовались. В сентябре, как восемнадцать исполнится, по-быстрому сдашь на права. Я уже договорился, один полковник из гаража Минобороны поможет. Ну и… Можешь считать «жигулёнок» своим.
– Па-апа!!!
Вот тут уж Борис начал обнимать отца. Ну да, «жигуль» ведь – это не сапоги, пусть даже хорошо разношенные и «севшие» на ногу. В Советском Союзе личный автомобиль существенно расширял границы персональной свободы. А уж Борис-то, он просто влюблён был в машину. Отец его впервые посадил за руль в 14 лет, и уже тогда Глинский-младший усвоил матчасть так, что на спор по звуку двигателя определял характерные неполадки. Конечно, в городе он ездить без водительских прав не мог, но с дачи до ближайшего сельмага выруливал просто, как профессиональный гонщик…
…Но на КМБ курсант Глинский поехал не на своём авто, а вместе со всеми – в автобусе-«пазике». Поехал, впрочем, в самом радужном настроении, которое не испортило даже первое взыскание, полученное почти сразу же по прибытии в учебный лагерь.
Дело в том, что многие поступившие после школы понятия не имели о том, как наматывать портянки, чтобы они не тёрли ногу. Многие с откровенной брезгливостью разглядывали выданные им тряпки и даже высказывали крамольные мысли, что портянки, мол, – это атавизм, анахронизм и вообще мудизм. Пережиток дореволюционного прошлого. И что уж в крайнем случае – пусть эти тряпки солдаты носят, а «благородные» курсанты – будущие офицеры вполне могут и в носках пощеголять.
Борис, кстати, даже пытался переубедить некоторых своих однокурсников. Он искренне повторял услышанные ещё в детстве от отца самые теплые и добрые слова о портянке. О том, что носки при долгой ходьбе в сапогах всё же сбиваются во влажные складки и поэтому натирают ногу, а портянку – её только встряхнул, перемотал другим концом – и будто свежую надел. О том, что бегать и ходить в них удобнее. О том, что они так не рвутся и не протираются, как носки.
В общем – старался, как мог. И даже попытался некоторым помочь «замотать ногу в куколку», как любил приговаривать Глинский-старший. Но без сноровки у многих городских юношей всё равно не получалось. И вот эти «портяночные антагонисты», несмотря на приказ упаковывать носки вместе с остальной гражданской одеждой для последующей отправки домой, всё же их припрятали. И прибыли в них на лагерный сбор. Там-то их всех сразу же и «взяли с поличным», потому что эта история повторялась из года в год.
Всех новобранцев попросту построили и приказали снять сапоги. М-да. Как писал один не очень известный критик в середине XIX века: «Правда явилась во всём своём ужасном великолепии». И Борис тоже попал «под раздачу». Он хоть и был в портянках, но не в «уставных», а в тех, что отец привёз, во фланелевых. Эти фланелевые портянки разозлили начальника курса, майора Шубенка, ещё больше, чем носки. Он долго пристально разглядывал Глинского и наконец процедил:
– Любите себя, товарищ курсант? Жалеете?
Борис вспыхнул, но ответил неожиданно для себя спокойно и без вызова:
– Не думал об этом, товарищ майор.
Шубенок нахмурился, пытаясь понять, есть ли в словах курсанта дерзость, к окончательному выводу не пришёл, но решение принял командирское:
– А вы подумайте. И чтоб крепче думалось – вам я также объявляю взыскание. Для начала – замечаньице.
– Есть замечание, товарищ майор, – бодро откликнулся Глинский, радуясь, что Шубенок не обратил внимания на его разношенные сапоги. Все дело в том, что просто Борис их умел чистить лучше многих своих однокурсников, потому-то его обувь – без пристального разглядывания – казалась даже более новой, чем у других…
На том же самом построении начальник лагерного сбора полковник Яремко обратился к курсантам с короткой, но смачной речью, в ходе которой произнёс сакраментальную фразу:
– Видите забор? Кто не видит забор – выйти из строя! Так… Стало быть, все видят. Кого увижу за забором, тот увидит меня в последний раз!
А забор-то и впрямь был очень плохо виден из-за закрывавшей его густой растительности…
Впрочем, по «закону парности» уже через пару дней Боря получил уже и выговор – за то, что в вечернее время справил в кустах малую нужду, не доходя до туалета, а дежурный по лагерному сбору засёк. «Ну ты поссал!» – ухмылялись одногруппники.
Но в целом Глинский прошёл КМБ достаточно легко – сказались и спортивная подготовка, и отцовское воспитание. Для Бори многое было если не в новинку, то уж точно не в диковинку. Он легко бегал кроссы, нормально отстрелялся на стрельбище, умело окапывался и вообще достаточно легко переносил «тяготы и лишения воинской службы». Многие их переносили гораздо труднее. Командиром их языковой группы (по-военному – командиром отделения из 10 человек) был назначен поступивший «из войск» младший сержант Новосёлов. Бориса он почти не трогал, но остальных «плющил» и воспитывал так, что казался им просто зверем и сволочью. Особенно часто он «дрючил» Виталия Соболенко, физически плохо развитого паренька из Киева, сына какого-то республиканского министра… Чуть ли не до слёз Виталика доводил. И как-то так само собой получилось, что Борис начал Соболенко опекать – помогал, подсказывал, короче говоря «нянчился», по выражению младшего сержанта. К концу КМБ Соболенко «прилепился» к Борису просто как мишка-коала к дереву, – ходил за ним хвостиком, как верный паж. Однажды Новосёлов не выдержал и, оттащив Глинского в сторону, тихо сказал:
– Зря ты с этим хлюпиком возишься. Гниловатый он.
А Борису не то чтобы уж так нравился Соболенко, просто папа и мама с детства учили его защищать слабых. Да и книги, которые он читал, учили тому же. А ещё Глинскому не нравилось, когда кто-то ему что-то навязывал. Поэтому он отреагировал достаточно твёрдо:
– А что, есть факты, товарищ младший сержант?
Новосёлов покачал головой:
– Пока нет, но будут. Поверьте, товарищ курсант. Мы таких сладеньких в армии сразу срисовывали. По глазам.
– Приму к сведению, – не стал спорить Глинский, но поведения своего по отношению к Соболенко не изменил.
Да, именно на КМБ курсанты стали задумываться о полученном для изучения языке, а заодно об их ранжировании с учётом перспективы. К этому сокурсников приобщили те, кто поступил в институт со второго, а то и с третьего захода. Самым блатным в ВИИЯ считался, конечно, факультет западных языков. Именно туда стройными рядами зачислялись внуки и сыновья совсем ядрёных «шишек». Отпрысков таких «шишек» в ВИИЯ называли «мазниками» или «мазистами». Те же, у кого блат был пожиже («полумазники-полумазисты») или не было его вообще, шли на восточный. Разумеется, всегда встречались исключения. Более того, большинство сдавших сочинение на «отлично» (это, правда, удавалось единицам) и в дальнейшем учившихся только на пятерки имели как раз «рабоче-крестьянское» происхождение. Безотносительно факультета.
Но этот парадокс на самом деле лишь подкреплял общий, как стали говорить позже, тренд: в ВИИЯ, мягко говоря, предпочитали детей из «непростых» семей. Так что институт вполне заслуживал короткую, но едкую характеристику, придуманную кем-то из прежних острословов: «институт блата и связи имени Биязи»[147]. И что тут сказать? Во многом это было именно так, но… Но и тут всё было не так уж примитивно просто. Поступающий должен был не просто пройти конкурс в 25 человек на место, но и иметь незапятнанную репутацию, ибо ему предстояло стать «выездным» в «невыездной» стране. За границу ведь направляли самых надёжных, а они происходили из «заслуженных», а стало быть, многократно и тщательно проверенных семей. Да и, честно говоря, в «статусных» семьях всё же больше вырастало толковых ребят. В одном историческом анекдоте на эту тему сказано примерно так: «Войну и мир» мог написать только граф Толстой, а никак не его конюх Ванька. И не потому, что Ванька – дурак, а потому, что граф за лошадьми не ходил, следовательно, располагал большим временем на сочинительство.
Толковые блатники редко становились круглыми отличниками по простой причине – из-за недостатка внятного стимулирования. Им не надо было «жопу рвать», как «рабоче-крестьянским» детям, пробиваясь к социальным лифтам. Им вполне достаточно было учиться просто хорошо.
А если в институт поступал хоть и блатной, но откровенно бестолковый, то дальше второго курса он редко доучивался. Как-то испарялся сам собой.
На восточном факультете выше всех котировался персидский язык – прежде всего из-за щедрости иранского шаха. Да и за афганского короля Москва платила совсем неплохо – за годичную командировку можно было и приодеться, а порой и купить автомобиль. Глинский ведь поступал ещё до того, как шаха и короля свергли. Это потом уже персидский станет самым «боевым» языком, но при этом «экономически не интересным». Но тогда Глинский для персидской группы «не вышел папой». Арабский же в те времена считался в меру «демократичным» и «хлебным», в отличие от «беспросветного» китайского. А его, кстати, часто давали неблатным отличникам. Такое вот «лингвострановедение», трудно постижимое новичками.
Впрочем, в ВИИЯ не только учебный процесс, но и сама обстановка, внутренняя атмосфера как-то незаметно нивелировала «мазников» и «немазников». Всё-таки, при всех «выездных» перспективах, в ВИИЯ в основном стремились за образованием. А знания, полученные в неказистых красных казармах и задвинутом вглубь квартала восьмиэтажном корпусе, ставили институт в один ряд с самыми престижными вузами страны. При этом в ВИИЯ получали не только знания, но и планку жизненных устремлений, причём не только в профессиональной сфере…
…О переводчиках, тем более военных, широкой публике известно не так много. Причин этому достаточно – и закрытость контор, куда они попадали по распределению, и скромные звездочки на погонах – чаще всего как у незаметных ротных.
Хотя некоторые из этих «ротных» засветились в таких событиях мирового значения, как Тегеранская, Ялтинская или Потсдамская конференции. Прежде чем подняться до самых высоких штабов, большинство этих капитанов проходили через рейды по тылам противника и парламентёрство под белым флагом. Выживали, мягко говоря, не все. Мало кто знает, что военные переводчики в процентном отношении среди всех армейских профессий получали боевые награды так же часто, как лётчики. И так же часто погибали, причём совсем не только во времена Великой Отечественной. Очень непросто складывались судьбы этих людей, зачастую знавших больше, чем их начальники. В том числе знавших много и о самих начальниках. А во многих знаниях, как известно, «многая печали»… Да и те, «кому положено», всегда относились к переводчикам с трудно скрываемым подозрением. Особенно в сталинские времена. Да и потом тоже бывало. Но на место выбывших всегда приходили новые…
У истоков ВИИЯ стояли уцелевшие после Гражданской войны и чудом пережившие лютость тридцать седьмого года наследники «золотопогонного» прошлого русской армии – генералы Алексей Игнатьев (автор знаменитейших мемуаров «50 лет в строю») и Николай Биязи. Оба они были дипломатами и учёными, что называется, милостью Божьей. Первый считался одним из основоположников современной военной дипломатии. При его непосредственном участии были определены права и обязанности военных атташе, которых до того называли «военными агентами». Так что слово «агент» изменило свой первоначальный смысл не без подачи Игнатьева. Что же касается Николая Николаевича Биязи, то он, итальянец по корням, был известен прежде всего как непревзойденный полиглот. Четырнадцать (!!!) языков – «это вам не кот чихнул», как любил приговаривать майор Шубенок. Сами же отцы-основатели в годы своего профессионального становления опирались на целую плеяду замечательных русских военных интеллектуалов, ныне почти забытых, – таких как Николай Михайлович Пржевальский (кто о нём знает больше, чем про «его» лошадь?), Андрей Евгеньевич Снесарев (один из родоначальников современной афганистики), Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (брат будущего секретаря Совнаркома курировал «в пользу России» мировое масонство), – все они были первыми генералами русской военной разведки. Понятное дело, курсанты ВИИЯ во время учёбы редко вспоминали основоположников и классиков. Но, как написал по схожему поводу ещё старик Вергилий, «выбирая богов – выбираешь судьбу».
Многих манило в ВИИЯ это странное ощущение элитарности, избранности, витавшее в его стенах. И совсем не случайно так вышло, что учились в институте очень известные в будущем люди, можно сказать культовые персонажи, такие как писатель Аркадий Стругацкий, композитор и сценарист Андрей Эшпай, артист Владимир Этуш. О таких, как журналист Всеволод Овчинников и ещё с десяток не менее известных академиков и политиков, правда, не всегда подчёркивающих своё военно-переводческое «первородство», и говорить не приходится.
В ВИИЯ в лучшие его времена изучалось до 40 иностранных языков – больше, чем в любом вузе страны, а может быть, и мира. Знание этих языков находило самое что ни на есть прикладное и весьма оперативное применение в локальных войнах, о которых соотечественники лишь догадывались по очень скупым и не очень правдивым сообщениям в советских газетах. По двум языкам (с учётом географии тогдашних горячих точек) – арабскому и португальскому (потом добавился и персидский) – равных выпускникам ВИИЯ не было, да и быть не могло. По крайней мере в прикладном смысле – ведь после третьего, а порой и второго курса чуть ли не строем курсантов отправляли на боевые стажировки к нашим советникам в воюющих армиях – подчас весьма экзотических.
В тот год, когда Глинский поступил в ВИИЯ, произошел трагикомический случай. Курсанта-старшекурсника в центре Москвы задержал комендантский патруль. Начальник патруля узрел на курсантском кителе орденские планки с Красной Звездой, медалью «За боевые заслуги» и ещё двумя-тремя какими-то совсем непонятными – с саблями и полумесяцами. Бдительный офицер усомнился, так сказать, в легальности всей этой красоты. Ведь у абсолютного большинства обычных офицеров боевых наград не было вообще. А тут столько всего, да ещё у какого-то курсанта. Недоразумение, конечно, быстро разрулилось, причём мирно для обеих сторон. Офицер московской комендатуры, может быть, и не понял, как быстро его могли выслать из Москвы, окажись задержанный курсант внуком маршала или сыном члена ЦК. А ведь таких «детей» в первую очередь направляли на «боевые стажировки», и они привозили оттуда награды. Этим боевым «флёром», надо сказать, пользовались и другие виияковцы. Борис запомнил оправдания билетёра перед администратором «дефицитной» тогда «Таганки»: «Да я только двоих пустила – Булата Шалвовича (Окуджаву) – Любимов разрешил… И вот этого – курсантика из ВИИЯ…»
Хотя, надо признать, далеко не все виияковцы унаследовали у своих знаменитых родственников только лучшие качества. Например, учился в институте сын известного из истории Великой Отечественной войны лётчика-инвалида. И был этот курсант горьким-горьким пьяницей. Настолько горьким, что адъютанты папы иногда просто выносили его к институту на руках, аккуратно переваливали через забор, и далее до родной казармы тот добирался уже ползком. Бывало, что за этим «героическим» перемещением наблюдал экстренно вызванный помощник дежурного по институту.
Но таких «кадров» было всё-таки немного. Сознание будущих военных переводчиков формировалось в первую очередь не уставами и шагистикой, а учебным процессом. И учиться было у кого. Многие преподаватели прививали курсантам интерес к профессии не только глубиной и широтой своих познаний, но и примером собственной судьбы. Чего стоил один только главный военный «франкофон» страны – профессор Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев, кстати, лётчик-фронтовик, к тому же сын основоположника отечественной виолончельной школы. Он был непревзойденным методистом работы в ЛУРе – лаборатории устной речи, в то время лучшей в стране. В этой лаборатории курсанты получали навыки синхронного перевода на примере типичных для будущей работы жанровых сцен. Происходило это так: из наушников лилась живая речь носителей языка, но не в «дистиллированном» дикторском варианте, а с характерными помехами – от гула самолета и треска полевых телефонов сквозь выстрелы до плача детей, шума ссоры или перезвона бокалов с тостами.
(Кстати говоря, однажды и самому профессору выпал случай убедиться в качестве налаженной им подготовки. А дело было так: выехал он однажды во Францию переводчиком самого Хрущёва. Де Голль, кстати, ценил «доктора Рюрика» как синхрониста даже больше, чем своего друга и начальника разведки Франции Константина Мельника (внука доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьёй). И вот тогда-то без задней мысли и уж точно без какого-то задания (ну так, по крайней мере, запомнилось!) зашёл Рюрик Константинович в магазин сувениров, располагавшийся впритык к президентскому центру связи, то есть стратегическому объекту. К нему тут же выпорхнул хозяин магазина – классический угодливый французик с непривычным тогда для советских людей именным беджиком: Жан-Клод какой-то там: «Qu’est-que ce vous voulez, monsieur?» («Что мсье угодно?») Взглянул этот «Жан-Клод» в лицо профессора и как-то слегка побледнел – тут же в подсобку заторопился. Мол, очень важный телефонный звонок, вы только не уходите, к вам сейчас подойдут, то да сё. И вся эта трескотня с характерным парижским выговором – просто идеальным. Просто как у потомственных парижан. «Как», потому что в этом «Жан-Клоде» узнал Миньяр одного своего курсанта, выпустившегося лет восемь назад, страшного раздолбая, кстати…)
И таких, как Миньяр, было немало. В институте преподавали настоящие энциклопедисты и практики в одном лице: Владимир Иванович Шванёв, «отметившийся» во всех арабских странах и свободно цитировавший Коран с любого места; Лев Сергеевич Поваренных, не только по знанию языка, но и манерам похожий на английского лорда; пуштунолог с мировым именем Георгий Фёдорович Гирс – кстати, внук министра иностранных дел Российской империи, давшего имя пограничному размежеванию на Памире, той самой знаменитой «линии Гирса»…
Поэтому важной особенностью виияковского образования являлась широкая междисциплинарная, страноведческая и особенно филологическая эрудиция выпускников, прежде всего литературный русский язык. Такой, как у ведущего англоязычного переводчика генеральных секретарей ЦК КПСС 60–80-х годов Виктора Михайловича Суходрева, выпускника ВИИЯ 1956 года, иногда выступавшего перед своими молодыми коллегами – благо его сын тогда в этих же стенах учился.
Отношение же курсантов к неязыковым дисциплинам зависело прежде всего от личности преподавателя. С «общественниками» не спорили, но и особо не увлекались ни диаматом, ни истматом. Забавно, но в военном институте наименьшей симпатией пользовалась кафедра оперативно-тактической, или позднее – военной, подготовки, как будто на остальных учили не военному делу! Эту кафедру курсанты из поколения в поколение называли «дубовой рощей», а особо рьяным её преподавателям регулярно приходили характерные конверты без обратного адреса и имени отправителя, но с лаконичным дубовым листком внутри. Впрочем, и там личности встречались интересные – хотя бы тот же полковник Жаров, брат знаменитого артиста. Его любили, причём вовсе не из-за брата, а за гусарский лоск, фронтовую умудренность и непередаваемое чувство юмора: «„Англичане“, – спрашивал, бывало, полковник, будучи дежурным по институту, когда он провожал в увольнение курсантов, ставших папами (их кое-когда в будни отпускали), – как по-английски будет „тёща на воскресенье заберёт ребятёнка“?» – «Й-й-й-е-с-с!»
Вот в такой вот не самой обычной для военного заведения атмосфере и началась учёба курсанта Глинского. К языковым занятиям приступили сразу после возвращения с КМБ. Вскоре состоялось торжественное принятие военной присяги – тогда Борю отпустили в его первое увольнение. До полуночи отпускали, кстати, только москвичей, но Борис уговорил начальника курса отпустить с ним «до нулей» и курсанта Соболенко, своего верного «оруженосца». Собственно говоря, последним аргументом стала просьба отца, пришедшего вместе с мамой на присягу в парадной форме. Майор не мог отказать генералу, хотя было видно, что начальник курса переступил, как говорится, через себя. А вот младший сержант Новосёлов, командир их отделения, остался «при казарме» – ему, свердловчанину, в Москве идти было особенно некуда. Правда, он и присягу вместе с ребятами не принимал, поскольку принял её ещё солдатом, «в войсках»…
После праздничного ужина (лишь с капелькой шампанского для первокурсников) отец лично отвёз их с Соболенко к институту. Следующего «увала»[148] Борису пришлось ждать долго.
И потянулись учебные будни. Надо сказать, они не были окрашены чем-то романтическим. Поначалу шла простая сермяжная зубрёжка, доходившая до так называемого «жопничества» – от словосочетания «брать жопой», то есть – сверхусидчивостью. «Жопничество» переходило иногда почти в маразм, когда после отбоя и выключения света в казарме и ленкомнате[149] многие курсанты плавно перемещались зубрить в круглосуточно освещённый туалет. Ходили туда и Борис, и младший сержант Новосёлов, становившийся в ночное время совсем «ручным», и даже старшина курса. А что было делать: не выучишь «дозу» на завтра – пойдет цепная реакция неуспеваемости, а там недалеко и до отчисления. «Жопничали» в основном восточники. Западные языки считались лёгкими, недоступными лишь дебилам. Поэтому западники, особенно выпускники языковых школ, в отличие от восточников, могли беззаботно «давить на массу» от отбоя до подъема. Но как бы ни тяжелы были первые месяцы учебы, без специфического юмора, конечно же, не обходилось.
Любой арабист прошёл через лёгкий шок от обилия в языке слов, звучащих для русского уха не совсем, скажем так, прилично. Например: «Я биляди…» – чёрт-те что подумать можно, а это всего лишь патетическое обращение к родине: «О, страна моя». А если сказать по-арабски: «О, страна наша Япония!» – получится ещё задорнее: «Я билядуна Ябаниййя» – и молодые раздолбаи особенно нажимали на «…ниййа», чтоб уж совсем ядрёно звучало. Ну а китайскую фразу: «Лиса тоже не может ответить воробью» – «Хули ебу хуй хуйда хуйняо», – весь курс выучил одновременно с самими китаистами.
А на следующий год «порадовал» и английский, в котором Боря мгновенно почерпнул много нового. Попробуйте-ка быстро и с не очень английским, а скорее, с русским выговором произнести «chop is dish!» – безобидную, в общем-то, реплику о шницеле. Получится нечто, напоминающее невежливый вариант вопроса «зачем врёшь?». Или скажите по-английски «возле какой-то птицы». Получится примерно так: «ниээбёт». Ничего не напоминает? А вот младшекурсников это очень развлекало. Настолько, что такого рода хохмочки входили органично в курсовой сленг. Если хотел, скажем, кто-то чётко выразить свою позицию относительно «докапываний» младшего сержанта Новосёлова, то так сразу и говорил: «Возле птицы». И все сразу всё понимали – возле какой именно птицы и куда она полетит.
Впрочем, такого рода хохмочками «наедались» довольно быстро. А часто на них уже просто сил не оставалось. Правда, Борису, в отличие от доброй половины однокурсников, почти не приходилось встречать «забрезживший рассвет» в сортире, но он всё равно поначалу безумно уставал и совершенно не высыпался. А потом вдруг организм словно переключился, перенастроился, причем это случилось как-то резко, за неделю. И кстати, не у одного Глинского. Курсанты втягивались, кто раньше, кто позже. Борис втянулся практически раньше всех. По арабскому языку он быстро вышел на твёрдую «четвёрку», а к «пятерке», честно говоря, не очень и стремился. Преподаватели качали головами и вспоминали резюме на его сочинение: «Грамотный, но оригинальничает». Но Борис в данном случае совсем даже не оригинальничал. Всё было банально: за пятерку надо было очень попотеть, а тогда бы не осталось у него времени на периодические сбегания в самоволки.
Сбежать-то было не очень сложно, не с зоны же, а вот чтоб тебя не «зажопили», то есть не взяли за задницу, – тут много хитростей было придумано. Дело в том, что успех «самохода» обеспечивался, во-первых, тем, чтобы «беглеца» не искало начальство, во-вторых, надежностью увольнительной записки – на случай встречи с патрулём, гражданскую-то одежду носить запрещали! С увольнительными разобрались быстро: мыли под краном уже использованную записку, предусмотрительно заполненную чуть разбавленными чёрными чернилами – они, в отличие от лиловой печати, хорошо смываются. Ну а потом вписывали нужное… Сложнее было «отмазаться» от начальника курса. Самая распространенная «отмазка» состояла в том, чтобы «товарищи по оружию» сказали, например, что курсант такой-то находится в лаборатории устной речи. А там-то особо никого никогда не искали. Так что в аудиториях самоподготовки надписи мелом на досках про якобы занимающихся в ЛУРе практически не стирались. И фамилия «Глинский» мелькала там чаще других. Надпись эта накладывала на оставшихся в аудитории особые обязательства, ибо означала: «такого-то не искать и в случае чего прикрыть любой ценой». Но и тот, кого «не искать», не имел права подвести прикрывавших его. Такая вот своеобразная «школа верности».
И кстати, с самоволками и самовольщиками, несмотря на то, что институтское начальство официально жёстко преследовало за эти «вопиющие нарушения воинской дисциплины», как-то так образовывалась любопытная тенденция: тех курсантов, кто никуда не сбегал и послушно занимался в аудитории, частенько отправляли на разные не очень приятные работы, типа уборки снега зимой на закрепленной за курсом территории. Не очень любили виияковские начальники слишком смирненьких, хотя официально, разумеется, это никак не декларировалось. А Глинский уже через год учебы освоился и оборзел настолько, что стал просто «асом самохода». У него явно прорезался настоящий талант – сбегать и не попадаться. Одногруппники считали, что Борис сбегает на полуофициальные выступления только-только начавших расцветать ВИА (вокально-инструментальные ансамбли – для тех, кто забыл) или на концерты потихоньку потянувшихся в СССР иностранных звезд. Или что Глинский сам на гитаре лабает в какой-то чуть ли не ресторанной группе. И это всё было, конечно, хотя и без ресторана. Но гораздо реже, чем казалось сокурсникам. Чаще всего Боря сбегал просто домой. И совсем не только из-за маминых рукотворных пельменей и пирожков (хотя и из-за них, конечно, тоже). Глинскому просто очень нравилось заниматься учёбой дома, отдельно, не вместе со всеми в аудитории самоподготовки. Это ж такой кайф: зубришь породы[150] глаголов, а заодно чаёк прихлебываешь и маминой ватрушкой заедаешь. Глинский-старший об этих «самоходах», конечно же, не знал. А Надежда Михайловна делала вид, что верит сказкам сына про «сегодня опять отпустили». К тому же Глинские жили не очень далеко от института – на «Парке культуры». После «тревожного» звонка от сокурсников можно было уже минут через сорок – сорок пять спокойно оказаться на территории института и в ответ на строгий вопрос: «Где вы шляетесь, товарищ курсант?» – невинно хлопать глазами: «Как где? В ЛУРе… а потом я ещё в столовую забегал, я там конспект на обеде забыл… еле нашёл, товарищ майор…»
Этот «индивидуализм» Глинского, дистанция, которую он держал почти со всеми однокурсниками, воспринимались ими нормально. Не как снобизм, а как особенность характера. А Борису эта дистанция обеспечивала дополнительную степень личной свободы, в том числе и в моральных предпочтениях. Кроме того, Глинский, наверное, быстрее других осознал, что переводчик – это «штучный товар», а не продукт коллективного обезличенного радения, как уборка снега.
Кроме того, Глинский старался приходить из «самоходов» не с пустыми руками – мать всегда давала ему с собой что-нибудь вкусненькое, и этими харчами он всегда подкармливал однокурсников. Ох, как много домашние харчи значат для укрепления внутриказарменного реноме на младших курсах! Знающие люди подтвердят. Нормальный курсант – особенно до третьего курса – всегда хочет есть, спать и вот ещё «ба-бу-бы»… Непроизвольная поллюция «выстреливала» порой на полметра. Хотя в ту пору большинство первокурсников были вполне невинными мальчиками, говорившими гораздо больше «о» женщинах, чем «с» ними, родимыми.
И ещё пара слов о «самоходном таланте» Глинского – это именно он придумал «отпугивать» патруль ношением объёмного бандажа-воротника. Начальник патруля, завидев курсанта в таком инвалидном ошейнике, уже как-то стеснялся, что ли, потребовать увольнительную записку – парню и так-то не повезло, шею сломал, теперь, наверное, комиссуют. Этот бандаж-воротник Боря, естественно, «экспроприировал» у матери, он был фээргэшного производства и внушал глубокое почтение. Естественно, ошейник пошёл на курсе по рукам, без «дела» не пролёживал и вскоре неформально был признан общевиияковским «ноу-хау».
А в нечастые легальные увольнения Глинский иногда брал с собой домой Виталика Соболенко. Он всё так же бегал за Борисом хвостиком. Глинский не сумел с ним по-настоящему сдружиться, просто жалел и, что называется, подкармливал. Зато Виталика очень полюбила Надежда Михайловна: ей очень нравились его услужливость и предупредительность – и картошку-то он почистит, и посуду-то помоет, и сто раз спасибо скажет, и чего в тарелку не положи – всё нахваливать будет… Золото, а не мальчишка. Правда, глазки почти всегда печальные. Ну да – мама-то далеко осталась…
От этого маминого умиления Боря как-то раз даже ощутил что-то вроде укола сыновней ревности… Но Соболенко таскать с собой всё равно не перестал, хотя многие этого как раз откровенно не понимали. Взять хотя бы того же Новосёлова, невзлюбившего Соболенко ещё с КМБ…
Гораздо спокойнее сокурсники воспринимали то, что Борис не «качал права» с начальством и не участвовал в «кампаниях неповиновения», вроде массовой стрижки наголо или заговора для направления курсовому офицеру (кличка – Плюшевый) по домашнему адресу всё того же конверта с дубовым листком. Ребята как-то инстинктивно понимали, что Глинский не трус и не лизоблюд. Просто – такой «по жизни». Но парень хороший, свой.
И ещё все видели, что Борис не искал дружбы с высокородными «мазниками», как многие. А ведь во многом именно эти «маз-ники» задавали внешние стандарты виияковской исключительности и были своеобразными законодателями институтской моды. Кроме того, дружба с ними нередко гарантировала благополучие не только в период учебы, но и после выпуска. Тем более что такого рода «зрелость» у многих обнаруживалась почти сразу после поступления. Борис же отзывался о «супермазниках» достаточно иронично, это его присказка: «Мы просто короли поп-музыки – forever!» – стала на курсе крылатым выражением…
Ну и, пожалуй, стоит упомянуть ещё и о том, что, кроме всего прочего, Борис удивлял однокурсников быстро замеченными техническими способностями. Он мог легко и быстро отремонтировать часы в случае несложной поломки. Мог открыть заевший замок на кейсе. А на втором уже курсе отремонтировал однажды в ЛУРе вышедшую из строя аппаратуру. Дело в том, что занятия по радиообмену в авиации (бортпереводу) пользовались среди курсантов дополнительным интересом. Ведь это первый шаг к вылету за границу. Некоторые курсанты, удивляясь тому, что этот технарь делает в языковом вузе, пытались даже прилепить ему кличку Кулибин. Но она не прижилась. Потом Глинского стали называть мухандис[151], а потом уже без филологического выпендрёжа, просто по-русски: Боря-Инженер. Вообще, в институте клички давали легко и почти всем. Часто они были удачными, остроумными и хорошо передавали сущность носителя, его оригинальность в чём-то. Иногда эти клички приклеивались на всю жизнь.
Младшего сержанта Новосёлова, например, за приверженность к порядку и дисциплине тут же окрестили иронично для военного вуза – Военпредом. Он, будучи от природы неглупым, сначала злился, но потом ждал, когда завершится жизненный этап. Кличка, как известно, не галифе, просто так на иной фасон не заменишь. А ещё на курсе Бориса учился Вивальди – субтильный паренёк, заработавший прозвище, естественно, за то, что окончил музыкальное училище по классу скрипки. В том же училище и у того же преподавателя, что и Башмет[152], кстати.
Одногруппник и тёзка Бориса курсант Балан получил кличку Борух – за характерную форму носа и спортивное «амплуа»: он вместе с многочисленными словарями всегда таскал с собой шахматную доску и постоянно разыгрывал сам с собой какие-то этюды, которые брал из всех мыслимых и немыслимых журналов, в том числе довоенных, иностранных и даже эмигрантских. А ещё «араб Борух» – это запоминающийся «народный» оксюморон, вроде «негра-подпольщика по фамилии Рабинович на заводе Мессершмитта – в начале сороковых годов в Германии».
(Кстати, по поводу настоящей «пятой графы», то есть национальности, ситуация в ВИИЯ складывалась парадоксально – среди преподавателей, особенно старшего возраста, евреи встречались (а в военных и послевоенных наборах они составляли чуть ли не треть – тогда, кстати, и учились и Этуш, и Стругацкий). Но потом курсантов с иудейскими корнями практически не было. Ну разве что Веня Зауэрман – сын сослуживца Леонида Ильича по «Малой земле», главного тыловика восемнадцатой армии. Веня потом ещё и Военно-дипломатическую академию закончил – говорят, вообще единственный её еврей-выпускник. Правда, один национальный нюанс всё же был – в институте традиционно много преподавало и училось армян – считалось, что они чуть ли не генетически предрасположены к переимчивости.)
Так вот: этот Борух оказался очень серьёзным шахматистом (Тиграну Петросяну с казарменного телефона-автомата домой звонил – с воодушевлением рассказывал о только ему постижимой находке!) и с первого же курса стал «второй доской» института. Первую ему всё же не уступил доцент китайской кафедры Борис Григорьевич Мудров. Его задолго до Бориса Гребенщикова за глаза называли БэГэ. Про него говорили: «на всякого Мудрова довольно простоты» – сам-то он был далеко не прост. Это на его занятиях старшекурсники в качестве интеллектуальной разминки могли, скажем, обсуждать на китайском языке, из чего состоит привидение. И приходили к выводу, что состоит оно из собственно привидения и простыни, которую не стоит бояться. А «простынёй» китаисты называли замену иероглифа «китайское» на иероглиф «некое» в словосочетании «китайское государство» – на идеологически «не выверенной» ксерокопии газетного текста оно в оригинале очень уж по-доброму характеризовало враждебно маоистский Китай. И всё это ведь происходило в условиях идеологического абсолютизма! Времена на дворе, конечно, были уже не сталинские, но всё же… Этот Мудров, кстати, чуть ли не в одиночку составил сверхценный до сих пор словарь. Его потом даже сам Дэн Сяопин с уважением показывал Горбачёву – как пример взаимного интереса даже не в лучшие для обеих стран времена…
Что же касается любимца Мудрова «араба Боруха», то он, кстати, в институте прославился не столько шахматами, сколько различными издевательски афористичными объяснительными по разным поводам. Некоторые отрывки были признаны просто шедеврами и вошли в «анналы» ВИИЯ, например такой вот «загибон»: «…отказ от повторного за неполную декаду исполнения обязанностей овощереза прошу расценивать не в уставном контексте, а в смысле непотакания произволу со стороны мл. с-та Новосёлова И. В.».
Кстати, о младшем сержанте Новосёлове: несмотря на полученную кличку Военпред, никаким «держимордой» он не был. Более того, на «самоходы» Глинского Военпред смотрел, в общем-то, сквозь пальцы. Тем более что поесть домашнего он любил так же, как и вся остальная курсантская орава. Будучи старше Бориса всего на год с небольшим, он, может быть, даже казался бы и младше, если бы не сержантские лычки и слишком серьёзный взгляд серых, с прищуром глаз. И ещё у него было слишком развито чувство «социальной справедливости», исходя из которого при назначении языковой группы в наряд по кухне Глинскому слишком часто доставались обязанности котломоя. А быть котломоем в курсантской столовой – это, знаете ли… Это мало кто поймет из не пробовавших. Это «выше высшего предела». Трижды в сутки оттирать быстро густеющий в котлах жир (толщиной с полпальца) – это уже «фонтан», хотя ещё не «Самсон». «Самсон» начинался потом, когда «счастливчика» ещё сутки после наряда преследовал тошнотворный запах, который словно в кожу въедался через «подменку». «Подменкой» называли ветхое бэушное обмундирование, в котором курсанты напоминали штрафников. От этого запаха не то что есть – смотреть в сторону столовой не хотелось. Зато, сменившись с наряда по кухне (бывало, и к часу ночи!), ребята засыпали раньше, чем добирались до койки. И даже запах не мешал. И зубрить заданное на следующий день уже просто сил не оставалось – а ведь никто из преподавателей не принимал никаких оправданий за невыполненные задания, мол, был в наряде или в карауле. Преподаватели так себя вели не из садизма (многие из них были в свое время такими же курсантами), а чтобы привить молодым железный принцип: задание должно быть выполнено всегда и любой ценой. Был в карауле, а всё равно выполнил? Ты даже не молодец! Это просто нормально. Меньше жалей себя, парень, и у тебя всё получится…
В декабре, что самое обидное – в день празднования шестидесятилетнего юбилея отца (Борис-то и в наряд-то попал из-за чрезвычайной необходимости), произошёл с Глинским один неприятный случай как раз во время наряда по кухне. Его языковая группа принимала наряд от третьекурсников. Так вот, котломой-предшественник к котлам, которые должны были быть отдраены к сдаче наряда, даже не притронулся, решил, наверное, что сменщик-салага испугается и «сглотнёт». Борис не «сглотнул». Запахло серьёзной дракой, и дежурный по столовой, испугавшись последствий, вызвал дежурного по институту: тут, мол, закладку на ужин пора делать, а котлы с обеда не чищены. Вместо дежурного прибыл посыльный в щегольских хромовых сапогах – тот самый «перс» Витя Луговой. Кстати, едва ли не во второй раз после Борисова поступления они и встретились.
Мгновенно оценив обстановку, Луговой по праву старшего тут же остудил закипевшие страсти:
– Ты, молодой, руками-то не маши, ветер нагоняешь, а не май-месяц… А ты, Самарин, не борзей. А то следующий караул у меня до утра не сдашь! И не надо на меня щёлчками дёргать – лишнего на тебя никто не грузит…
И третьекурсник Самарин долго оттирал котлы, зло посапывая, пока Глинский и Луговой обменивались «светскими» новостями. Вот к Луговому Бориса тянуло, несмотря на разницу в возрасте и уже в статусе. Но… Вите было уже не до «детства», у него совсем другая, взрослая жизнь начиналась. Он уже жениться собрался, о чём и успел поведать Борису. Уходя из столовой, Самарин тихо, но очень зло бросил Глинскому на прощание:
– А с тобой, салага, мы ещё встретимся.
Борис ничего не ответил, только издевательски присвистнул вслед третьекурснику.
Конечно, он не мог знать, что они действительно столкнутся через годы, да так, что оба никогда не забудут, ибо как забыть резкий излом судьбы. Не знал тогда Глинский, что его жизнь тесно переплетётся с жизнью этого Самарина… И если бы кто-то сказал что-то подобное тогда, в столовке, Борис бы просто рассмеялся… У Судьбы порой странное чувство юмора… Впрочем, в институте они больше не пересекались, если не считать пары случаев в карауле, когда Самарин делал вид, что между ними ничего не было и что он вообще не знает Бориса.
Надо сказать, что в замкнутых мужских коллективах конфликты случаются довольно часто. И курсантская среда во все времена не являлась в этом смысле исключением. Ну а в далёкую советскую пору дрались не только в общевойсковых и военно-морских училищах или, скажем, в рязанском десантном (там и драка – не драка, а «факультатив» по рукопашному бою), но и в таких «мирных» заведениях, как, например, Военно-медицинская академия! А ведь про эту академию рассказывали, что там курсанты даже присягу без оружия принимают. Но… Казарма есть казарма. Суровый быт, простые нравы, скученность и физически крепкие молодые люди – ну как тут без драк? Рано или поздно кто-нибудь с кем-нибудь обязательно «углами зацепится». В большинстве военных училищ командиры на драки смотрели сквозь пальцы, если, конечно, не наступали «чреватые последствия», как выражался начальник курса майор Шубенок. Генералам тем более не нужны были эти последствия, но они тоже считали, что «офицер должен уметь дать в морду»… и вообще постоять за свой полк, а то и род войск.
(И то сказать, сразу после Отечественной войны повздорили раз командиры двух соседних полков – танкового и артиллерийского. Вроде как из-за взаимной недооценки вклада своего рода войск в недавнюю Победу. Поэтому, прямо не вставая из-за стола, привели через посыльных в боеготовность свои полки. К счастью, их подчинённые оказались трезвее, и дальше внеплановой тренировки дело не пошло.)
Так вот. Исключением в этом брутальном правиле был, как это ни странно, самый боевой по тем более-менее мирным временам военный вуз – ВИИЯ. Ни на курсе Глинского, ни на старших особых «историй» почти не случалось. Нет, конфликты, конечно, бывали, но их старались давить в зародыше. Если кто-то с кем-то «переходил на бас», к ним тут же подскакивали однокурсники и буквально растаскивали подальше друг от друга. Может быть, эта особенность возникла из-за стремления каждого курсанта попасть в загранкомандировку, а драка легко могла поставить печать «невыездного» не только на тех, кто «выяснял отношения», но и на «попустительствовавших беспорядку». Пару таких «страшных историй» в ВИИЯ бережно пересказывали из поколения в поколение.
Эти почти готические легенды и особый виияковский дух, наверное, и были основными причинами того, что скандальных, вышедших за пределы курса ссор почти не случалось. Драк – тем более. Не было почти и воровства, весьма, кстати говоря, нередкого в других военных учебных заведениях.
Впрочем, одна общая буквально для всех советских военных училищ «клептоманская беда» не обошла стороной и ВИИЯ. Бедой этой было массовое воровство хлястиков с шинелей. На шинели советского образца хлястик пристегивался на две пуговицы, а не прикреплялся намертво. Традиция эта шла с давних пор, когда шинель с отстегнутым хлястиком как бы разворачивалась и могла использоваться как одеяло. Соответственно, попытка намертво пришить хлястик к шинели и тем более отсутствие хлястика рассматривались как совершенно «невозможное» нарушение формы одежды и соответствующим образом карались. При этом почему-то отдельно купить хлястик в военторге было невозможно по определению.
Ну так вот, как только в ноябре курсанты перешли на зимнюю форму одежды, тут-то всё и началось. Хлястики пропадали, просто как корабли в Бермудском треугольнике. Это поветрие напоминало средневековую чуму. Всё развивалось по схеме классической цепной реакции – обнаруживший пропажу тут же норовил обзавестись чужим хлястиком, а то и двумя. И эти два надо было надёжно спрятать. Но в казарме прятать особенно негде, поэтому один носили с собой, второй берегли в укромном месте. А порой ещё один – москвичи хранили дома. Паранойя дошла до того, что один курсант пришил к своей шинели подписанный хлоркой хлястик гитарной струной – всё равно не помогло. Кто-то кусачками отхватил – не иначе! А как без хлястика в увольнение идти?
В итоге начальник курса майор Шубенок принял совершенно незаконное решение: посчитав в столбик необходимые затраты, он удержал у всех курсантов из стипендии, составлявшей восемь рублей тридцать копеек, по сорок семь копеек. Причём удержал действительно у всех без разбору – и у «честно обесхлященных», и у не выявленных куркулей. С этими деньжищами майор отправил каптёра Юру Милюкина (предварительно выдав ему четыре списанные шинели) в швейную мастерскую на площадь Ильича. Но и этот отчаянный шаг не смог кардинально решить проблему. Вплоть до третьего курса все поголовно, вернувшись из увольнения, снимали с шинелей свои даже подписанные хлястики. А потом «эпидемия» прошла – так же внезапно, как и началась. Наверное, ребята просто повзрослели…
Дни стремительно складывались в недели, недели в месяцы, Борис и оглянуться не успел, как закончил первый курс и убыл в первый законный месячный летний отпуск. Отпуск этот был, конечно, очень желанным и приятным, но прошел без особых приключений, поскольку Надежда Михайловна увезла Бориса на Чёрное море. Чуть позже к ним присоединился и Глинский-старший. Борис купался и загорал до одури. Познакомился было он с несколькими девушками: одна – смугленькая – даже понравилась, но под бдительным родительским присмотром даже до «предпосылок к разврату» дело не дошло. Так что после возвращения в ВИИЯ Борис с чувством собственной неполноценности внимал сказаниям однокурсников об их летних сексуальных похождениях. Эти посиделки с бесконечными эротическими сказками на виияковском сленге назывались «травлей пиздунка» – грубовато, но зато с реалистической оценкой удельного веса правды во всех этих россказнях…
И снова всё пошло своим чередом. Учёба, учеба, учёба. Время бежит быстро, если не бездельничать – а это исключалось. К тому же у второкурсников для безделья возможностей было не больше, чем у совсем зелёных, только что поступивших салаг, – среднесуточная доза новых иностранных слов и выражений, подлежащих усвоению к следующему занятию, «шкалила» порой за сотню. Курс Глинского был достаточно дружным, но при этом не столько «раздолбайским», сколько «работящим». Так что в близком окружении Бориса как-то не принято было устраивать подпольные выпивоны, как, скажем, на курсе того же Самарина – где виияковский фольклор «исторически» обогащался байками про то, как начальство «прикольно пресекло» или, наоборот, «счастливо не заметило» заветную пирушку. В группе Глинского, как ни странно, ребята подобрались не то чтобы очень уж слишком правильные, но именно к алкоголю относящиеся достаточно спокойно.
Борис продолжал регулярно сбегать в «самоходы» и всегда благополучно избегал встреч с патрулями. А ведь порой эти патрули устраивали настоящую охоту на «институток», или «вияков», – как с презрением именовали их курсанты общевойскового училища. Их, таких же краснопогонных, в ВИИЯ с неменьшим презрением обзывали «вокерами» (от ВОКУ и английского слова «работяга») или «младшими братьями по разуму». Не отказывали себе в удовольствии «прищучить „вияка“» и пограничники – «мухтары», и «шурупы» из артиллерийской академии. Гарнизонные патрули любили охотиться именно на виияковцев, чтобы поучить их, блатников, «жизни и службе». Иногда патрули брали институт чуть ли не в кольцо, а многие случаи погонь ушли в легенды и байки. Глинский в этом смысле институтский фольклор не обогатил. Ему бегать от патрулей не пришлось ни разу. Он как-то «просачивался» сквозь все засады.
Однажды Военпред – Новосёлов не выдержал и спросил Бориса после очередного удачного возвращения:
– Слышь, Инженер… Сегодня, ты знаешь, «вокеры» совсем озверели – пять человек повинтили. В том числе Колю-Мамонта, а он как-никак кэ-мэ-эс[153] по лёгкой атлетике. По бегу, между прочим. Не убежал – тремя патрулями затравили, в комендатуру уволокли. Его папа – сам знаешь кто – вживую с комендантом Москвы разбирался.
Глинский ухмыльнулся и назидательно воздел к потолку указательный палец:
– Командир, убегать нужно сначала головой, а потом уже ногами. Новосёлов несогласно мотнул головой:
– Это ты зря, Мамонт хоть и «спортсмен», но с головой у него всё в порядке.
– Кто бы спорил? – пожал плечами Борис. – Я и не говорю, что он – дурак. Просто надо обстановку в целом отслеживать. Предугадывать, так сказать, возможные тактические действия противника.
– Да ты просто стратег! – притворно восхитился Новосёлов. – Кстати, «стратег» – по-гречески «генерал». Твои б таланты, да на пользу Отечеству. Ладно, гений «самохода», смотри не зазнайся. А то, знаешь, и обезьяны порой падают с деревьев.
– Типун вам на язык, товарищ младший сержант, – искренне испугался Борис, – накаркаете ещё!
– Ты ещё через плечо поплюй! – усмехнулся Военпред.
– И поплюю!
Глинский действительно трижды сплюнул через левое плечо. Младший сержант преувеличенно укоризненно покачал головой:
– М-да… Как нам завещал товарищ Энгельс: «Бессилие и страх человека перед дикой природой породили верования в богов». Или это Маркс? Неважно. Комсомольцу, товарищ Глинский, не подобает быть суеверным. Это я вам как старший товарищ и кандидат в члены партии говорю.
– Да, командир, конечно. Буду изживать. А вот когда вы на сессии планшетку в казарме забыли и возвращаться не стали, это как?
– Это совсем другое дело. И не в связи с приметой.
– А в связи с чем же?
– В связи с нехваткой времени и необходимостью обеспечить своевременное прибытие личного состава к месту сдачи зачёта, – отчеканил Новосёлов и тут же постарался соскочить со скользкой темы: – Ладно, суеверный ты наш. Скажи лучше, хавчика-то домашнего принёс в клювике?
– Обижаешь, начальник, – Борис протянул товарищу доверху набитый снедью пакет, – командиру – первый кус!
Новосёлов тут же выхватил из пакета большой пирожок с печёночным фаршем и начал его с аппетитом уплетать. Глинский улыбнулся:
– Давно хотел спросить, командир. Вот вы сами в самоволки практически не ходите…
– Не хожу, – не переставая жевать, ответил Новосёлов, – совесть не позволяет. Раньше – комсомольская, а теперь – партийная.
И он откусил ещё кусок.
– Вот я об этом, – елейным голосом подхватил Борис. – Понять не могу: в «самоходы» бегать вам партийная совесть не позволяет, а вот хавать принесённое из «самохода» позволяет вполне.
Военпред чуть не подавился от такого наглого коварства, но, откашлявшись, мгновенно нашёлся:
– Вот кто, кто тебе сказал, что позволяет?! Она не позволяет. Она, можно сказать, меня мучает. Я, чтоб ты знал, её превозмогаю. С трудом. Видел, сейчас не в то горло пошло? Это всё она. Моя партийная совесть. Просто зверюга какая-то.
Доев пирожок, Новосёлов немедленно взял следующий. Глинский широко раскрыл смеющиеся глаза:
– Для чего же такие муки, командир?
– А ради вверенного мне любимого личного состава, – сквозь перемалываемый крепкими зубами пирожок ответил командир языковой группы. – Мучное и жирное вредят желудку и снижают физические кондиции. Так что, чем больше съем я, тем меньше вреда остальным. Это в физическом, так сказать, смысле. А в моральном – тоже: это то, с чего ты начал. Принесённая из «самохода» жратва незаконна и аморальна. Так что, чем меньше её останется остальным, тем меньшее зло они совершат. В меньшей, так сказать, пропорции примут участие в коллективном нарушении…
Новосёлов взялся за третий пирожок.
– Вы бы, святой отец, ещё бы о блуде и грехе проповедь задвинули, – захохотал, не выдержав, Борис. – Вам бы в духовную семинарию – партполитработу преподавать.
– Партию не трожь! – продолжал с набитым ртом морализировать Военпред.
– Да не трогаю я твою партию, ты жрать кончай, остальным не останется!
– Останется… Уф… Вкуснющие пироги у тебя мама печёт, – младший сержант сыто сощурился и похлопал себя по животу. – Передай ей большое солдатское спасибо с низким сыновним поклоном. А насчёт твоих «самоходных» талантов – ты всё-таки будь осторожнее. «Жигуль» – «жигулём» – это козырь неубиенный, но всё же…
«Жигули», о которых упомянул Новосёлов, и впрямь были одной из главных причин «неуловимости» Глинского. Отец выполнил обещание и, как только Боря сдал на права, отдал ключи от автомобиля и техпаспорт сыну. И уже с начала второго курса Глинский обнахалился до того, что в «самоходы» не ходил, а ездил. Хотя как сказать – обнахалился? Именно автомобиль и сводил риск к минимуму. В машине Боря держал «незаконную гражданку» – полный комплект, но пользовался, как правило, только курткой. Выбегая из дома, Глинский накидывал её прямо на китель, аккуратно доезжал в таком виде до Танкового проезда, а он, считай, рядом с ВИИЯ, находил место во дворе, парковался, сбрасывал куртку и уже пешком проникал в родной институт – через забор у строящейся санчасти. Правда, места парковок он старался менять, хотя в те времена машины в Москве угоняли нечасто.
Но всё же однажды «жигулёнок» вскрыли и ещё сняли зеркала. Борис быстро восстановил потери своими силами (отца в эту «трагедию» нельзя было посвящать ни в коем случае) и с тех пор стал кататься на машине к институту реже. Хотя полностью отказать себе в этом удовольствии не мог. Глинский не особо афишировал своего «железного коня», но в казарме – как в деревне, все про всех всё знают. Вот и Новосёлов знал, что говорил. И ведь почти накаркал младший сержант! Именно из-за «жигулёнка» чуть было не «влетел» Борис в самом конце второго курса. А дело было так: однажды тихой майской пятницей подъехал Глинский на одну из своих «заповедных» парковок, прямо под стены виияковского общежития – «хилтона». Всё было как всегда, вот только неподалеку стояла девушка, явно ловившая такси или попутку. Борис ещё издалека её заметил, потому что не заметить её было нельзя. Невозможно. И дело было не только в её точёной фигурке и шикарной гриве тёмных волос. Она была… вся какая-то яркая, необычайно хорошо одетая для того времени. Фирменные синие джинсы с какой-то бахромой на бёдрах, лёгкие замшевые полусапожки на высоком каблуке, яркая красная блузка с расшитым воротом и короткий замшевый жилет – всё это было не только стильно и даже «эстрадно», но и явно дорого.
Глинский, останавливая машину, даже пожалел, что у него просто нет времени: через полчаса вечерняя проверка. Но не успел он досетовать на злую судьбу, как девушка сама направилась к нему быстрым шагом. Борис и глазом моргнуть не успел, как она открыла пассажирскую дверь.
– Не подвезёте? Я хорошо заплачу…
Глинский глянул в её лицо и ощутил, как по спине бегут мурашки. Лицо девушки было не просто красивым, оно было необычным, очень индивидуальным. Такое лицо с другим не спутаешь, а увидев один раз, уже не забудешь. Тонкие, практически европейские черты странным образом сочетались со смуглостью кожи и странным, каким-то кошачьим разрезом огромных зелёных глаз. Девушка улыбнулась, демонстрируя шикарные белые зубы, а от этой улыбки на щеках у нее заиграли потрясающие ямочки. Оцепеневший Борис с трудом сглотнул непонятно откуда взявшийся в горле ком и, помотав головой, пролепетал:
– Я бы рад… Но… Я – курсант… Я не могу…
В подтверждение своей курсантской участи Борис сбросил куртку, «разоблачившись» до хэбэ. Да так и остался. Незнакомка удивленно повела бровью:
– А что, курсантам запрещено подвозить девушек?
Глинский почувствовал себя полным дураком, понял, что краснеет, и ответил как есть:
– Да не запрещено. Просто… Я – в «самоходе».
Девушка недоуменно обвела глазами салон автомобиля:
– В самоходке? Ваше «ландо» больше похоже на… э-э-э… самокат.
Борис фыркнул:
– «Самоход» – это самовольная отлучка. Ну когда без разрешения…
– А-а, – понимающе закивала девушка, – беглый, значит?
– Ну… вроде того.