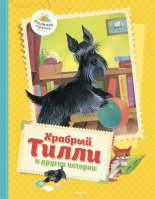Преобразователь Голосова Ольга
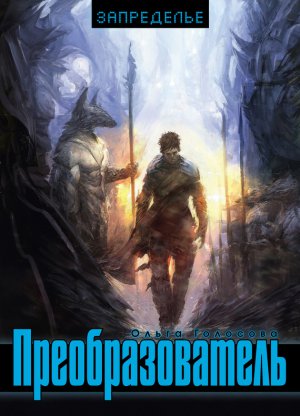
– Что еще?
– Завещание! – простонал я.
Эдик задумался.
– Ничем не могу помочь, я точно не знаю, где оно, – вдруг сказал он и оглянулся: – Честно, не брал.
– Зараза, да протрезвей же ты…
Но Эдик положил мне голову на колени и задремал. Я решил, что толку от него пока не будет, и тоже прикрыл глаза. Но голова кружилась так сильно, что я вынужден был их снова открыть. На лице выступил пот, стало потряхивать ноги. «Вот черт, – подумал я. Паленый коньяк, что ли?» Но в следующее мгновение меня осенило. И я испугался по-настоящему. Что там Эдик говорил про катализирующее действие алкоголя? Черт, черт. Я стиснул зубы и попытался расслабить мышцы, пропуская спиральные истечения боли через себя. Боль шла от икр, все туже закручиваясь к груди, слепя глаза и до отвращения обостряя нюх. Я услышал вонь кошачей мочи, смрад солярки от грузовика, запахи еды от помойки… Я уловил новый оттенок в шелесте листвы, почувствовал, как где-то пробежала собака… все исказилось, цвета померкли, и я вдруг увидел ночь. Она была наполнена миллионом тончайших нитей – это были следы присутствия жизни, биологические токи материи. За каждой ниточкой можно было идти – так идут по тропинке… Предметы стали выпуклыми, формы их потеряли привычный смысл и открылись с какой-то невыносимо абсурдной стороны… А потом я услышал зов. Он шел откуда-то справа и сзади, и я догадался, что там – существо одной со мной крови. Я ответил ему и услышал легкий переступ лапок. Передо мной стояла крыса-самка, я сразу ощутил это по особому запаху. Она принесла с собой страх, любопытство и желание подчиниться сильному. Как и все самки. Задвигав носиком, она опять ответила мне. Это было так странно… Она не была мне чужой… Она была… как… она была естественна, как мир, и я нуждался в ней.
Мне захотелось ее погладить, и я позвал ее. Она подбежала и, недоверчиво осматривая меня, снова принюхалась. Я повторил зов. Она взбежала мне на ногу, ее тельце было упругим и невесомым. Я наклонился к ней и, ощутив ее дыхание на своем лице, вдохнул сам.
В это время Эдик проснулся и заорал. Он заорал так, что крыса буквально слетела с меня и, шмякнувшись о землю, исчезла в темноте. Тут же поблизости завыла сигнализация.
– Заткнись, – прошипел я. – Чего ты орешь?
Эдик смотрел на меня, и в его взгляде я впервые в жизни увидел омерзение, смешанное со страхом.
Что ж. Я и сам теперь смотрю на себя так же.
– Чего уставился? – дружелюбно поинтересовался я. – Крыс не видел?
– Я никогда не видел тебя… таким.
– Каким?
– Счастливым животным.
Эдик был абсолютно трезв.
Я проигнорировал его реплику.
– Ты не закончил про завещание.
– Профессор отправил письмо твоей матери. Когда она была еще жива. Твой опекун перехватил его. Кроме всего прочего, в письме было сказано, что твой отец все завещает тебе, если ты есть. Он погиб ночью, пять дней назад. Он был убит выстрелом в голову, потом помещение взорвали. Нам туда не попасть: там власть Гильдии. Ты едешь в Бухару. Препарат или его следы нужно искать там.
– А как же тест?
– А ты сам не видишь? – Эдик усмехнулся с неожиданной горечью, и я осознал: нечто важное в его чувствах ко мне сейчас умерло навсегда.
– Эдик, кто я? Зачем я вам?
Эдик отвернулся, вытащил из-под лавки мятую пачку и, брезгливо отряхнув ее, вынул сигарету. Я поднял с земли зажигалку и дал ему прикурить.
Мы сидели молча, и где-то далеко над крышами появилась тонкая кайма светлеющего неба.
Эдик хоронил друга.
Я был занят тем же.
Наконец он повернул ко мне лицо, бледное в рассветных сумерках. Его полные боли глаза смотрели на меня с непонятной тоской.
– Ты можешь навсегда превратить крыс в людей, а можешь навсегда избавить мир от крыс. Ты – недостающее звено между двумя видами. Ты – их мошиах9! – Эдик захлебнулся словами и уронил голову на руки.
Я смотрел на его плечи и ничем не мог ему помочь.
– Врачу, исцелися сам! – пробормотал я.
Эдик вздрогнул как от удара:
– Что ты сказал?
– А также «кровь его на нас и детях наших10» – не так ли, Эдик?
Он медленно опустился передо мной на колени и, взяв мою руку, положил ее себе на голову.
– Знаешь, что я теперь делаю?
Я кивнул.
– Ты принимаешь мою клятву?
– Нет.
Я услышал свой голос со стороны, и мне стало жутко.
– Мой род служил твоему семьсот лет, и я буду служить тебе.
– Этого ли ты хочешь?
– Я всегда этого хотел.
– Лжешь.
Я обхватил его за шею и притянул к себе.
– Я никогда не сделаю того, чего вы хотите. Слышишь, безумец? Как можешь ты жертвовать своей свободой во имя твари, которой и названия-то в природе нет? Или ты хочешь стать ловцом человеков11? Это не моя синекура, Эдик. Как выяснилось, я тварь в тысячу раз более ничтожная, чем самое последнее ничтожество из людей. У меня даже нет души!
Я расхохотался и вскочил со скамейки.
– Вы слышите? У меня даже нет души! Я крыса! Отвратительная тварь с голым хвостом и розовыми ушами. Или какие там у меня уши? А, Эдик? В своей лаборатории вы наверняка выяснили все виды ушей моих сородичей. О, мой Бог!
Встань с колен, слепец, встань и иди! Если благодаря шашням моей маменьки у меня и есть какая-то призрачная власть, то этой властью я отпускаю тебя! Твой род отныне свободен от клятвы! Будь человеком, Эдик, ты-то можешь им быть! Уходи!
Я оттолкнул его, и он едва не упал, облокотившись о землю рукой. В глазах его застыла тоска.
Я отвернулся и пошел прочь. И от него, и от всего того, что услышал.
– Чернов, остановись, – крикнул он. – Не сходи с ума!
Но коньяк делал свое черное дело, и я, нырнув в подворотню, устремился в неизвестность.
Слишком часто мы принимаем чужую слабость за свою силу.
Глава 7
Опять Маша
Если мужику некуда пойти, он идет к бабе. Все просто. Я отправился к Маше, на ходу пытаясь сообразить, как мне до нее проще добраться. Мне нужно было выспаться, прочесть эти чертовы «мифы древней реции», и мне нужен был кто-то такой же, как я. С ним я не боюсь самого себя. С другим я боюсь его. И хотя переход девушки в крысу может доконать даже более крепкого парня, я готов был пережить и это. Итак, Маша. Но у меня не было ни копейки. И тут меня осенил гениальный, а главное, оригинальный план. Я сошел с тротуара и стал ловить машину.
Применив все похмельное обаяние, на которое я был способен, я объяснил парню-бомбиле суть проблемы: напился, посеял деньги, еду домой. Нужно подняться со мной, и жена отдаст деньги. Что будет, если Маши не дома, меня не волновало. Как-нибудь отмажусь. Не удавиться же теперь из-за пятисот рублей. Мы вошли в парадное, которое, к счастью, оказалось открытым: юркие выходцы из очередной солнечной республики мыли лестницу. Поднялись на шестой этаж. Я позвонил в дверь, и через несколько секунд она распахнулась. На пороге стояла зареванная Маша, облаченная в идиотскую девичью пижамку с котятами.
– Маш, отдай мужику деньги, а то я в долг ехал, – пробормотал я тоном мучимого похмельным раскаянием сожителя.
Маша всхлипнула и нырнула в прихожую. Покопавшись в сумочке, она вытащила кошелек.
– Сколько? – спросила она.
– Пятьсот, – ответил бомбила и ухмыльнулся: – Ну, удачи, шеф, – он еще раз хмыкнул и нахально обозрев просвечивающую сквозь рубашечку Машину грудь, отвернулся к лифту.
Я вдавился в дверь и захлопнул ее за собой. Маша стояла, опустив руки с зажатым в них кошельком, и смотрела на меня.
Я подошел к ней и взял ее за подбородок.
– Ты плакала?
Она попыталась вырваться, но я взял ее лицо в ладони.
– Я ждала тебя, я все время тебя ждала.
Она зажмурилась, переживая самое страшное и самое обыденное унижение женщины. Унижение от того, что ты вынуждена сначала сознаться в своем унижении, а потом простить его оскорбителю, потому что не простить не можешь.
Я поцеловал ее в губы. Мои руки беззастенчиво лапали ее не проснувшееся тело. Она пыталась отстраниться, но ее обида только возбуждала меня. Мои ласки становились все смелее, а она – податливее. И в тот момент, когда я ощутил наконец ее желание, она вдруг оттолкнула меня.
– Ты, наверное, хочешь есть и спать? – спросила она, отстраняясь и поворачиваясь ко мне спиной.
– Ты угадала.
– Тогда пойдем, я тебя покормлю. Она пошла на кухню, а я, сознавая, что при всем моем желании после такой ночи вряд ли буду на высоте, поплелся за ней.
Она достала из холодильника кусок вырезки и положила ее на сковородку. Движения ее были привычны и отработанны. Потом она порезала овощи и отжала апельсиновый сок. Все женщины мира одинаково кормят своих мужчин. Кормежка всегда столь физиологична, что, поддаваясь ей, я невольно захотел питаться воздухом, чтобы, в свою очередь, не быть униженным этой дрессурой. Пока я ел, она смотрела на меня, положив подбородок на руки. Потом она уложила меня и легла рядом.
– А чего? Крыса – это даже прикольно! – произнес я вслух и заснул.
Однажды Дон-Кихот на вопрос одной герцогини о его даме сердца Дульцинее Тобосской ответил так: «Существует ли она в действительности или только в воображении – это один из тех вопросов, до окончательного решения которых не следует доходить…»
Вот и я, жуя бутерброд за утренним кофе, при размышлениях о своих чувствах к Маше решил остановиться именно на этой точке зрения. Ведь любой анализ по своей сути губителен: он расчленяет и мертвит свой объект. Так что, как учил Монтень12, будем наслаждаться тем, что имеем. Или это придумали еще до него?
Помимо чувствительной стороны дела меня осаждали стайки других проблем. Главная из них – а скоко мне жить-то осталось? Или, к примеру, с кем я, по какую сторону баррикад, так сказать? А вот еще про деньги – где их взять-то? Пойти и попросить?
К тому же что мне делать со своим сложным биологическим составом? И так далее, и тому подобное, и все в таком духе. И вообще, в окошке виднелось голубое небо, во дворе весело перекликались таджикские дворники и голуби гудели на карнизе, как орган в костеле.
Намазав ломоть багета маслом и еще немного поразмыслив, я решил направить свои стопы к Анне. В конце концов, если я столь «матери-истории ценен»13, должен же я выслушать версию и от противной стороны. Судя по скупым обмолвкам Эдика, Анна и есть та противная сторона, которая не замедлила воспользоваться своим правом на меня. Уж не знаю, как там мои сородичи договаривались со своими антагонистами, но, видимо, ни тем ни другим не светит препаратик без вашего покорного слуги. Экий я Труффальдино из Бергамо14 – слуга двух господ, да и только. Впрочем, претензии обеих сторон вполне справедливы. Папа и лаборатория – Гильдии, а мама и сын – крысиные. Что ж, Господь велел делиться.
Посему визит мой наверняка санкционирован с обеих сторон. Оба-на! А ведь пьяный Эдик что-то бормотал и о третьих! А это кто? Страшное «кей джи би», остроумно переоборудованное в «эф эс бэ»? Или злая американская контрразведка? А может, фанатичные дяди в чалмах с молитвенными ковриками под мышкой? В конце концов, и абреки право имеют. Ведь расселились же они с осетрами и мидиями на брегах соленого озера, в котором водится нефть? А может, это – мировая еврейская закулиса? Нет, не она. Закулиса представлена Эдичкой. По крайней мере, он имеет к ней самое этническое отношение. Ми-2? Англичане всегда любили Восток. Как там у Киплинга? Бремя белого человека15! А шпион Лоуренс16 был просто великолепен…
Нет, Сережа, так мы истину не найдем. Посему побредем-ка мы по жаре пешочком к гордой красавице Анне и спросим ее напрямую: «Анна, кто вы и кто “третьи”»?
– Сережа? Что мы будем сегодня делать? Может, пойдем погуляем?
Я вздрогнул.
Маша стояла передо мной уже одетая.
Черт, о ней-то я совсем забыл.
– У меня полно денег. Вчера вечером заезжал отец и подкинул. Он не хочет, чтобы я работала до третьего курса, вот и подкидывает на жизнь по мере надобности.
Маша забралась с ногами на стул и, облокотившись на стол, робко поцеловала меня в щеку, на которой уже успела выступить щетина.
– Ой, как быстро они у тебя растут! – она потрогала мой подбородок пальчиком и хихикнула. – Хочешь, пойдем суши поедим! Или пошли в музей! В Третьяковку! – глаза ее счастливо сверкнули. – Вдруг я смогу увидеть все эти картины! Я столько о них читала, столько слышала, но никогда не видела по-настоящему!
– А ты сейчас как видишь? – спросил я для того, чтобы хоть что-то спросить.
Маша спрыгнула со стула и крутанулась на каблучках.
– Я вижу все! – она подняла руки и обвела ими вокруг себя. – Я вижу, что у тебя сейчас синие глаза, а вчера были тускло-серыми и волосы, выгоревшие, как метелки ковыля! Я… – вдруг она осеклась. – Почему я сказала про ковыль? Я никогда его не видела, я даже не знаю, что это… Это все из-за нее, да? Маша прижала кулачки к груди.
– Из-за кого? – я закурил и, откинувшись на стуле, подлил себе кофе.
– Из-за легенды. Помнишь? Там у… него были волосы… Сережа, ты помнишь?
Я помнил. Я даже мог сравнить их со своими. И глаза мог сравнить. Кто мне он? Прапрапра– и тэ дэ дедушка, как сказал Эдик?
– Ну и что? Все маленькие девочки любят сказки, а потом путают их с жизнью. Иди сюда, – я усадил ее себе на колени, и она прижалась ко мне. Она была такой… как… свежая булочка, вот какой. Не романтично, но хочется. Я поцеловал ее в шею, полез под майку… В общем, одну тему таким образом я замял.
– Ну, так куда мы идем? – радостно поинтересовалась она, вскакивая у меня с колен минут через пятнадцать и возвращая юбку в более функциональное состояние.
Что я мог ей сказать? Что мы никуда не идем? Что лично я пойду к одной молодой леди, которая любезно приютила меня на ночь несколько ранее Маши и к тому же еще, по всей видимости, имеет отношение к Гильдии?
– Давай так, – я сладко потянулся, до хруста в плечевых, суставах и поднялся с жалобно скрипнувшего стула. – Мы сейчас прошвырнемся с тобой до какого-нибудь уютного местечка с диванчиками, суши и полумраком, а потом у меня одна ваная встреча, которую я не могу пропустить. Сколько она продлится – я не знаю. Смогу ли я после нее прийти к тебе – тоже не ясно.
Я взял Машу за круглый смешной подбородочек и поцеловал в губы.
– Но я все равно к тебе вернусь. Обещаю.
Она обняла меня за шею и спрятала лицо у меня на груди. Она тоже все понимала, просто не могла все время помнить об этом. У нее просто не хватало на это сил.
– Я буду ждать тебя. Только тебя. Даже если ты не придешь никогда, я все равно теперь буду тебя ждать, – прошептала она. – И я никогда не отступлюсь от тебя.
Мы стояли обнявшись, и я вдруг осознал, что действительно не знаю, что теперь со мной будет. Зачем я пойду туда? Впрочем, Эдик был совершенно прав: выбора нет ни у него, ни у меня, ни у них. Или выбор есть всегда?
– Если бы только у меня была душа, как у человека, то мы встретились бы после смерти. А так? – Маша подняла лицо, и в глазах у нее стояли слезы. – Это нечестно, понимаешь, – давать нам любовь, не давая души.
Я поцеловал ее в глаза, ощутив на губах солоноватый вкус ее слез.
– Это все пустяки, как говорит Карлсон. Так что давай-ка собирайся и пойдем. Я шлепнул ее по попе, и мы пошли.
– Знаешь, что я придумала? – сказала она, выходя из кафе и весело помахивая моей рукой, зажатой в своей. – Возьми мой мобильник – ведь у тебя нет документов. Или, хочешь, я куплю тебе новый?
– Сойдет и твой. Только купи мне симку.
– У меня есть запасная, левая. Она ни на кого не оформлена. Я думаю, теперь тебе нужна именно такая!
Маша остановилась и прямо посреди дороги принялась рыться в сумочке. Выудив оттуда косметичку, нашла в ней сим-карточку, завернутую в бумажку. Не сходя с места, она извлекла айфон, иголку и ловко обменяла симки.
– На! – она сунула мне теплую от ее рук трубку. – Только фотки там дурацкие, я на них некрасивая! – она засмеялась. – А я себе новенький куплю. Вот и повод для шопинга! На симке есть немного денег. Ее номер забит в память. Набери «Вторая я». А мой нынешний – в «Первая я». А то я вечно забываю, куда деньги класть. И ты позвонишь мне. А куда мы пойдем есть? Я такая голодная!
– А пойдем к туркам на Маросейку. Там днем немного народа.
– А бизнес-ланч?
– А и фиг с ним, главное – занять диван.
И мы двинулись дальше, болтая о пустяках и слегка поджариваясь на тридцатиградусном московском солнышке.
Прежде чем уйти, она вдруг опять нырнула в свою сумку и достала из неё толстую пачку денег.
– Возьми, тебе надо, – сказала она. Ее лицо было полно муки, но она старательно улыбалась. – Я скажу папе, что мне порезали сумку в метро. А сумку сама разрежу скальпелем. У меня есть. Папа обзовет меня распустехой, но денег даст.
Она подняла на меня глаза:
– Иди же, иди скорей, что стоишь. Хочешь, чтобы я начала биться головой о землю прямо здесь? – она толкнула меня. – Иди.
Я на секунду прижал к губам ее кулачок и пошел. Я не оборачивался, но знал, что она будет смотреть мне вслед до тех пор, пока мой запах не растворится в толпе.
Глава 8
А вот и третьи
Раньше моей профессией были разговоры с неприятными людьми. Посему очередная малоприятная беседа меня не особо тревожила. Впрочем, Анна была не такой уж неприятной, да и Гильдии чисто по-человечески (хм…) я даже немного сочувствовал. Конечно, я пока мало в чем разобрался, еще меньше узнал, но совершенно очевидно: крысоловы будут, пока есть крысы. И мне от Гильдии пока вреда немного. Почему я должен представлять интересы крыс? Только потому, что я тоже крыса? Не убеждает. Я еще и сын Верховного магистра, пусть и нехорошей, но очень-очень значимой фигуры, даже после смерти. Так что, как Мальчишу-Плохишу, мне есть куда двигаться. И как ни странно, мне этот вариант отчего-то был более симпатичен. Может быть, оттого, что дружба врага более привлекательна, чем вражда друга?
Между тем мое бессознательное сыграло со мной дурную шутку. А сия шутка хоть и приблизила меня к открытию бессознательного (а значит, и сознательного) у крыс, но внесла сумятицу в мои планы. Я обнаружил себя идущим по переходу станции метрополитена «Китай-город», вместо того чтобы бодро маршировать в сторону жилища Анны.
Противиться себе у меня не было сил. Вот с чего начинается деградация личности! Вы вместо того, чтобы сделать пусть неприятный, но важный и ответственный шаг, норовите тихонечко смыться и отложить бремя решения на потом. «Об этом я подумаю завтра», – так, кажется, глаголила милая мадам Скарлетт. И от таких эскейпов вовсе недалеко до алоголизма и наркомании, азартных игр и занятия проституцией! Последним, кажется, я и так занимался негласно всю жизнь и несколько брутальнее – в последние дни.
Но я не мог, не мог прямо от Маши идти к Анне. Правда, в задницу мне то и дело впивались ключи от моей квартиры, любезно возвращенные мне Эдичкой, а в паху мешалась пачка денег, ссуженная Машей, и я мог быть свободен от… Это и делало меня несвободным. Две женщины – этим мало кого удивишь. Но я так не мог. Пока не получалось.
Всю дорогу в метро я тупо играл в айфон. При жизни у меня был «Верту», и простые радости были мне недоступны.
Очнулся я на конечной. Вышел и направился в сторону скопления наибольшего количества людей. Конечно, на ближайший рынок. Зачем? Пес его знает. Инстинкты.
Как придурок, я бродил по жаре, отягощенный оттопыренными карманами, не желая присоединяться к обществу мужчин с портфелями, барсетками, напузными кошельками и полиэтиленовыми пакетиками. Не желал я присоединяться и к тайному обществу «говенных знакомых» – Эдичка утверждал, что есть такие продолжатели дела физиков и лириков. Они носят барахло в рюкзаках и пакетах, ездят на Белое море, в Крым и на Алтай и, размышляя о судьбе России под гитару, очень много ничего не делают.
Итак, попутно прикупив себе шаурму, я бродил, пачкаясь в кетчупе и майонезе, и глазел на генезис обеих цивилизаций в действии. Одна половина человеческой цивилизации влачила жалкое существование, обреченная другой половиной на экспансию чернявых дикарей, которые за всю свою религиозно-культурную жизнь научились всего лишь лудить медь, изготавливать из глины кафельные плитки и бойко грабить. Другая моя цивилизация, вернее ее первая половина, уже никем не контролируемая из-за большого количества, бойко шныряла между ящиков и мусорных контейнеров, подтягивалась на лапках к прилавкам с мясом и, задорно попискивая, воровала из помоек булочки и недоеденные пиццы. Вторая половина второй цивилизации воровала и попискивала на ковролине и в Куршевеле. Собственно говоря, судьба обеих цивилизаций меня особо не волновала, потому что, глядя на них, я не любил ни ту ни другую. Деморализованная масса, не ведающая ни цели, ни средств, ни идеалов.
Мне бы не хотелось, чтобы наиболее продвинутые из них ловко использовали шанс в виде меня в своих интересах.
В раздумьях, которые свойственны каждому «говенному знакомому», я незаметно для себя забрел на какие-то задворки. В реальность меня вернули гортанные вопли кавказцев, которые, как стайка блудливых шакалов, окружили какогото несчастного бледнолицего. Причина воплей за спинами в потных футболках была видна плохо, и я, подойдя поближе, рассмотрел ее прямо поверх бритых и лохматых голов.
Причине было лет двадцать, она была пухловатой, белобрысой и, что, как известно, корень всех соблазнов, облаченной в рясу служителя православного культа. Причина мужественно держалась за разбитое лицо, и на физиономии ее было написано твердое желание умереть за веру. Хотелось бы, конечно, – я прочел это на физиономии – умереть не очень мученически, но это уж как повезет.
– Эй, ты, – между тем вещал один из представителей мусульманского большинства, – я твою маму…
Я всегда ненавидел, когда несколько бьют одного. И никогда не слышал, чтобы группа православных служителей, или группа «прихожан храма сего», возглавляемая православным служителем, или группа, наученная православным служителем, била одинокого имама или муфтия на задворках рынка.
Я взял за плечо ближайшего ко мне гражданина:
– Послушай, уважаемый…
Муик резко повернулся и, увидев еще одного иафитида17, выругался на своей тарабарщине, а потом с нагловатой ленцой процедил на ломаном русском:
– Эй, слушай, иди по сваим дэлам, да? Видишь, мы не с тобой говорим, мы с ним.
И тут я расстроился.
Может, от бессильного гнева за невозможность русских отбиться от ненасытных агарян18 и прочих иноплеменников, может, за острое ощущение несправедливости. А может, из-за моего собственного онтологического свинства…
Я ударил его указательным пальцем левой руки прямо в выпуклый черный глаз. Он завыл и, согнувшись пополам, схватился за лицо.
Остальные четверо мгновенно развернулись и окружили меня…
Потом, пытаясь восстановить в голове происшедшее, я нарисовал себе приблизительно такую картинку.
Возможно, я что-то сделал или что-то крикнул, прежде чем ударить следующего ногой в пах, пока он собирался ударить меня в лицо. Потом кто-то прыгнул мне на спину, но отчего-то его движения показались мне медленны и неуклюжи. Все потеряло цвет, но обрело объем, запах и звук. Я увидел его еще в полете и, удивившись, как медленно он двигается, отбил его ударом кулака в лицо. Под кулаком влажно хрустнул носовой хрящ, и человек откинулся назад. И когда я ударил ногой в грудь третьего, то заметил, что четвертый, вытащив откуда-то нож с широким темным лезвием, приставил его к горлу юнца.
И тут юнец заорал. Тогда я приписал его крик понятному малодушию, но его дикий взгляд, помноженный на замороженное от ужаса лицо кавказца, заставил меня обернуться.
Десятки крыс волнами валились с ящиков и завалов, выплескивались из щелей и, как волны Всемирного потопа, поглощали людей. Когда под шевелящейся массой упал тот, кому я выбил глаз, и твари затопили второго, катающегося по земле схватившись за лицо, четвертый не выдержал и, опустив нож, хотел бежать. Но было поздно. Огромная крыса бросилась ему в лицо с груды ящиков. Я словно смотрел черно-белое немое кино: нет звука, нет красок, только мелькание кадров.
Человеческий вой включился внезапно, мир вновь обрел краски, и время вернулось. Я видел, что людей жрут заживо. Их страшные крики раздирали воздух, и тогда юнец бросился ко мне и, запрокинув залитое кровью, опухшее от побоев лицо, закричал, вцепившись в мою рубашку:
– Остановите их, слышишите? Не надо! Там же люди! Остановите их!
Но как я мог остановить их? И тогда я схватил его за руку и поволок прочь оттуда.
Он кричал и плакал, пытался вырваться и отбрасывал крыс ногами. Твари обтекали нас и неслись туда, откуда невыносимо разило свежей кровью.
И когда я опять обернулся и увидел, как катается по земле ослепший, оглохший, сходящий с ума от боли и страха человек, я почему-то подумал, что и он был когда-то ребенком, радостно и доверчиво глядевшим в небо. Почему и откуда пришла ко мне эта мысль, я не знаю. И тогда я оттолкнул мальчишку, опустился на корточки и тихо позвал своих братьев к себе.
Первой подняла морду и ответила мне та самая крыса, которая прыгнула в лицо человеку с ножом. Она пронзительно пискнула, и крысы повернули свои подвижные мордочки к ней. На усиках некоторых рубиновыми каплями повисла кровь. И я снова позвал. Как я это сделал, и слышен ли был мой зов перепуганному юнцу, не знаю.
– Что делать? – спрашивал меня отведавший крови вожак. Его глазки хищно посверкивали багровыми искрами, а острые зубки скалились в улыбке.
И я послал их грабить мясные ларьки. Благо, крики были услышаны и сюда бежали торговцы и менты. Так что моим соплеменникам будет чем заняться, пока рынок стоит на ушах.
Я подхватил почти впавшего в коматоз неудавшегося мученика и поволок его к метро.
Я впихнул его в щель турникета, затем прошел сам и поволок парня вниз по ступенькам. Протащив его сначала по эскалатору, а потом по платформе, затолкал в подошедший поезд и, прислонив к дверям, наконец-то перевел дух. Не могу сказать, чтобы меня как-то особо трясло, – по ночам в закрытых клубах я и не так метелился по молодости, но меня поразили два момента. Первый: почему остановилось время и мир потерял цвет? Второй: появление крыс. Возможность уйти в них навсегда смущала меня.
– Ну что, отец Федор, почем опиум для народа?
Я посмотрел на спасенного мной парня и опять подивился разнообразию разрушений на его лице. Впрочем, пострадал он не слишком серьезно – походит месячишко с палитрой на морде и забудет. Я вспомнил, как орал человек, пожираемый крысами, и поежился. Пожалуй, ничего пацан не забудет.
– Т-ты… в-вы… к-кто? – разбитые губы парня опухли, а от выброса адреналина в кровь он заикался.
– Доброжелатель, – я улыбнулся и утер тыльной стороной ладони пот, заливавший мне лицо. Нормальный человеческий пот. От соленой влаги немедленно защипали содранные костяшки пальцев, и я с сожалением заметил, что с моей правой руки содрана кожа. Проклятие! Так можно и столбняк подхватить: кругом ведь сплошная антисанитария! Мне стало жаль моей красивой загорелой руки, и я озабоченно подул на щипавшие ранки.
– Что вы сделали с ними? – голос его срывался на фальцет, и я незаметно пихнул его в бок.
– С кем, мой юный друг? И вообще, не подобает служителю истины так нервничать по пустякам. Подумайте о вечности.
Юноша вдруг зарделся и опустил голову.
– Я не священнослужитель, я студент Духовной семинарии. Правда, меня скоро могут в дьяконы рукоположить, – отчего-то добавил он и снова покраснел.
– Ну, прости, друг.
Я снова оглядел свою руку, обнаружил грязь на чистеньких джинсах, и внезапная усталость охватила меня. Какого черта я все время попадаю в какие-то истории? Прямо уже Ноздрев какойто. И чего я туда поперся, и зачем я в это вляпался? Или как в том анекдоте? «Хоть какоето развлечение», – подумал узник, когда к нему пришел палач. К тому же во всем есть свои плюсы. Надо затащить экспонат к Анне: пусть приведет себя в порядок, а я отмажусь от секса и задушевных разговоров. А потом вытолкаю его восвояси, учиню допрос и… Ладно. Поживем – увидим.
– Поедем в одно местечко, – обратился я к семинаристу, пытающемуся осторожно ощупать физиономию. – И перестань елозить – тоже мне Хома Брут.
Про себя я отметил, что, кажется, этот сезон в моей жизни протекает под эгидой русской классики. То Грибоедов, то Гоголь… Дальше, вероятно, начнется Достоевский.
– Поехали в одно местечко, там умоешься, переоденешься и поедешь по своим делам. Нечего форму дискредитировать – я кивнул на его перепачканную рясу.
– Мне нельзя, мне ко всенощной в монастырь надо, – пробормотала жертва межконфессиональной розни в одностороннем порядке.
– Во сколько всенощная?
– В шесть.
– Поздравляю: ты не успеешь.
Я достал телефон, к счастью не пострадавший:
– Время – семнадцать ноль-ноль. А с такой рожей, эншульдигунг зи мир битте19, вам на всенощную лучше не ходить. Вас там не поймут.
– А как же исповедь? – спросил он у меня.
Я подумал.
– Придется в другой раз.
– А завтра праздник, все причащаться будут…
– Я не богослов, мой смелый друг, но мне кажется, что участие всех еще не повод для участия в празднике лично тебя. Кстати, ничего, если мы на «ты»?
– Ой, я забыл вас поблагодарить… – он посмотрел на меня, как красавица на рыцаря. – Вы спасли… спасли мне жизнь.
– О, какие пустяки, не стоит благодарности. Подумаешь, повздорили с неверными по поводу одного местечка из Блаженного Августина20…
Он вдруг рассмеялся.
– А как же кузина-белошвейка?
– Тс-с, мы к ней и едем.
– А…
– Все будет тихо и благоговейно. Она мне как сестра.
О… Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Почему-то своей полудетской физиономией с не отмытой безжалостным временем невинностью на лице юноша напоминал мне новорожденного. И вообще, люди любят тех, кому причинили добро. Или я опять перепутал цитаты?
Квартира Анны ничуть не изменилась, как и сама Анна. Под тихий скулеж жертвы межконфессионального конфликта, которую, кстати, звали не Федором, а Петром, я настырно звонил в дврь минуты три, пока не услышал лязг и скрип отпираемой двери.
– Ты? – в ее голосе не было ни особого удивления, ни особой радости. Только усталость. – Проходи, – но, заметив за моей широкоплечей фигурой чудо в подряснике, она на секунду потеряла дар речи. Однако оперативненько взяла себя в руки и, не скрывая изумления, поинтересовалась:
– А это еще кто?
– Мой друг, ДЭрбле21. Готовится стать аббатом.
Петр запунцовел, а Анна, скептически хмыкнув, оглядела его округлую фигуру, отчего синюшно-багровая физиономия моего свежеобретенного друга приняла апоплексический оттенок.
– Берегись инсульта, – я пнул юношу, и он, переступив через порог, застенчиво огляделся.
На этот раз Анна была облачена в длинное синее платье-рубаху с вышивкой вокруг выреза и по краям широких рукавов. Эта тряпка необычайно шла ей, подчеркивая восточную красоту.
Звякнув браслетами, она запустила пальцы с длинными ногтями себе в шевелюру и яростно почесала голову.
– Нашлялся? – спросила она, моментально напомнив сварливую жену из сказок «Тысячи и одной ночи». – А другу кто рожу набил? Тоже ты? А то в прошлый раз тут полотенчико…
– Нет, злые черкесы, – перебил ее я. – Или кабардино-балкарцы. А может, даже и «друг степей калмык». Короче, басурмане. Кофе дашь? И ему компресс на морду?
– И коньяку, и какаву с чаем. И на морду примочку.