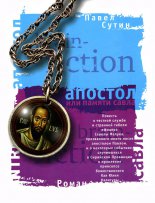Никто, кроме президента Гурский Лев

Я сделал еще несколько шагов и внезапно заметил, что на участке Звягинцева особняк – не единственное строение. За двухэтажным домом скрывался еще полутораэтажный каменный флигель, весь обсаженный деревьями. Мне пришла в голову дурная мысль, что, будь я магнатом, я мог бы устроить тут хранилище. Не обязательно для денег… хотя почему, собственно, и не для них? Эту большую металлическую, наверняка бронированную дверь просто так, для защиты садового инвентаря, не вешают. Чушь, конечно, при чем тут деньги? Ты ведь не спятил, Виктор Ноевич Морозов. Ты же не думаешь, что Звягинцев именно здесь держал миллионы на черный день. Ты же понимаешь, что деньги у таких хранятся в швейцарских банках, в особых ячейках отдельных сейфов, на депозитных счетах с номерными кодами. Ты же не поверил дурацкой шоферской байке о продюсере Пеклеванове и деньгах в тумбочке.
Удивительное дело: я совершенно себя уговорил, что мне тут нечего делать и надо вернуться к особняку, однако почему-то все стоял, задрав голову, ловил носом дождевые капли и глазел вверх.
Хотя три окна первого этажа были беспросветно забраны тяжелыми ставнями, одно, чердачное, выглядело ничем не закрытым. В него даже можно заглянуть, если подняться по этой пожарной лестнице, для страховки держась еще за клен; тем более, что в такую погоду никто не увидит… Честное слово старого газетчика: я и не собирался касаться лестницы. И уж тем более по ней взбираться. Ну разве что попробовать из интереса, как в «Форте Байярд»…
Ступеньки наверняка ржавые и меня не выдержат. Нет, как будто ничего, крепкие. И клен прочный. Тогда, пожалуй, я еще на одну поднимусь – и тут же слезаю обратно…
Короче, я долез до самого верха.
И раз уж я имел глупость залезть, то было бы двойной глупостью не заглянуть в окно. Скиентиа эст потентиа. Знание – та же потенция, как говорил Бэкон. Я ведь по специальности кто? Газетчик, между прочим. У меня основной инстинкт – любопытство. Конечно, никакой горы денег я не увижу, но все-таки… Я обозвал себя идиотом и прислонил мокрый лоб к холодному стеклу. За ним обнаружились внутренние жалюзи, однако не сплошные. Полуоткрытые. Обзор есть.
Сперва я вообще ничего не увидел. Потом что-то увидел, но не понял, что. А когда мне показалось, что я понял…
Небесная вода вместе с воздухом только и ждали моего крайнего замешательства: пока я балансировал на верхотуре и собирал мысли в кучку, эти друзья Маяковского коварно напали с тылу, пытаясь сдуть и смыть меня вниз. Ветер вновь толкнул меня в поясницу, дождь бойко хлестнул в правое ухо. Удайся их подлая затея на сто процентов, я бы сейчас валялся на мокрой земле со сломанной ногой или вывихнутой шеей. А так я сумел достойно сползти вниз почти без потерь, навернувшись только с предпоследней ступеньки. И отделался всего одним разбитым коленом – мелочь.
Земля, впрочем, была действительно мокрой, а еще вдобавок грязной. Склизкой. Колено болело. Я хотел встать, но передумал.
Потому что прямо над ухом у меня вдруг кто-то задышал – злобно, шумно и не по-человечески глубоко, а в шею уперлось нечто твердое. Кажется, железное. И голос надо мной поинтересовался:
– А чего это вы тут делаете?
Даже если это был голос хозяйки, в моем положении о миллионе пока лучше не заикаться. Могут неправильно понять.
16. ФЕРДИНАНД ИЗЮМОВ
Мелкий начинающий бог, типа меня, имеет одно важное позиционное преимущество перед крупными и опытными коллегами – Аллахом, Буддой и прочей бессмертной командой, пришедшей в этот бизнес намного раньше моего. Тем друзьям, чтобы доказать свое существование, надо вечно крутиться и периодически являть адептам какое-нибудь чудо. У Нектария Светоносного с чудесами напряженка – финансы не позволяют, я не Дэвид Копперфильд, – зато в меня и не нужно тупо верить, поклоняясь картинкам или статуям. У меня особенная стать. Я и так имеюсь в наличии. Вот он я, живее всех живых: можно увидеть невооруженным глазом и услышать ненагруженным ухом. Ко мне можно воззвать и получить ответ, не отходя от кассы. Меня даже, теоретически, можно потрогать руками, хотя никому из адептов я стараюсь этого не позволять. Кроме Марты с Марией, которые делают мне педикюр.
– Дети мои, – сказал я четверым новообращенным, двум телкам и двум козлищам, – сегодня у вас знаменательный день. Я, ваш бог, подключу ваши души к великому источнику Мирового Света. Вы покаетесь и очиститесь, вы отринете скверну и взалкаете добра, вы найдете истину и будете приобщены. Примите же позу внимающих, произнесите трижды: «О Нектарий Светоносный!» – и трижды снизойдет на вас сияние моего духа.
– О Нектарий Светоносный! – четверка дружно бухнулась на колени, задрала вверх носы и, обратив раскрытые ладони к потолку, приложила большие пальцы к бровям. – О Нектарий Светоносный! О Нектарий Светоносный!
Окончательный вариант позы внимающих я придумал в состоянии цугцванга, когда Минюст России в первый раз изготовился серьезно прищемить мне хвост, а первый грозный факс из «Эмнести Интернэшнл» в мою поддержку три дня подряд не желал проходить: видимо, какой-то из божков дикой природы, Даждьбог или Бальдр, вздумал показать новичку, кто тут в пантеоне пахан, а кто шестерка. Я уж был готов искать поддержки у мозгоправов из Института Сербского – благо после реанимации мне удалось слегка закосить под дурачка и срок действия справки с диагнозом «вялотекущая крыша» в те времена еще не истек. С этой целью мне понадобилось быстро скорректировать ритуал, сделав его как можно менее осмысленным. Прежде мои адепты обязаны были вставать на четвереньки и дрыганьем правой и левой ног попеременно выражать приобщенность к Свету. Такая позиция выглядела вполне дебильной, но слишком уж напоминала часть утренней гимнастики. А вот растопыренные пятерни вверх придавали сидящим адептам вид среднеазиатских варанов, впавших в каталепсию, – самое милое дело для моей отмазки… Потом факс прошел, Минюст попятился, справка не пригодилась, а дурацкая церемония осталась.
Ну и фиг с ней: мало ли какой ахинеи я нагородил, складывая свой имидж? Тут любая реникса годится в дело. Когда ум заходит за разум, открывается дырочка в мозгах. И мы, боги, входим туда без стука. Возьмем, ради примера, дядю Кришну. Вот уж кто сумел сочинить для адептов улетное шоу, даже не приходя в сознание! Ну казалось бы, чего глупее? Худсамодеятельность. Бродить в ярком, бить в бубен, петь песни. Еще бы пару гитар плюс медведь – и можно учинять цыганский табор. Но ведь работает! Зажигает! Рейтинг приличный, отзывы хорошие. Минюст скрипит, но гнется.
В моем божьем имидже настоящих творческих удач пока всего две. Дизайн хламид и новое имя. Зато последним я горжусь особенно. Нектарий Светоносный! Каково? А?
Не стану вешать собак на имя паспортное. Мамаша моя придурочной была, это факт неоспоримый, но большому писателю даже Фердиком Изюмовым зваться не западло. Великому дуче нацвозрожденцев или командиру гей-тусовки – не западло и подавно. А вот богу, извините, нужно богово. Посконный Изюмов здесь не пропирает. В мессианские хроники следует попадать с правильной кликухой. Ту же Мусю Цвигун подвела небрежность: ну что за имя для бога – Мэри Кристмас? Поздравление какое-то, а не имя. То ли дело я! Все продумано четко. Нектар – пища богов, а не людей; стало быть, из двух евхаристий, моей и Иисусовой, моя будет рангом повыше. С другой стороны, Нектарий есть в святцах, значит, православных мы не обижаем. Что касается Светоносного, то я выставил эпитет назло Клюеву-Лабриоле. В отместку за тот штукарь баксов, зажиленный у меня. Если он Сияющий, я буду Светоносный. И мы еще поглядим, кто из нас светит ярче…
– Внемлите, обращенные! – торжественно произнес я и бабахнул в настольный гонг. Антикварная, кстати, вещица. – Ныне пришла пора распахнуть души, изгнать оттуда мрак и впустить тот вечный Свет Истины, что ярче тысячи солнц. Начнем с тебя.
Я указал пальцем на ближайшее ко мне патлатое козлище. Парней обратить быстрее и легче, потому я обычно разгоняюсь на них.
– Назови свое мирское имя.
С этого приказа я стартую и им же ограничиваю официоз. Фамилия адепта, его прописка и воинский учет богу без надобности. По окончании обряда всем, конечно, придется заполнить подробную анкету, однако бумажками у нас ведают Марта с Марией. Сам Нектарий выше бюрократии. Выше и чище. Сизым орлом он парит над бренностью. Но, в отличие от птичек, ни на кого не гадит сверху.
– Ярослав, мой боже.
– Скажи, о Ярослав, от какого мрака ты желаешь очистить душу?
За основу тренинга я беру элементарную практику штатовских первичных групп психологической поддержки. Чем больше всякой дряни человек выпустит из себя, тем больше освободится места внутри него. Это место – уже ваше. Теперь адепта можно нашпиговать Добром, Любовью и Светом, словно утку – яблоками.
– Грешен, мой боже! Я изнурял плоть дурной травой и белым прахом. Нет мне прощения.
Так, марихуана и кокаин. Еще один кающийся нарк на мою голову. Среди козлищ у меня таких около трети, и за ними нужен суровый пригляд. Если этот явился толкать травку моей пастве, то очень скоро он получит сильнейший пинок под зад. А если он и впрямь идет к завязке, то для борьбы с Минюстом такие – наиболее ценный капитал. Живое доказательство пользы моей методики. Сравните: уральский гуру Эдик Лилиеншвагер сажает нарков на цепь, а Нектарий врачует словом. Одну дурь в башке заменяет другой.
– Есть тебе прощение, Ярослав! – возвестил я. – Свет уже проник в твою душу, я наблюдаю первые отблески. Ступай же изучи первую главу «Нектария Оздоровителя», а после явишься ко мне на собеседование… Следующий!
С другим новичком, лопоухим носатым Игорем, оказалось еще легче. Он покаялся в двух мелких кражах из супермаркета и юношеском онанизме, после чего был милостиво прощен и отправлен зубрить первую главу «Нектария Указующего».
Из двух сегодняшних телок первая, Варвара, лет сорока на вид, задала мне задачку. Она с таким жаром обзывала себя самкой волка и так яростно твердила о презрении, которая она к самой себе за это испытывает, что я заподозрил, будто у нее довольно редкая и трудноизлечимая мания – ликантропия. Но после наводящих вопросов я въехал: речь идет о банальной супружеской измене. Оказалось, она сбежала к любовнику-инженеру от мужа-философа, а тот в отчаянии поджег свой дом.
– И сам он тоже сгорел? – сурово спросил я. На тех, кто прямо или косвенно был повинен в смерти, мною налагалась добавочная епитимья вместе с еженедельным нарядом по уборке келий.
Выяснилось, однако, что муж целехонек. Он даже спас от огня постельное белье и часть домашней библиотеки.
– Есть тебе прощение! – С этой присказкой я выпроводил Варвару читать первую главу «Нектария Безгрешного».
Осталась последняя адептша – очень молоденькая и даже довольно миленькая, несмотря на уродскую современную стрижку. Но вся она при этом выглядела какой-то поникшей и прибитой. Словно бы пожар, устроенный Варвариным мужем, затем перекинулся и на ее кукольный домик, спалив там все дотла. Включая домашнюю скотину, чад, домочадцев и телевизор.
– Как тебя зовут, о дитя? – осведомился я у вероятной жертвы огненной стихии.
– Ада…
Что-то необычное в ее тоне заставило меня переспросить:
– А полное имя?
– Адажио.
Вот оно в чем дело, подумал я, мигом проникаясь сочувствием к бедняжке. Это нам знакомо: детские стрессы, школьные дразнилки, понимающие рожи педагогов. Мне ли, Фердинанду Изюмову, не знать, как могут отравить жизнь предки-фантазеры? Сам я обязан именем пьесе «Коварство и любовь», которую моя чокнутая маман обожала. Но в младших классах детей не знакомят с классикой немецкой драматургии. Зато они читают польскую сказку «Фердинанд Великолепный», где моим именем зовут пса. В ожидании Шиллера мне пришлось о-о-очень долго от всех отгавкиваться.
– Музыкальная мама? Да? – предположил я.
Только музыкантам-профи может забрести в башку идея такого издевательства над чадом. Адажио! А почему не назвать ее Аллегро-Модерато? Одна американская mother даже додумалась до имени Кондолиза. Так бедняжка до сих пор не замужем.
– Нет. Отец…
В сказанном слове «отец» вновь проскользнула какая-то обреченная нотка. Я, большой знаток перверсий, сразу обо всем догадался. Тест на инцест, дело ясное.
Писатель Изюмов – дока в извращенцах с во-от такими маниями, фобиями и филиями. Однажды я чуть было дуриком не покорил Голливуд, двинув туда сценарий картины «Братья Садомазовы». Братья у меня стреляли из луков по лягушкам, чтобы после их, полудохлых, оттрахать. А затем продать французам – на мясо. Все уж было схвачено, сам Твентино почти повелся, но затем один местный мозгоправ перебил мне малину. Подсунул мэтру свой сценарий, «Большие греческие похороны». Типа реального случая из практики. Про то, как в городе Афины, штат Огайо, чувак пришил папу и поимел маму. И жил с ней долго-счастливо, пока один спец по мозгам случайно не докопался до истины и чувак в тоске не перерезал полгорода… Знаете, отчего в Штатах так мало нас, богов? Потому что там переизбыток психоаналитиков, которые жрут наши нектар и амброзию.
– Папа делал с тобой что-то… нехорошее? – осторожно спросил я, готовый к мрачной истории в духе романа «Отцы и бесы».
– Нехорошее, – слабо кивнула девушка. – Делал… и продолжает делать. Но только не…
Дверь в комнату громко скрипнула. Адептша Ада испуганно умолкла. На самом, блин, важном месте!
Я был лично готов дать пенделя дурехе Марте, не вовремя влезшей с прессой. Из всех газет я читаю одну «Свободную», где есть полоса «Религия» и где дважды писали про меня. Потому я и велел приносить свежий номер «СГ» в назначенный час. Но разве трудно обождать, когда видишь, что Учитель занят? Вдруг он на связи с астралом? Или прыщ на носу давит?
Вырвав газету у Марты из рук, я нетерпеливым жестом прогнал ее за дверь и заново настроил себя на волну милосердия.
– Что «только не»? Продолжай, бог тебя внимательно слуша…
Окончание застряло у меня где-то в дыхательном горле. Потому что я машинально глянул на первую страницу и уже ни хрена не слушал.
С газетной полосы на меня таращились трое знакомых ублюдков. Слишком знакомых. А заголовок не оставлял даже слабого шанса, что ублюдки – просто похожие. Нет. Те. Бывшие мои ученички опять напомнили о себе. Аттракцион прежний: «Нацвозрождение победит, или Летающие яйца Фердинанда Изюмова». Но раньше их скандальчики замыкались во внутреннем круге, а теперь гады вышли на уровень международного скандалища. Генсек ООН – не какой-то министр труда или даже местный поп-идол. За шишку такого ранга вставят конкретно. И, как вы думаете, кому первому?
Ада-Адажио продолжала что-то говорить, но я понял, что сейчас не в состоянии уразуметь ни слова.
– Э-э… – сказал я. – Мы продолжим обряд обращения попозже. А пока мне срочно нужно… подпитаться энергией от Мирового Света… Иди пока, изучи первую главу «Нектария Хранителя». А по пути передай строгий наказ Марте с Марией: кто бы сегодня ни звонил, всем отвечать, что меня нет.
Девушка вышла, а я прочел заметку и сосредоточенно изорвал газету в мелкие клочья. Дубины. Кретины. Гидроцефалы. Из всех моих премудростей они выучили лишь одну, факультативную – теорию прицельного яйцеметания. И теперь возрождают Россию только таким способом. Поди докажи властям, что у бога другие интересы и что он уж давно не танцует ab ovo! В любую минуту ко мне войдут внимательные люди из ФСБ…
– О Нектарий Светоносный! – раздался шепот.
В полуоткрытую дверь комнаты просунулись две женские головы с почтительно вытаращенными глазами. Опять сестричка Марта, а с нею – сестричка Мария. Видимо, добить меня сегодня хотят.
– Что вам еще, о тупицы?
Оказалось, меня к телефону. Свой аппарат я отключил, но параллельный остался на линии. И дурынды не смогли справиться с наказом давать от ворот поворот всем звонящим. Для этой парочки соврать, что их бога нет, – кощунство запредельное!
– Федеральная Служба Безопасности, капитан Лаптев Максим Анатольевич, – представился мужской голос в трубке. – Вы позволите мне сейчас зайти к вам?
– Зайти? Да, конечно, – наидружелюбнейшим тоном сказал я.
Хотел бы я взглянуть на того камикадзе, который ответит: «Не позволю»!
17. ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
После завтрака ко мне опять пожаловал Фокин, собачий воевода.
– Здравствуй, Паша, – сказал он. – Как спалось?
– Привет, – ответил я, зевая в ладонь. – Нормально.
С некоторых пор Собаковод брал пример с Винни-Пуха и шастал в гости по утрам. Причем каждый визит его был расписан по одной схеме. Сперва приоткрывалась дверь моей комнаты, и туда осторожно заглядывал один из дежурных конвоиров. Проверял, не сижу ли я в засаде, не собираюсь ли я метнуть гостю в башку предмет потяжелей – вроде чугунного блина от штанги. Полностью верить картинке на мониторе эти болваны опасались: а ну как я обдурил камеру слежения? Только убедившись, что видимой опасности нет и я всего лишь читаю книгу (или мучаю гитару, или рисую человечков на бумаге, или просто валяюсь на койке, глядя в потолок), они запускали в комнату двух собак. Те усаживались по обе стороны от пустого стула и таращились на меня в четыре глаза. После чего, наконец, являлся Фокин собственной персоной.
Неделю назад я объяснил ему, что он копирует торжественный выход римских императоров. Только у тех была туника вместо «адидаса», ручные пантеры вместо псов и легионеры вместо дуболомов. Поэтому копия, как ни крути, выходит на троечку. «Умничаешь? – нахмурился Собаковод. – Смотри у меня!» На другой день, вернувшись к себе после тренировки, я не обнаружил среди книг ни двухтомной «Истории Древнего Рима», ни «Жизни двенадцати цезарей». На их место мне положили том «Жизни животных» Брэма. За вечер я его от нечего делать проштудировал и в следующий раз встретил Фокина сравнением с двадцатиметровой китовой акулой. Собаковод был даже польщен – до той минуты, пока я скромно не добавил, что эти громадины питаются планктоном. То есть ме-е-е-елкими рачками. Брэм тут же исчез, а книги по римской истории вернулись – хотя и со следами собачьих зубов. Должно быть, Фокин отрабатывал на моих цезарях команду: «Апорт!»
На сей раз Собаковод забрел ко мне явно не просто так, а с новостью. Надеюсь, это та самая долгожданная новость, которая все изменит. Именно потому мне требовалось проявлять как можно меньше интереса к его персоне. Пришел и пришел. Его власть.
– Как настроение? – спросил Фокин.
– Нормальное, – ответил я и зевнул совсем уж неприкрыто.
– Что-то сегодня ты, Паша, не особо разговорчив.
Собаковод, похоже, не торопился с главным. Ну и мне не к спеху. Яблоко с дерева должно падать естественно. Будешь сшибать его камнем – подберешь кислятину. Первый закон Мичурина-Ньютона.
– А про что мне говорить? – сыграл я в равнодушие. – Про экономику? Про политику? Про жизнь вообще? На собачью тему я, по крайней мере, болтать не умею. Я и не знаю, отличается у вас гладкошерстный терьер от стаффордширского или нет?
– Отличается, Паша, отличается, – снизошел Фокин к моей тупости. – Шерстью, окрасом, высотой в холке… да всем, короче… Ладно, разрешаю говорить про жизнь. Я чего-то сегодня добрый. Даже на вопросы отвечу, если умные задашь.
А вот сейчас – внимание: ни в коем случае не приближать его к наводящей теме. Подальше, подальше от края. Его можно позлить, но нельзя настораживать. Он должен быть уверен, что новость, которую он принес, – сюрприз для меня. Он ведь не знает про тот клинышек газеты. И тем более про записку, которую я в три приема написал в сортире, превратил в маленький бумажный комочек и сейчас держу в носке.
– Вопросы… – протянул я с задумчивым видом. – М-да…
Была одна тема, выгодная для меня и не шибко приятная для него. За время плена я тянул за эти ниточки раза три, не чаще; впервые – еще в самом начале. Всякий раз Фокин раздражался и говорил чуть больше, чем следовало.
– Чего притих? Умные вопросы все выветрились из головушки? – подколол меня Собаковод.
Теперь пора. Барабанная дробь. Я показываю зубы.
– Почему же все? – сказал я. – Один остался. Мне все-таки интересно знать, зачем человек по фамилии Фокин влез в это дерьмо? Все у него было и так – и деньги, и профессия, и положение. Какого рожна ему еще надо?
В глазах у Фокина полыхнул злой огонек.
– Ты, Паш, на грубость нарываешься, – угрожающе обронил он. – Сейчас вон свистну охрану, вколют тебе пару кубиков кетамина и перестанешь быть таким любопытным. Будешь как дерево.
– Ладно-ладно. – Я изобразил испуг и поспешно поднял руки. – Не надо как дерево. Молчу. Если нет желания, можно не отвечать.
После этих моих слов Собаковода понесло:
– Да мне ответить – не фиг делать. Тоже мне, Иисусик нашелся. Он весь в белом, а мы, значит, в дерьме… Думаешь, я только из-за денег впрягся? А может, я из-за справедливости? Почему одним – все, а другим – кукиш? Почему одни при понтах, а другие – на побегушках? Человек, Паша, не дудка, чтоб на ней один «Собачий вальс» играть. Это тебе мой параграф первый. А вот тебе мой параграф второй: человек, Паша, не остров в океане. Все мы друг с другом плотно повязаны. Только козел радуется, когда похоронка тормозит не у него, а у соседа. А кто с понятием, тот соображает, что завтра траурный марш сыграют и у него…
Я знал это с самого начала! Слова были Фокина, интонации были Фокина, но мысли он взял напрокат. Песни с чужого голоса всегда отличаются от собственных. У нашего Собаковода – хорошая память, здоровое сердце, твердая рука, великолепный нюх, но он исполнитель. Задушить кого-нибудь, взорвать, утопить – это ему так же легко, как его собачкам поссать. Но вот чтобы придумать всю комбинацию, от начала до конца, – нет, это ему не по мозгам. Такой махиной собаководы в одиночку не управляют. Он всю дорогу старательно изображает центрового, но действует, как минимум, в паре. Раз пять или шесть он на моих глазах откладывал решение и уходил с кем-то советоваться. Эти музыкальные сравнения – тоже далеко не случайность. И если я прав… если только я прав… Нет, лучше не думать об этом. Из всех допингов ненависть – самый ненадежный. Мой план слишком важен, чтобы в неподходящий момент подвели нервы и дрогнула рука.
– Я с понятием, Фокин, – смиренно сказал я.
Собаковод исподлобья глянул на меня, но уж что-что, а укрощение строптивого я за это время разыгрывать научился. Тюремщики знали, что я могу взбрыкнуть. Но взбрыкнув, обычно сдаю назад. Последний раз я твердо шел на принцип, добиваясь спортзала.
– Черт с тобой, – махнул рукой Собаковод, – раз понятием владеешь, то будет тебе подарок. Готовься, сегодня у тебя внеплановая прогулка. Недалеко. Часа через два Новиков тебе занесет шмотье – чистое и глаженое. Он тебе сам объяснит, чего и как. А если будешь себя на выгуле прилично вести, то и завтра дам тебе, хе-хе, попастись. И поводок нацеплю подлиннее, чтобы в лапах не путался.
Сердце мое застучало: слово сказано. Только бы не выдать себя! Равнодушия, равнодушия в голосе побольше! Я сломался. Я тряпка. Я просто Паша. Я привык к четырем стенам. Я никуда не хочу.
– А прогулка – это обязательно? – как можно безразличнее осведомился я. Чуть-чуть даже с оттенком нытья. – У меня тут книга интересная попалась, про египетских фараонов, я бы, может, лучше почитал, а?
– Обязательно, – отрезал Фокин, вставая со стула.
Собаки тут же снялись с мест, чтобы прикрывать хозяйские тылы. Пока он уходил, обе внимательно смотрели на меня и пятились к двери. Но сам хозяин и не подумал обернуться. Такая размазня, как сегодняшний Павел Петрович, был не способен даже плюнуть вслед тюремщику. Какое приятное заблуждение!
Дождавшись, когда дверь закроется, я тоже поднялся с места и, будто бы ведомый мочевым позывом, удалился в сортирный загончик. Здесь была своя телекамера, однако три четверти ее сектора я научился перекрывать затылком, справляя малую нужду. К тому, что я делаю это долго и с громким кряхтением, наблюдатели давно приучены. Хронический простатит сыграть нетрудно. Не фуга Баха.
Основное я сделал в темпе, и у меня осталось не меньше минуты, чтобы, исправно кряхтя, потренироваться с шариком из жвачки, пока еще без начинки. Ап! – шарик в ладони. Ап! – шарик пропал. Ап! – он есть. Ап! – его нет.
Среди книг, полученных мною в пользование, оказался том «Сто великих циркачей мира». Из него я вычитал про знаменитого фокусника Гарри Гудини, который умел под водой отделаться от цепей. До Гудини мне, конечно, как до Эльбруса. Но, возможно, благодаря простому фокусу от оков смогу избавиться и я.
18. МАКС ЛАПТЕВ
За досье надо ухаживать непрерывно, как за комнатными цветами: дней пять не полил – и вместо растений получаешь гербарий. Я уже не раз попадал впросак, доверившись лентяям, а в позапрошлом году из-за этого чуть не погиб. Мне дали в разработку украино-японского теневого дельца Панаса Сугимото. Тот, по последним данным, занимался транзитом девушек с Львiвщины и Ивано-Франкiвщины в бордели Гонконга, Макао и Бангкока. Данные наши, увы, оказались предпоследними. Когда на зимней трассе Черемхово—Иркутск мы с ребятами из УФСБ по Восточной Сибири нагнали его трейлер и вскрыли, нас только чудом не затоптали. Сукин сын Сугимото, представьте, уже полгода как переключился с барышень на быков-производителей элитных пород. В итоге мы имели две диких недели беготни и нервотрепки, а жители Свирска, Усолья и Ангарска – две веселых недели бесплатной корриды…
Сейчас я глядел на Фердинанда Изюмова и мысленно крыл самыми последними словами тех героев невидимого фронта, кто состряпал мне изюмовский «бегунок», а заодно с ними наше Управление регистрации и архивных фондов – целиком и без исключения.
В досье, затребованном мною с утра, была до деталей расписана эмиграция этого деятеля. Вот парижский период, вот нью-йоркский, вот опять парижский. Все три – прошлый век, 80-е годы. Очень актуально. Так же подробно говорилось о трех его ранних книгах – «Гей-славяне», «Дырочка для клизмы» и «Я пришел дать вам водки» (первую из них я даже читал, еще в самиздате). Российский его период освещался гораздо скромнее. В основном, были сведения об участии в президентских выборах, кандидатом от сексуальных меньшинств (собрал 0,33% голосов). Дальше следовали: выписка из его больничной карты – с шестью жирно подчеркнутыми словами «состояние крайне тяжелое, возможен летальный исход», фото мумии в бинтах, а затем – краткая выжимка из рапорта информатора «Беликова». Про то, как Ф. Изюмов «налаживает первые контакты с радикальным движением Национального Возрождения России». Последний по времени файл состоял из одного номера телефона.
Номер был правильным. Все остальные файлы – уже сплошной гербарий. Реальность и досье не цеплялись никак. Кто, по-вашему, эти парни и девушки в золотистых хитонах, замеченные мной при входе? Педерасты с лесбиянками? Национал-радикалы? Не похоже. Скорей, они смахивали на ангелов кануна раздачи крыльев. Сам господин Изюмов, несмотря на белые одежды, уже ничем не походил на больничную мумию с фото: вообразите себе гибрид Папы римского с летчиком-космонавтом СССР в снежном парадном мундире. Плюс узенькая бородка старика Конфуция.
Чтобы скрыть замешательство, я поиграл желваками. Хозяин дома кивнул, одним движением большого пальца распустил ангелов и провел меня в кабинет. Или в спальню. Или в столовую. Короче, кроме нас двоих, там присутствовали еще лежанка, два стула, книжная полка, телевизор на гнутой подставке, стол и гонг.
Я извлек из нагрудного кармана визитку и положил на стол, рядом с гонгом. Чтобы хозяин квартиры, упаси Боже, не забыл, откуда я, кто по званию и как меня по отчеству.
Хозяин не забыл.
– Имейте в виду, Максим Анатольевич, – первым делом доложил он мне. – К этим яйцам никакого отношения я не имею. Все в прошлом. Они давно – отдельно, я – отдельно. Заявляю вам об этом официально как сотруднику ФСБ.
– Так-таки никакого?
Я ничегошеньки не понимал, но вложил в свои слова побольше сарказма. Когда ты не в теме, заставь собеседника оправдываться.
– Уверяю вас! – Гибрид понтифика с Гагариным приложил руку к левой груди, где на его одеянии было вышито солнце. – Абсолютно никакого! Я давно оторвался от них, даже думать о них не желаю.
Понятнее не становилось. Я по-прежнему блуждал в потемках. Что за яйца? Почему отдельные? Что от чего оторвалось? Он что, кастрировал себя и возглавил секту скопцов?
– Но ведь раньше вы были с ними – одно целое? – уточнил я на всякий случай.
– Формально, лишь формально! – Изюмов затряс бородкой. – Я их держал при себе просто из любопытства. Больше вам скажу: эти маленькие дряни мне только мешали. И как только я от них избавился… – Он закатил глаза. – То было невероятное чувство радости. Я обрел свободу. Я обрел свет. Я обрел настоящих учеников. Я могу лететь.
Вот уж кого я никогда не понимал, так это убежденных скопцов. Не хочешь – не пользуйся, но к чему совершать необратимые поступки? Вдруг через год-другой передумаешь? Ан поздно. Пути назад нет.
– Но ведь жалко, наверное, было? И больно? – спросил я.
– Что вы! – услышал я в ответ. – Все произошло естественным путем. Как листья осенью облетают с деревьев, так и они отлетели от меня. Я подозреваю, они и сами мечтали от меня освободиться. Пока они были при мне, я их держал, можно сказать, в ежовых рукавицах. Не давал им развернуться во всю их дурную силу…
Мне стало неуютно. Сусанна Евгеньевна коварно отправила меня к несчастному больному человеку. Пусть даже и писателю в белых одеждах. Ну кто, кроме психа, может говорить о частях своего тела как о живых существах? Был, правда, в русской литературе один майор, потерявший нос. Но никто не слышал, чтобы по Питеру за своим носом гонялся лично Николай Васильевич Гоголь!
– …а уж вчерашнего безобразия я бы наверняка не допустил, – тем временем развивал мысль Изюмов. – Я всегда ценил и ценю институт ООН, мы с Куртом Вальдхаймом даже как-то вместе пили текилу на брудершафт… И чтобы вот так, яйцами, в Генерального секретаря… Это не мой стиль, разве не заметно?
В мозгах у меня взорвалась световая граната. Ну конечно! Вот что значит зациклиться на ложной версии. Когда он толковал про маленьких дряней, то имел в виду не свои придатки, а именно юных человеко-негодяйчиков. А ведь я, когда завтракал, слышал краем уха по радио о выходке в библиотеке. Но из-за лакун в досье Фердинанда даже не подумал увязать его с теми хулиганами. От яйца до возрождения нации – миллионы лет эволюции.
Значит, наш колобок с ними водился, потом от них укатился, а кто же он сейчас? Давай же, Макс, оценивай со второго взгляда, раз ты лопухнулся с первым.
Так. Судя по наряду, ангелам в его прихожей и болтовне про свет, он подался в духовные пастыри. Сегодня это ненаказуемо, если ты не пичкаешь травками людей до смерти и не переписываешь на себя их квартиры. Даже на самого поганого из этих гуру, Клюева, он же Сияющий Лабриола, наша Контора с трудом нарыла материал на две-три мелких уголовных статейки: гипноз без лицензии, продажа нейролептиков без рецептов, попытка развратных действий в отношении лиц, признанных по суду недееспособными… Короче, лет пять колонии при плохом адвокате или год условно – при хорошем.
Изюмовская вотчина выглядела прилично. Паства улыбается живыми, а не химическими, улыбками. Хламиды вроде чистые. Из кухни не воняет машинным маслом. Криминальных пятен на полу и стенах незаметно. Да и сам владелец китайской бородки не похож на анфан террибля из досье. Что ж, реанимация меняет людей. Капитан Пеньков по прозвищу Пенек, самый большой скряга в нашем Управлении, попал в ДТП, а выйдя из больницы, простил долги, уволился из органов и теперь выращивает цветы. Я, говорит, думаю о вечном. Хотя зарабатывает, собака, втрое больше прежнего.
Неизвестно, в какой степени переродился Изюмов, но внешнего благолепия у него сегодня навалом. Это не выводит его из круга подозреваемых. Никакая бородка, никакие сверхбелые одежды не гарантируют, что к пропаже Звягинцева он не причастен. Однако я почти уверен, что если спущусь в изюмовский подвал, то не найду там трупа Звягинцева, освежеванного под людоедские мантры. Изуверы Мэнсоны и выглядят, и пахнут иначе.
Я решительно свернул яичную тему – к нескрываемому облегчению хозяина, – после чего перевел разговор на главное. И сразу же заметил, что Фердинанд не столько встревожен моими вопросами, сколько удивлен. Либо искусно разыгрывает удивление.
– Звягинцев пропал? Неужто? И в «Листке», вы говорите, про это было? – Он подергал себя за бородку, будто проверял, не отвалится ли. – Интересно. Не знал. Я ведь «Листок» не читаю… А почему вы, собственно, с этим пришли ко мне? На вашем месте я бы жену его, Сусанну, первой записал в подозреваемые.
– Чем же она подозрительна?
– Всем! – без раздумий ответил мой собеседник. – Женщины с такою черной кармой способны на любое. Думаете, не она подучила мужа урезать мне спонсорские, прямо перед выборами? Тридцатник, сумма смешная, половина норковой шубы, но как бы они мне были кстати… А-а, чего вспоминать! Одно скажу: чем больше люди приземлены, тем сильнее ими владеют соблазны. А уж если у тебя дома полно антикварного оружия, если топоров и молотков всюду навешано… Повздорила с мужем, тюк его по голове – и привет.
Про себя я усмехнулся. Воистину: «Аукните, и вам ответится». Сусанна послала меня к Фердинанду, Фердинанд направил обратно, так и будем бродить по кругу… Вслух же я спросил:
– А вами разве не движут соблазны? Соблазн мести, к примеру? Соблазн наживы?
– Месть, Максим Анатольевич, это не мой профиль, – тотчас же открестился Изюмов. – Это удел ограниченных людей – или же крупных богов. Такая вот странная компашка. Упертым людям не жаль ни времени, ни сил на идею-фикс, они могут хоть жизнь на нее угрохать. А всемогущие боги отомстят мимоходом, испепелят гору или там человечка – и все, проехали. Новый день, новые заботы… Поскольку от вас, чекистов, правду не скроешь, то признаю: я злопамятен. Будь я великим Зевсом или бессмертным Саваофом, и я, быть может, не удержался кого-нибудь растереть в порошок. Но я – бог маленький, живой, домашний. Метать молнии я не умею. А подкладывать на стулья кнопки не хочу.
– И что же, маленькие боги не нуждаются в деньгах?
– Нуждаются, – согласился Изюмов. – Но мы выкручиваемся без криминала. Мои адепты платят за учебу и посвящение, а потом еще у меня, допустим, есть договор с «Мосэнерго» на брэнд-рекламу.
– Это как? – не понял я.
– Все дело в тарифах, – пояснил Фердинанд. – Вы же знаете: население покупает киловатты подешевле, а предприятия – подороже. Потому энергетикам в плюс, чтобы сами горожане экономили. Тут мы смыкаемся. И я тоже считаю, что Свет – категория духовная, а не материальная. Сияние – оно в душе человека, а не вовне. Вот, гляньте, это для расклейки в метро…
Мелкий бог протянул руку и достал с полки стопку рекламных квадратиков. На них изображалась перечеркнутая электролампочка, ниже шел текст: «НЕКТАРИЙ. Не потому, что от Него светло, а потому, что с Ним не надо света». И номер телефона.
– Остроумно, – признал я. – Вы, стало быть, теперь Нектарий? Красивое имя. Но со стихами Анненского вы обошлись варварски, это зря. Не боитесь, что любители поэзии побьют?
– Нас не запугать, мы привычные, – с достоинством сказал Фердинанд, он же Нектарий. – Христа вот тоже распяли за чужие грехи. А подправить стишок – и грех невеликий, и деньги верные, и законом не запрещено. Вам, понимаю, как работнику органов, интереснее, чтобы я зарабатывал другим. Киднэппингом, например, да? Но только не воровал я вашего Звягинцева, слово бога. Хотите верьте в меня, хотите нет.
19. BASIL KOSIZKY
Где-то я вычитал, что товарищ Сталин в последние годы, опасаясь покушения, требовал от охраны постоянно менять маршруты. Так что всякий раз добирался от «ближней» дачи до Кремля заковыристыми путями… Сегодня мне тоже довелось побывать в шкуре усатого генсека: из-за пробок в центре и двух закрытых на ремонт транспортных развилок нашему кортежу понадобилось совершить немыслимый крюк. На официальную встречу с президентом Волиным меня повезли в Кремль по Крымскому валу через – вы не поверите – Таганку.
Но нет худа без добра. Зато я проехал мимо Театра на Таганке и увидел свежие афиши. «Мастер и Маргарита» у них все еще в репертуаре. С ума сойти!
Когда я был послом Украины, мы с Сердюком ходили на этот спектакль. Как киевлянин киевлянина, я вообще ценю Булгакова и к фильмам или спектаклям по его мотивам всегда отношусь ревниво: не замайте земляка. Но любимовская версия мне приглянулась. Даже мой теперешний бодигард, который в ту пору служил в Безпеке, а числился атташе по культуре, постановку снисходительно одобрил. Особенно сцену бала у Сатаны – с голыми барышнями.
– Помните Таганку, Сердюк? – Я легонько толкнул его в бок.
– А як же! – причмокнул мой охранник. Глаза его затуманились. – Уж не забудешь. Такие пирожки с капустой у них в буфете… – По моему лицу Сердюк понял, что сморозил что-то не то и поспешил добавить: – …ну и заварные пирожные, само собой…
– Эх, Сердюк! – только и вздохнул я. – Вам же, по легенде, полагалось нести культуру в массы. О чем вы, интересно, говорили на приемах с другими культурными атташе? Неужели о пирожках?
– Да нормально вроде говорили, – пожал плечами Сердюк, – вполне четкие были ребята, без этих умственных штучек-дрючек.
Тут я сообразил, что эту должность в посольских штатах всех стран традиционно оставляют за собой разведка и контрразведка. Поэтому Сердюк, разумеется, находил общие темы с коллегами. Белыми воронами как раз бы выглядели подлинные профильные атташе. Ежели такие птички вообще встречаются в природе.
Сердюк, впрочем, и так входил в любой коллектив, словно патрон в обойму. Когда я перетаскивал его из Киева в Нью-Йорк, то больше всего опасался языкового барьера. С детства мой бодигард разговаривал на русском, и никакие иные языки по-настоящему ему не давались – даже на чистой рiдной мове он мог общаться без перерыва минут пять, не больше: после скатывался на суржик, а затем вновь на русский. Я подумывал о включении в группу секьюрити ООН переводчика-универсала, но это оказалось ни к чему. Возглавив мою охрану, Сердюк не стал прогибаться под многоязычный мир, а решительно прогнул его под себя. В группе моих телохранителей подобрался разномастный народ – Жан-Луи Дюссолье из Экваториальной Гвинеи, австриец Ханс Шрайбер, чех Ян Палинка, финн Аки Туртиайнен и прочий интернационал, – поэтому рабочим языком был, естественно, английский. Однако меньше чем через неделю им сделался русский. Жан-Луи удачно вспомнил учебу в московском Лумумбарии. Ханс – что его бабка была в советской зоне оккупации и, может, он сам на четверть украинец. Аки – что изучал русский в школе. И даже стойкий Янек, которого назвали в честь мученика 68-го года, вскоре без напряжения употреблял слова «вотка», «устаф», «товарисч» и «тывою мать»…
– Спасские Ворота, – доложил шофер. – Первая машина прошла.
Я глянул из окна и увидел темно-красные каменные зубья стен над головой, а возле моей машины – ровный строй почетного караула.
Местные кутюрье нарядили гвардейцев в высокие кивера, которые с «калашниковыми» сочетались, на мой вкус, нелепо – ну как если бы московские музейщики вздумали добавить на задний план «Бородинской панорамы» пару танков «Т-80», для полной победы над Наполеоном. Правда, в Киеве тоже был потешный охранный полк, одетый в форму времен гетьмана Конашевича. Но это войско у нас по крайней мере охраняло от туристов Верховную Раду. А на фоне нашего депутатского цирка смотрятся естественно хоть гайдамачьи шапки, хоть ночные колпаки с бельевыми прищепками.
Нет, все-таки здорово, что мы с Сердюком теперь в Объединенных Нациях, подумалось мне вдруг, и я даже не устыдился цинизма своей мысли. Родину нужно любить издалека, чтобы чувства не притупились. Самые большие в мире жовто-блакитные прапоры и самых горячих патриотов незалэжности нэньки-Украйны я встречал в Монреале, Сиднее и Буэнос-Айресе… К счастью, у ООН история коротенькая, никакому кутюрье не разгуляться. Потому охрана у нас в Нью-Йорке простая – без лампасов, выкрутасов и экзотики.
– Раз-два-три, готовность, – забормотал Сердюк в микрофончик, который заметно топорщил узел его галстука. – Через полторы минуты наш выход. Первая машина, Ян, слышишь? На тебе правый фланг, Жан-Луи держит левый. Третья машина, Ханс, слышишь меня? Ты держишь тыл. Василь Палыч, ждем еще буквально полминутки, пусть ребята займут позицию. Нас должен встречать этот фрукт, Железов, но я его пока не вижу… Угу, вот и он. Василь Палыч, еще секунд двадцать форы, нас сейчас припаркуют… Все, можно выходить. Я первый, строго по инструкции, вы за мной.
Я вылез строго по инструкции, мрачный Железов что-то сказал Сердюку, тот махнул рукой, и дальше все понеслось привычно – по протоколу. Капельмейстер с тамбурмажором. Герольдмейстер со штандартом. Церемониймейстер с пергаментным лицом. Гвардейцы делают «на караул», детишки тащат букеты, девушка выносит хлеб-соль, краюха под солонкой знакомо надкусана… Сердюк все же не удержался от проверки! И когда, стервец, успел?
Телекамера была всего одна; судя по сонному взгляду и похоронному костюму оператора, только штатная. Или журналистам моя встреча с президентом России до лампочки, или к прессе тут опять охладели. Думаю, второе. Ромашка закончилась не тем лепестком, выпало: «Не любит». Для Кремля это дело обыкновенное, сколько себя помню. Вот у американцев свобода слова – мудрая старая нянька. Раздражайся на нее или нет, она всегда есть и всегда права. А в России она – новая подружка с большими запросами. Хамит, плачет, закатывает скандалы. И периодически это злит. То ее к сердцу прижмем, то к черту пошлем. Сезонное явление. Как прилив и отлив, как зима и лето… Как смена внутреннего убранства кремлевских палат.
– Василь Палыч, у них снова был ремонт! – восхитился мне на ухо Сердюк. – Какие деньжищи опять вбухали в стены!
– Сам вижу, – тихонько шепнул я в ответ. – Не слепой.
В Кремле я далеко не впервые, но привыкнуть к нему нельзя. Ты воображаешь, что уже знаешь, какой он внутри и что от него ждать. И обманываешься: он опять другой – непохожий на себя, неожиданный и непостижимый.
Сначала мне казалось, будто это часть хитрой игры российского руководства, призванной поставить в тупик любого гостя. После я довольно долго полагал, что здешние интерьеры есть зеркальное отражение политики России. Будучи послом, а затем и премьером, я выстроил на этом фундаменте множество прогнозов. Мол, если в дизайне верх берет суровая византийщина – дорогие темно-красные тона, бархатные шторы, тяжелые ковры, массивные люстры, золотые шандалы, суровые богатыри в огромных рамах, – то в кремлевской партии верх взяли имперцы с идеей «особого пути». Если же в оформлении преобладает разумный прагматизм – экономичные светлые тона, минимум гранита с мрамором, но много пластика, легких деревянных панелей и ажурных бра, – то победу одержали сторонники интеграции России в Европу на общих основаниях.
Лишь год-полтора назад я выяснил, что заблуждался: ни к внутренней, ни к внешней политике меняющийся облик Кремля никакого отношения не имел. Дело было в финансовых тонкостях, а также в личной инициативе Сдобного – многолетнего здешнего управделами. Всю красоту давным-давно прописали в бюджете отдельной строкой, и каждый год Сан Саныч Сдобный получал на нее из казны внушительную сумму. Ее и требовалось ударно освоить, не проворонив ни копеечки. Турецкие, швейцарские, французские, американские подрядчики ежегодно сменяли друг друга, и вслед за очередным капитальным ремонтом всякий раз уменьшалось число стран, согласных принять Сдобного в гости без неприятных для того последствий. Думаю, когда-нибудь ему придется обращаться к дизайнерам из Габона или Камеруна, но пока еще не израсходована Азия. Я, по крайней мере, в новом облике Кремля на каждом шагу обнаруживал явные дальневосточные мотивы. Место роз и гвоздик в орнаментах заняли карликовые вишневые деревца, Айвазовский на панно напоминал Хокусая, а у Трех Богатырей отчетливо прорезались самурайские скулы. Вся эта новизна показалась мне симпатичной, даже трогательной, но я почему-то решил, что теперь Сан Санычу лучше бы не ездить и в Японию. Мало ли что…
Метров за пять до входа в Екатерининский зал на горизонте снова возник Железов. Мой Сердюк сейчас же выдвинулся вперед и снова обменялся с ним неслышными репликами.
– Ханс, Жан-Луи, Ян, – скомандовал он, вернувшись к нам, – занять позицию. Формат встречи «два плюс два». Все трое у наружных дверей, вместе с этим Железовым, а внутрь заходим только мы с боссом. Тут сегодня простой вариант, без жен, без фуршета, тридцать две минуты беседы. Потом мы выходим и дальше следуем по обратной схеме. Янек ведущий, Ханс справа, Жан-Луи слева, я сзади… Василь Палыч, еще пять секундочек, там, кажись, ихнюю музыку заело.
Президент России был вдовец, и этот печальный факт сильно упрощал церемонию: мне не нужно было тащить в Москву мою благоверную Олесю Ивановну, а службе протокола – лихорадочно изыскивать мероприятия, которые могли бы ее занять, пока высокие мужи переливают из пустого в порожнее. Оружейную палату и Царь-колокол она уже осматривала раз сто. Не меньше.
Ровно через пять секунд из динамиков грянули первые аккорды бывшего советского гимна, который по наследству отошел России – вместе с Черноморским флотом и тяжким прицепом внешнего долга Всемирному банку. Распахнулись дубовые двери, обитые по краям серебристой драконьей чеканкой. Я и Сердюк сделали несколько шагов вперед по трехцветной ковровой дорожке. Президент Волин с официальной приветливой улыбкой уже шел нам навстречу.
Со времен нашей прошлой встречи лет десять назад он, по-моему, ничуть не изменился. Такой же подтянутый, энергичный, крепкий – только гораздо бледнее, чем раньше. Кабинетная работа, увы, не способствует хорошему цвету лица. Я и сам, как часто ругается супруга, похож на привидение с мотором.
– День добрый!
– Здравствуйте!
Мы протокольно обнялись и пожали друг другу руки. Ритуал давно определен: одно объятие-рукопожатие вначале, другое в финале. А между ними – полчаса в глубоких креслах, разделенных низким столиком с минералкой, двумя стаканами и двумя флажками.
– Я очень рад… – Волин заглянул в блокнот, который лежал у него на ручке кресла, – …что всемирная борьба прогрессивных сил против терроризма и экстремизма отвечает Уставу ООН и последним резолюциям Совета Безопасности…
– В свою очередь… – ответил я, скосив глаз на шпаргалку, лежащую у меня на колене, – …мне приятно осознавать, что такая великая мировая держава, как Россия, в столь трудном вопросе поддерживает все инициативы Совета Безопасности ООН…
Разговор наш был даже не обязательной дипломатической жвачкой, вроде той, что я выдавал на вчерашней конференции в библиотеке. Это было абсолютно пустое сотрясение воздуха. Ноль. Меньше ноля. Важны были не слова, а нюансы. Интонация. Ширина улыбки. Глубина кивка. Сила рукопожатия. Я пытался прочесть на лице российского президента ответ или хоть намек на ответ на главный для себя вопрос, ради которого я приехал: последует ли вето России, когда моя кандидатура будет внесена на Совбез? Да или нет? Чет или нечет? Орел или решка?
– …и в замечательном деле сохранения мира в так называемых «горячих точках» мы решительно присоединяем свои усилия к…
– …и благодарны политическому руководству Российской Федерации, которое сдерживает эскалацию региональных…
На быструю победу я себя не настраивал. Я успел изучить биографию Волина и знал, что до прихода в политику тот служил в Первом Главном Управлении КГБ СССР, то есть во внешней разведке. Отбор туда был жесткий. Лицо без особых примет считалось лишь самым первым и самым мелким вступительным взносом в эту организацию. Далее всех кандидатов в штирлицы учили доводить никакое выражение лиц до совершенства. Для ПГУ идеальное зеркало души должно было только втягивать и ничего не отражать. Если верить физикам, именно так устроены космические «черные дыры».
– …потому что в наше непростое время…
– …когда мир перестал быть многополярным…
Я считал себя неплохим физиономистом, но Волин ускользал от меня, словно угорь. Словно обмылок в банном тазике. На секунду мне даже померещилось, что за этим скрывается какое-то важное зияние: будто ящик со стеклянной вазой доверху набили упаковочными пенопластовыми шариками, но забыли положить саму вазу. Хотя она не пропала – она где-то рядом, как истина в «Икс-файлах», любимом сериале Олеси Ивановны. Будь я нестрогим экзаменатором, а Волин – бойким студентом-отличником, я бы не рискнул задавать ему дополнительные вопросы: вдруг засыпется? Вдруг за пределами вызубренного учебника – не твердая почва, а болото?
– …был признателен за…
– …завтра мы непременно…
Вот и все. Первый тайм прошел всухую. Я так ничего и не понял. Может, это «ничего» означает скрытое «против»? Нет, малейший негатив я бы почувствовал, на такое у меня нюх. Странно. Завтра второй и последний мой шанс – три часа в Большом театре. Если он и в неофициальной обстановке будет таким же никаким, то я приезжал зря.
Президент Волин и я поднялись со своих кресел одновременно. Сидевшие в отдалении мой и его охранники тоже встали и переместились к нам. Я обратил внимание, что президентский бодигард ниже моего на целую голову и менее широк в плечах. А я-то воображал, что в охрану первых лиц традиционно нанимают только шкафов-амбалов – чтобы те, если уж выхода не будет, загородили клиента собой. Наверное, волинский телохранитель берет чем-то другим – ловкостью, меткостью или быстротой. Хотя лично мне и на габаритного Сердюка грех жаловаться. Когда надо, он летает, как птичка.
На прощание Волин опять приобнял меня, пожал мне руку и…
Что за шутки? К ладони моей, у самого указательного пальца, тут же приклеилась какая-то мелочь, вроде мягкой круглой карамельки. Машинально я едва не смахнул на пол этот ненужный мусор, однако у меня хватило ума перед тем глянуть в лицо Волина.
Оно было по-прежнему благожелательным и бесстрастным. Но что-то быстрое, живое и отчаянное, на миг пробежало по этому лицу – впервые за всю сегодняшнюю встречу. И я как можно незаметнее соскреб липкую чепушинку себе в боковой карман.
Всю дорогу, пока мы с охраной следовали обратно по кремлевским коридорам, меня разбирало мучительное любопытство. Однако выудить находку из кармана я, осторожности ради, решился только в машине – и то лишь после того, как выехали из Спасских ворот.
Это была совсем не карамель. Это был шарик из жевательной резинки. И внутри у него оказалась какая-то свернутая бумажка.
ЧАСТЬ II. ПРЯТКИ
20. БЫВШИЙ РЕДАКТОР МОРОЗОВ
Сколько я отсидел в чулане – сказать не могу: часы мои не пережили падения с лестницы. Но едва меня выпустили на свет, я заметил, что этих стало уже трое. К Сусанне Звягинцевой и ее жуткой лохматой собаке присоединился высокий красивый мужчина с почти такими же выбеленными, как у хозяйки, волосами.
Рядом они смотрелись почти братом и сестрой. Только мадам была стопроцентно крашенной под седину, а тип выглядел натуральным альбиносом или, вернее сказать, очень-очень светлым блондином. Таких полно в шведских трехиксовых журналах, строго запаянных в пластик. И еще такие водятся в «Старшей Эдде», «Песни о Нибелунгах», «Калевале» и прочих северных враках о той ужасной поре, когда не было ни информагентств, ни пресс-служб, ни главных редакторов газет, ни даже самих газет. Нишу свежих новостей до краев заполнял тот самый брехливый эпос. Как люди могли выжить в этих нечеловеческих условиях – не представляю…
– Кто он такой? Что он знает? – спросил нибелунг у хозяйки, кивнув в мою сторону.
Сусанна внимательно оглядела меня и наморщила лобик. Я понял, что наша первая встреча не оставила у нее ярких воспоминаний. Тем лучше. У меня почему-то пропало желание обсуждать тут бизнес-план новой газеты и просить инвестиций. Мне даже найденные четки – и те расхотелось возвращать.
– Видеть я его видела, – задумчиво сказала хозяйка, – усы эти мне знакомы. Может быть, и у Звягинцева видела, не помню. А может, в «Царской охоте» или где еще. Ты же знаешь, любимый, память у меня девичья.
– Девичья, ну ты выдала, подруга, ха-ха… – Смех у блондина оказался не из самых приятных. Словно теркой о камень. – Сколько лет тебя знаю, а таких времен уже не застал. Ты, дорогая, по-моему, с рождения была женщиной. Как золовка Йормунрекка.
– Сергиенко, а ну брось свои пошлые шуточки! – обиделась Сусанна и даже топнула ножкой. – И не смей опять сравнивать меня с твоими дурацкими норвежскими ископаемыми. Не смей, а то мы снова поругаемся! Я, к твоему сведенью, была девушкой, класса до восьмого абсолютно точно.
– Йормунрекк не из норвегов, а из вестготов, – примирительно уточнил нибелунг с хохляцкой фамилией Сергиенко. – Правда, насчет его золовки разные источники спорят. Возможно, она была из рода ульдра-великанш.
– Э-э-э… – рискнул я подать голос, чувствуя, что разговор уходит в сторону от моей персоны.
Не то чтобы я сильно хотел привлечь внимание этих людей и этой собаки. Но, как говорится, дубиа плюс торквент мала. Неизвестность пугает сильнее.
– Р-р-р… – Лохматое страшилище подняло башку и грозно заворчало в ответ.