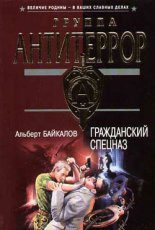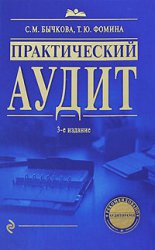Супервольф Шишков Михаил
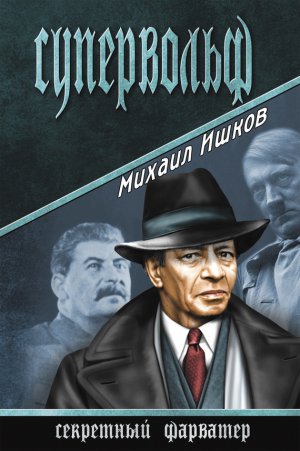
Лаврентий Павлович, сверля меня все тем же испытующе-недоуменным взглядом, вывел Мессинга в другую комнату, и там с нескрываемым удовольствием лично завязал мне глаза черной тряпкой. Затем, грубовато надавив на плечи, усадил во что-то мягкое, кожаное и предупредил охрану.
— Пуст посидит в этом кресле.
С порога добавил.
— И поразмишляет над тем, что ждет его в будущем.
* * *
Это был своевременный совет, особенно в устах такого проницательного и на удивление напористого человека, каким выказал себя Лаврентий Павлович.
Вернувшись, он снял с моих глаз повязку и, внимательно выслушав, в чем заключаются обязанности индуктора, с характерным акцентом принялся давать мне указания. Я с изумлением выслушал, что команды он будет отдавать кратко — «налево», «направо», «вверх», «вниз», — повторять будет не более трех раз.
Это было то, что надо, и я горячо поддержал его, только заметил, что количество повторов нельзя ограничивать заранее.
— Сколько же раз я должен повторят команды? — удивился Лаврентий Павлович.
В этом вопросе я ощутил нескрываемый оттенок снисходительного презрения, какое испытывает профессионал имея дело с профаном. Чтобы понравиться своему индуктору, я поинтересовался.
— Простите, Лаврентий Павлович, как мне вас называть?
— Обращайтес ко мне «товарищ нарком». Можно «наркомвнудел».
— Как? — удивился я. — Нар…вну…ком…отдел?
Лаврентий Павлович четко повторил.
— Нар-ком-вну-дел! Итак, сколко раз я должен повторят ту или иную команду?
— До тех пор, пока я не угадаю ее и не исполню.
— Хорошо, уважаемый. Но учтите, никаких иних мислей или, что еще важнее, сведений, хранящихся здесь, — он постучал себя указательным пальцем по лбу, — ви не имеете права касаться.
Я испытал химически чистый, ничем не замутненный страх. Прекрасное будущее, о котором я размышлял, сидя в сталинском кресле, внезапно кувырнулось в бездну. Оттуда не было возврата, так как, имея дело с таким глазастым человеком как Лаврентий Павлович, я никогда не смогу доказать, что НЕ ЧИТАЛ ЕГО МЫСЛИ! Что все дело в идеомоторных актах.
Я принялся оправдываться.
Наркомвнудел не перебивая выслушал меня, потом кивнул.
— Хорошо, попробую вам поверит, но после сеанса мы обязательно заедем ко мне, и вы подробно напишете, как вам удаются такие фокусы. Постарайтесь оказатся на высоте и не подвести товарища Пономаренко. Его рассказы о ваших чудесах очень заинтересовали товарища Сталина, так что имейте в виду…
Только значительно позже я догадался, что имел в виду Лаврентий Павлович, приглашая меня на Лубянку. Там я набрался бесценного опыта и теперь с высоты четырнадцатого этажа готов поделиться эти знанием со всяким, кто желает проникнуть в будущее. Это не простое ремесло и даже очень не простое, оно сулит знатоку не только успех и аплодисменты, но и неожиданные трудности.
Если кто-то из романтически настроенных читателей заинтересуется, как можно работать в таких условиях, могу заверить — такие испытания являлись в то время нормой, modus vivendi строителей социализма. Ответственно подойти к выполнению задания считалось делом ума, чести и совести этой эпохи. Мне пришлось на собственном опыте убедиться, что «ответственность» сама по себе, вольная и осознанная, не привязанная как служебная собака к какому-то высокопоставленному и напыщенному «изму», способна творить чудеса. Приглашение на Лубянку заметно подстегнули Мессинга, ведь провались я в тот вечер, и наше дальнейшее общение с любезным Лаврентием Павловичем закончилось бы не совсем так, как мне бы хотелось. Ради сохранения мира во всем мире я был просто обязан в полной мере проявить свои возможности.
Признаюсь, в тот вечер я был в ударе. Мало того, что я с легкостью отыскал в кармане товарища Пономаренко сталинскую трубку, которую хитроумный Каганович, вопреки заранее оговоренному условию, предложил спрятать в саду или в отдельно расположенной бане, но и провел несколько поисков, уже не контактируя с рукой наркомвнуотдела.
С помощью Лаврентия Павловича, с ходу и вполне сносно овладевшего искусством индуктора, я нашел загаданный товарищем Молотовым том Советской энциклопедии, в нем нужную страницу. Прочитал заданные абзацы, второй сверху и последний снизу, сложил номера страниц на развороте тома и громко прочитал на гербе Союза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Присутствующие пришли в восторг и, как дети, начали придумывать все новые и новые задания. Товарищ Сталин с большим увлечением принял участие в этой игре.
Это был незабываемый вечер. Мне приходилось складывать и перемножать громадные числа, по мысленной команде вождя, которому тоже захотелось побывать в шкуре индуктора, пересаживал людей с дивана на диван. Затем я повторил трюк с поисками предмета. На этот раз по просьбе Вячеслава Михайловича мне пришлось отыскивать его ручку. Когда Ворошилов обмолвился, что именно этим пером был подписан такой нужный для Советской страны договор, обеспечивший на долгие годы мир с Германией, я растопил сердце Молотова просьбой подарить мне эту величайшую в историю дипломатии реликвию.
Вячеслав Михайлович надолго задумался. Я не стал настаивать, чем окончательно расположил к себе сурового большевика.
Далее мы занялись вполне безобидными с политической точки зрения опытами. По просьбе хозяина дачи один из охранников и принес и вывалил на стол груду поздравительных открыток. Подчиняясь мысленным приказам, я разложил их на столе таким образом, чтобы колхозник лежал рядом с колхозницей, а строитель со штукатуршей. Спортсменку, державшую в руке весло, я без особых колебаний, соединил с футболистом, поставившим ногу на мяч. Затем, повинуясь командам вождя, разместил вкруговую видовые открытки вокруг знаменитого памятника, изображавшего гордых собой и своими молотком и серпом победителей, причем Кавказские горы оказались в головах рабочего и колхозницы, а панорама Волги в ногах.
По мысленному распоряжению Маленкова мне пришлось вырезать ножницами из газеты фотографию строящейся электростанции. Для этого мне пришлось опять же ножницами располовинить газету, затем вырезать оттуда нужный снимок. Стоявший рядом Берия, по-видимому, с целью проверки моих способностей, молча подсказал — крой ножницами напрямую. Я вовремя спохватился. Послушай его, и мне пришлось бы разрезать лицо вождя, сфотографированного на трибуне. Не знаю, чего добивался наркомвнудел, но с той минуты я старался держаться от него подальше.
Затем Сталин, поинтересовавшись — не устал ли я, — указал на стоявший в углу комнаты огромный глобус и предложил отыскать на нем четыре страны, по первым буквам названий которых мне необходимо было сложить слово. Если оно окажется именем, попросить охранника в коридоре пригласить обладателя этого имени.
Это было последнее задание. Я исполнил его на «ура» — отыскал Великобританию, Австрию, Ливан, Японию. Не удивляйтесь, глобус изображал состояние дел на 1936 год, и все территориальные приобретения Гитлера были скупо помечены цветным карандашом. Когда Валентина Истомина вошла в комнату и удивленно глянула на хозяина, тот радостно замахал на нее рукой с зажатой в ней трубкой.
— Ступай, Валентина. Это наш гость вызвал тебя, чтобы ты сытно накормила его.
На лице Валентины не проступило ни капли удивления.
Она пригласила.
— Прошу за мной, Вольф Григорьевич.
Затем меня полусонного, обессилевшего до предела, усадили в машину и отвезли в гостиницу «Москва», где я проспал всю ночь и весь следующий день.
Проснулся под вечер, когда на Москву легла прозрачная послезакатная мгла.
Я подошел к окну, распахнул его.
Над городом угасало чистое весеннее небо, только на западе, где когда-то жила Ханни, собирались черные тучи. В воздухе пахло грозой. В сумерках рубиновый свет кремлевских звезд завораживал подобно голосу зовущего в ночи. Эти маяки внушали уверенность в завтрашнем дне, бодрость и оптимизм, призывало «влиться», «примкнуть», «встать в строй». Не буду скрывать — хотя я постарался ни на йоту не уменьшить дистанцию между собой и миром, частичка той уверенности передалась и мне.
Я вспомнил все. Пересчитал все обиды и разочарования, скомкал всю горечь пережитого, с которой крепко сжился за эти годы и усилием воли выдохнул их в радостно сумеречное московское небо.
Я вспомнил Ханни.
Я поделился с ней радостью — вот она, страна твоей мечты. Твой Вольфи добрался сюда, его поселили на четырнадцатом этаже, его будут обучать коммунизму. Другое дело, что твой бывший любовник, друг и попутчик до сих пор не мог понять, радоваться ему или плакать?
Что обещала мне Москва? Место в строю? Чувство локтя, а в перспективе возможность принять участие в грандиозном эксперименте, неизбежность которого я ощутил на собственной шкуре? Но и здесь все было не так просто. Эксперимент экспериментом, но я не мог отделаться от надоедливого, с горчинкой, привкуса, что этот таинственный город (как, впрочем, и вся страна мечты) только и ждал момента, чтобы изменить мне. Чтобы уверенно чувствовать себя в Москве, я должен изменить себе. Или себя, что, по сути, было одно и то же.
Из гостиничного окна необъятное советское штетеле, в котором была прописана мечта, предстало передо мной раскинувшимся под ногами бесконечным лабиринтом городских улиц. Стены домов были увешаны бесчисленными плакатами, даже на фасаде гостиницы был натянуто полотнище с «пламенным приветом» депутатам Верховного Совета, собравшимся в столице по случаю вступления в семью братских народов Карело-Финской АССР. Такого рода колдовская символика была разбросана повсюду, от Москвы до самых до окраин. Магические формулы можно было встретить по берегам рек, на паровозах, бортах грузовых автомобилей, даже на просеках в тайге, где между деревьями угадывалась усталые, тихие люди в непривычных куртках из ваты, называемых «телогрейками». Надписям не было конца, и погрузившемуся в сулонг заблудшему шнореру Мессингу они представились некими предупреждающими заклятьями, указывавшими «сюда не ходи, туда ходи».
Будущее геометрически ясно вычертило перед моим умственным взором запланированную участь — мне не выбраться отсюда. В лучшем случае я до самой смерти буду плутать по здешним улочкам, проспектам, гостиницам, коммунальным квартирам, паркам и скверам, по рабочим клубам и домам литераторов, художников, композиторов, офицеров и работников умственного труда. Самое большее, на что я мог здесь рассчитывать — это сохранить жизнь. Для этого следовало, прежде всего, отыскать согласие с самим собой, бесшабашным мальчишкой из далекого польского местечка, согласие с созвездием кремлевских звезд и только потом с необъятным небом. Каждый компонент был важен и существен, ведь начни я враждовать с кремлевскими звездами, тем более, с необъятным небом, чем бы закончилось мое пребывание в Стране Советов?
Но в таком случае, что есть согласие?
Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь его мысленно, чтобы ясно рассказать об этом?
Когда речь идет о каком-то конкретном случае, мы, конечно, понимаем, что это такое. По какому-то единичному вопросу я могу сказать — «мы договорились», «мы сошлись на том-то и том-то», но стоит только вообразить согласие как таковое, как нечто общее, безотносительное к чему-то — я начинаю запинаться.
О согласии трудно рассуждать умозрительно, но как быть, когда твоя жизнь и смерть определяется мерой этого непонятного согласия с могучим «измом», ежесекундно принуждающим людей сказку сделать былью. Как принять чужое и не поступиться своим? Как сохранить дистанцию и не потерять уважение к себе? Это нелегкое испытание и для более смелых и возвышенных натур, чем пришлый паранорматик Мессинг. Здесь, в стране мечты, каждый был обязан написать хотя бы один плакат, — пусть не на заборе, но хотя бы в душе. Сделать наколку на сердце. Передо мной стояла трудная задача — на собственной шкуре познать цену каждого лишнего слова, легкомысленной доверчивости, невыносимую тяжесть ответственности, оказанной тебе сильными мира сего, опасность каждого психологического опыта, но более всего, отведать такой нестерпимо ядовитой отравы, как бдительность.
Это было нелегко, но… манило.
Глава 3
Свой ответ на этот вопрос дал Лаврентий Павлович. Он исполнил обещание насчет моего посещения Лубянки. Хорошо, что эта захватывающая дух экскурсия состоялась через полтора месяца, в июне, когда я успел немного освоиться в Москве.
Неоценимую помощь в этом трудном деле мне оказал писатель Виктор Финк. С Виктором Григорьевичем мы познакомились на вечере в Доме литераторов, куда меня пригласили спустя неделю после выступления на даче Сталина. Писатели оказались прозорливыми людьми и сразу, не в пример деятелям из Академии наук, заинтересовались моими способностями. Их проницательность, активная жизненная позиция, заключавшаяся в умении держать нос по ветру, по-видимому, являлась лучшим ответом на заботу, какой Советская страна окружила местных инженеров человеческих душ.
За эти несколько недель я заметно подковался в русском языке, обрел «статус» — то есть получил право гастролировать по Советскому Союзу. Финк помог мне заполнить анкету в гастрольном бюро,[59] где в графе «происхождение», по его подсказке, я указал — «из бедной еврейской семьи». Откровенно говоря, мне очень не хотелось упоминать об этом. Какая разница, кто откуда родом! Семью Гершки Босого скорее следовало назвать «нищей», а не бедной, но Финк настоял — так надо!
В бюро меня провели по первой категории. Это можно было бы считать чудом, но товарищ Финк, взявший на себя заботы по организации гастролей, посоветовал мне поменьше распространяться о чудесах и более напирать на материальную основу моих психологических опытов.
В прямом и переносном смысле.
Он предупредил, ни в коем случае нельзя отрываться от масс, надо доходчиво объяснять каждый опыт первичностью материи и вторичностью сознания. Не надо мистики, не надо нелепых жестов или истошных выкриков «тишина! тишина!», тем более щегольских буржуазных нарядов — фраков, цилиндров, лакированных туфель.
Здесь этого не любят …
Сознаюсь, я не сразу понял, что он имел в виду, а уж рекомендации насчет сценического костюма посчитал просто оскорбительными. Что же мне, в гимнастерке выступать?! Или сапоги натянуть?! В гимнастерке и сапогах тем более не следует, заверил меня Виктор Григорьевич. Сочтут, что вы держите кукиш в кармане, ведь вы же не агитатор и не пропагандист. Я еще не до конца понимал значение этих слов и был вынужден согласиться с Финком.
Он первый высказал мнение, что мне не следует спешить с гастролями и в ближайшее время лучше не покидать Москву.
— Куда вы торопитесь, Вольф Григорьевич? — спросил он. — Разве вас не устраивает гостиница или питание?
— Нет, конечно, — возразил я. — Но кто оплачивает мое пребывание в такой роскоши? Почему я должен расплачиваться за еду какими-то бумажками. Как, кстати, они называются?
— Талоны.
— Вот именно, талоны. Я не люблю одалживаться.
Финк пожал плечами.
— Вам что за дело. Считайте, что вы в гостях у советского правительства, которое щедро и заботливо оплачивает ваше пребывание в лучшей гостинице Союза.
Такими чудесами меня не раз удивляла моя новая родина. Что касается Виктора Григорьевича, работа постепенно сблизила нас. От него я узнал много нового насчет внутренних течений в партруководстве, а также о том, кто такие «двурушники», «оппортунисты», как «правые», так и «левые», что означает термин «враги народа» и «расхитители социалистической собственности». Свою доверчивость Финк объяснял убийственным доводом — «полноте, Вольф Григорьевич, от вас и так ничего не скроешь». Он же научил меня, как следует читать советские газеты.
Я сыронизировал.
— Вверх ногами?
— Нет, — ответил Виктор Григорьевич, затем без тени иронии добавил. — Но что-то в этом кульбите есть.
Я вынужден был верить ему, ведь товарищ Финк являлся не просто опытным в таких делах товарищем, но и орденоносцем, год назад получившим высокую правительственную награду — орден «Знак почета». По его словам, Виктор Григорьевич сумел отличиться двумя захватывающими повестями, повествующими о социалистическом преобразовании какого-то занюханного штетеле, о моих соотечественниках, отправившихся покорять таежные дали и распахивать целину. Первая называлась «Евреи в тайге», другая — «Евреи на земле».
В те дни мы напряженно готовились к первой гастрольной поездке на Урал. Дело было за малым — за поисками полноценного индуктора.
Лучше, конечно, индукторши.
В середине июня, когда Москва праздновала долгожданное вступление Карело-Финской республики в состав РСФСР, а центральные газеты печатали сообщения о введении новых воинских званий и фотографии счастливчиков, на которых ворохом посыпались первые генеральские чины, — мне позвонил Лаврентий Павлович.
Это случилось в ту самую минуту, когда, получив свежий номер «Известий», мне бросилось в глаза сообщение о том, что фашисты вступили в Париж. Я потерял дар речи. Дело было даже не в поразительной стремительности немецкого наступления и не в том, что французская оборона, опиравшаяся на хваленую линию Мажино, рухнула как карточный домик. Куда хуже было, что мой прогноз, озвученный в далеком тридцать первом году, в Шарлоттенбурге, так внезапно осуществился.
Телефонный звонок привел меня в чувство. Это был сам наркомвнудел. Он любезно напомнил о моем обещании навестить его в рабочем кабинете.
— Сейчас у вас найдется время?
— Ради Бога, Лаврентий Павлович, я всегда готов.
— Вот и договорились. Через пятнадцать минут машина будет ждать вас у подъезда.
Присутствовавший при разговоре Виктор Григорьевич вопросительно глянул на меня.
— Берия, — шепотом ответил я.
Его породистое литературное лицо сразу поглупело. Орденоносец некоторое время боролся с собой, потом едва слышно признался.
— Страшный человек.
Я усмехнулся. Оно, может, и так, да только не страшнее Вилли Вайскруфта.
* * *
Скоро я уже сидел в кабинете наркома — скромном, признаться, кабинете. Стены обшиты деревянными панелями, стол для заседаний покрыт зеленой скатертью, окна выходят на сумеречную даже в полдень, узкую улицу. Над рабочим местом портрет нашего дорогого балабоса.
Поздоровавшись, наркомвнудел сразу перешел к делу.
— Мне доложили, у вас острая нехватка индукторов. Ми можем помочь вам подобрать подходящую кандидатуру.
— Спасибо, Лаврентий Павлович. Мне бы не хотелось озадачивать вас подобными пустяками.
— Это не пустяк, товарищ Мессинг, это совсем не пустяк. Ми, болшевики, очень серьезно относимся к тем, что говорят со сцени, а также к тем, кто говорит со сцени. Впрочем, нет так нет.
Он сделал паузу, потом протянул мне газету и, вмиг опростившись, вполне по-человечески, не скрывая некоторой растерянности, поинтересовался.
— Читали?
Я взял газету, отыскал глазами информацию о том, что немцы вступили в Париж, и удрученно кивнул.
— Ваш прогноз оправдался, — сообщил Лаврентий Павлович и ворохом рассыпал на столе фотографии, на одной из которых была запечатлена Эйфелева башня с развевавшимся над нею нацистским флагом. — Что скажете, Вольф Григорьевич?
Я осторожно пожал плечами.
— Что-то не припомню, чтобы я давал такой прогноз.
С горечью комментирую — человек глупеет не тогда, когда он выглядит глупым, а когда полагает себя умным. Я сразу обо всем догадался, но, считая себя несусветным умником, все еще предпочитал хвататься за соломинку случайности, стечения обстоятельств.
— А я припоминаю, что на одном из своих выступлений вы объявили — на Эйфелевой башне будет развиватся флаг со свастикой!
— Это было не более чем догадка, — заволновался я. — Мне повезло. Я понятия не имел о сроках. Будущее дается мне в виде калейдоскопа. Эти картинки никак не привязаны к какому-то определенному периоду.
— Возможно, — согласился нарком. — Но в таком случае как вы объясните факт ваших встреч с Гитлером и прогноз насчет красних флагов над рейхстагом?
— Никак не могу объяснить. Я погрузился в некое невесомое состояние и описал то, что видел. Как я это увидел, объяснить не могу. Я был бы очень рад, если бы серьезные научные работники всерьез занялись мною и попытались проникнуть в тайну этого явления.
— Насчет науки и тех работников, которые, возможно, скоро займутся вами, мы поговорим позже, а пока у меня просба.
Я не нашел ничего лучше, как спросить.
— Так это не арест?
Лаврентий Павлович обрадовано всплеснул руками.
— С какой стати! Если вы полагаете, что здесь собрались кровожадные палачи, вы ошибаетесь и находитесь под воздействием самой нездоровой буржуазной пропаганды. Конечно, ми обязаны стоят на страже интересов пролетариата, и ми стоим, к этому призивает нас партия, но, насколько мне известно, ви что ни на ест пролетарий из пролетариев. У вас хватило сознателности примкнут к борьбе рабочего класса Германии против реакционеров и фашистов. Мы с пониманием отнеслись к вашей попытке выйти из борби. Не каждий способен пожертвовать жизнью во имя пролетарской революции. Насколко мне известно, даже в трудных условиях подполя вы не опустились до измены и подлого двурушничества, так что об аресте пока говорит рано. Пока вам верят, товарищ Мессинг, следовательно, надо потрудиться и крепко потрудиться на благо новой социалистической отчизны. Отсюда вытекает моя просба. Мы просим вас подробно и в деталях описат все встречи, которые состоялись у вас с нинешним главой немецкого государства, вплоть до самых мелчайших подробностей, с перечислением всех лиц, присутствовавших на этих встречах. Не плохо било би изложить свои впечатления от этих встреч, а также соображения, касающиеся личности вождя немецкого народа. Его, так сказат, modus operandi.[60]
— Это не так интересно, как кажется, — попытался отговориться я.
— Возможно, но я прошу. Партия просит. Это не только мой интерес. Понятно?
Я кивнул.
Лаврентий Павлович предупредил.
— Толко одно условие. Писат будете в специально отведенном помещении. Предупреждаю, ни единой строчки в гостинице или в каком-нибудь другом месте. Ни с кем не надо советоваться. Наши специалисты разберутся, что вы хотели сказат. Мы дадим вам помощника, он поможет вам сформулироват свои мисли. Это толковый и образованный товарищ. Если вам потребуется литература, сообщите ему. Дня вам хватит?
— Это слишком мало, товарищ нарком!
— Время не терпит, Мессинг. Хорошо, два дня. Начните завтра, скажем, в десять утра. За вами приедет машина. А теперь, если не возражаете, а познакомлю вас с вашим будущим помощником.
Он нажал кнопку звонка, и в кабинет вошел ладный высокий военный, один из тех, кто сопровождал меня в Москву. По-видимому, он был старшим в группе.
Военный представился — капитан госбезопасности Трущев Николай Михайлович. Мы пожали друг другу руки. Трущев показался мне приятным человеком, он не желал мне зла. В его голове по-прежнему царила какая-то, нашпигованная непонятными афоризмами неразбериха. С такой методикой защиты — от абсурда — мне встречаться не приходилось (разве что в самолете). Вайскруфт грузил меня сверхприлипчивым фокстротом и многословными рассуждениями о доходах, которые принесет нам обоим обоюдное сотрудничество. Капитан Трущев действовал проще — он укрывался за нарочито пустыми и бессмысленными для всякого опытного медиума словами «есть», «так точно», «будет исполнено» и прочей абракадабры, однако на этот раз ему не удалось провести меня.
Мы договорились с Николаем Михайловичем, что он заедет за мной не ранее половины десятого утра, и он вышел.
Лаврентий Павлович взял в руки мой пропуск и уже совсем собрался подписать его, однако неожиданно резко отвел руку.
— Послушайте, Мессинг, вы взаправду способны читать чужие мисли?
Я вскочил с места.
— Коммунизмом клянусь, нет!
— Сидите, сидите. Я верю. В таком случае смогли бы вы, например, вийти из этого здания, если я не подпишу вам пропуск?
— Постараюсь, Лаврентий Павлович.
— Постарайтесь, Мессинг, постарайтесь. Это в ваших интересах. Тот, кто сам не может выйти из этого здания, обычно надолго застревает здесь. Вам понятно?
— Более чем.
В сопровождении дежурного офицера я спустился на первый этаж. Здесь офицер жестом указал, чтобы я продолжал движение, а сам остановился на верхней ступени лестницы. Я, не сбавляя шага, двинулся в сторону стоявшего на посту сержанта. По пути собрался с духом, пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, затем усилием воли привлек взгляд охранника и дал установку. Без тени смущения вручил ему не подписанный пропуск и направился к двери. Не поворачивая головы, затылком разглядел вытянувшую физиономию дежурного офицера, его остекленившийся взгляд. Офицер машинально дернулся, видно, хотел привести в чувство зазевавшегося постового, однако сумел одномоментно взять себя в руки. Как только я вышел на улицу, он спешно бросился вверх по лестнице.
На улице я перешел на противоположную сторону, обернулся и оглядел нависшее надо мной здание наркомата. В одном из окон ясно различил абрис Лаврентия Павловича.
Я помахал ему рукой. Нарком, чуть помедлил, потом ответил тем же жестом.
* * *
Нельзя сказать, что этот разговор всерьез расстроил меня. Я ожидал чего-нибудь подобного. Наученный Вилли Вайскруфтом, я отдавал себе отчет, что в мире не существует и не может существовать государства, которое не испытывало бы интерес к человеку, имеющего способности к «опознаванию внутренней речи». Этот неуклюжий, новый для меня термин первым высказал Трущев. Находка оказалась удачной — такого рода наукообразие лишало присущую мне природную способность всякой мистической оболочки. Я только позволил себе уточнить — не «опознавание», а «угадывание внутренней речи». Николай Михайлович не стал спорить.
Я был уверен, Лубянке многое известно, и в блужданиях по советскому лабиринту этот факт следовало обязательно учитывать. Возможно, им помог кто-то из немецких товарищей, скорее всего, Гюнтер Рейнхард. Как мне стало известно, он был одним из немногих высших партийных функционеров КПГ, сумевший с приходом нацистов к власти бесследно исчезнуть из Германии. Причем без всякой помощи со стороны такого едкого растворителя, каким был Вольф Мессинг.
Карябало разве что панибратское, на грани грубости, употребление Лаврентием Павловичем моей фамилии без всякой лакирующей приставки вроде «товарищ Мессинг» или «уважаемый гост».
С высоты четырнадцатого этажа хочу предупредить — далее по тексту мне придется приводить некоторые закрытые сведения, источники которых до сегодняшнего дня не подлежат разглашению. Учтите, мне неоднократно приходилось раздавать направо и налево соответствующие подписки, так что теперь, даже пребывая сакральном, послежизненном пространстве, я не в силах вот так запросто сбросить с себя груз ответственности. Впрочем, намекнуть на след, ведущий к тайне, я теперь, полагаю, вправе. Это фамилии исполнителей, второстепенные документы (сметы, наградные листы, служебные записки, приказы по кадрам и т. д.) рассказы очевидцев, а также груды документальных книг, вышедших за последние десять лет. Среди них есть и серьезные работы, скрывающие за маской сенсационности и откровенных подстав детали подлинных событий тех лет. Только мой совет, не суйте нос, куда вас не просят. Отрежут и могут забыть прилепить новый. Поверьте Мессингу на слово. Если такого предупреждения недостаточно, и уважаемый читатель рискнет лично проверить эти сведения, в этом случае вся полнота ответственности ложится на него.
На следующее утро капитан госбезопасности Трущев привез меня в тихий и малолюдный Лялин переулок. Мы поднялись на четвертый этаж. Жилплощадь — трехкомнатная, дореволюционная квартира — оказалась просторной, хорошо проветриваемой и прилично обставленной. Здесь хранился полный комплект свежайшего постельного белья и дефицитных продуктов, так что берусь утверждать, это уютное гнездышко было отлично подготовлено к встречам с интеллигентными сотрудниками. Или сотрудниками от интеллигенции. Николай Михайлович угостил меня замечательным вином — любимым «сталинским». Вино было действительно на редкость вкусное, терпкое и сладкое.
Трущев обеспечил меня бумагой и письменными принадлежностями, а сам удалился на кухню «готовить обед». Теперь я мог с легким сердцем приступить к исповеди экстрасенса-революционера.
Мне повезло, что судьба свела меня именно Трущевым, а не с кем-то из его менее образованных коллег, тем более уродов, страдавших национальными предрассудками. Позже мне нередко приходилось встречать таких. Одним из них, как ни странно, оказался господин Андрей Яковлевич Свердлов, следователь по особым поручениям, сын небезызвестного Якова Свердлова[61]. В его голове мне удалось выловить рабочую кличку, которой они между собой наградили Мессинга — «завзятый иудеец». (А вот «местечковой мордой» я получил по морде в Ташкенте, но об этом особый разговор).
Такая кликуха не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Ладно, «иудеец», но почему «завзятый»?! Или я не разобрал, и иудеец был «занятный»? Или «заезжий»? Мне до сих пор трудно понять этих людей с холодным сердцем и длинными руками.
Возможно, господин Свердлов пытался этим самым подчеркнуть мое талмудическое воспитание и тем самым отделить плохих евреев, пропитанных религиозно-буржуазным духом, от хороших евреев, прошедших школу революционной борьбы? Таких в нашем рассеянном штетеле тоже хватает. Например, тот же господин Лев Захарович Мехлис, речь о котором пойдет впереди. Он, например, заявил: «Я не еврей, я — коммунист!»
Во время приема пищи мы поговорили о том о сем. После обеда я продолжил отчет.
Вечером, вернувшись в гостиницу, покуривая у открытого окна, Мессинг вспомнил давнишнее предложение Рейнхарда и всерьез задумался о том, что показавшееся ему дикой блажью распоряжение какого-то московского балабоса, руководившего красными в начале 20-х годов, — вовсе не являлось досужей выдумкой. В Коминтерне действительно была организована особая секция, в которую сводили людей с неординарными способностями и где изучали способы ведения классовой борьбы в потустороннем измерении.
Эта догадка подтвердилась, когда до меня, пусть даже в пятом-десятом пересказе, дошел рассказ о таинственном отделе, организованном на Лубянке бывшим руководителем ленинградских чекистов Глебом Бокием[62]. Помимо создания собственных и расшифровки вражеских шифров, Бокий интересовался всякими потусторонними силами, и кое-кто из секретной коминтерновской секции перебрался к нему под крыло. Мой информатор утверждал, что Бокия как раз расстреляли за развал работы на этом направлении. Большевик с подпольным стажем, опытнейший чекист, чьим именем был назван пароход, свозивший осужденных на Соловки, вдруг забросил работу по овладению человеческой психикой и ударился в масонство и откровенно чуждые воинствующему материализму восточные культы, а также занялся организацией нелепого мистического общества «Единое трудовое братство».
С высоты четырнадцатого этажа утверждаю — масонство и подобные ему тайные организации, тем более всякого рода замешанные на оккультных дрожжах политические заговоры (например «жидо-массонские», «коммунистические» или «империалистические» вкупе со всякого цвета «демократическими»), имеют самое приблизительное отношение в тайнам человеческой психики. Это, скорее, спекулятивный и корыстный ответ на естественную потребность человека в тайне.
Тем не менее, после гибели Бокия кое-какой мистический опыт на Лубянке сумели сохранить. Недаром службистый Трущев умел ловко скрывать свои мысли. Это не так просто, как кажется, здесь тоже есть свои заморочки. Например, общаясь с Мессингом, Николай Михайлович, даже хозяйничая на кухне, постоянно напевал широко известную в ту пору песню:
- В путь-дорожку дальнюю я тебя отправлю,
- Упадет на яблоню спелый цвет зари.
- Подари мне, сокол, на прощанье саблю,
- Вместе с острой саблей пику подари.[63]
Я долго не мог сосредоточиться. Меня буквально изводил вопрос, каким оружием этот мобилизованный на войну сокол собирается воевать?
Не менее подозрительным казался и второй куплет:
- Я на кончик пики повяжу платочек,
- На твои на синие погляжу глаза.
- Как взмахнет платочек, я всплакну чуточек,
- По дареной сабле побежит слеза.
Судя по откровенно идиотскому набору слов, такие песни, скорее всего, создавались как раз по заказу органов с целью наглухо прикрыть планы разрабатываемых секретных операций. Для этой цели может также пригодиться усердный поиск решения той или иной математической, а лучше шахматной, задачки, но лучшим методом можно считать умственное смакование женских прелестей. Или мужских, чего тоже нельзя исключить.
Мало ли способов может придумать жизнь!..
Только на третий день, когда я наконец закончил отчет, мне удалось пробить его защиту. Возможно, мне просто повезло и только потому, что он выбрал неудачный мотивчик, с которым у меня были свои счеты.
- На земле, в небесах и на море
- Наш ответ и могуч и суров…
- Если завтра война,
- Если завтра в поход,
- Будет сегодня к походу готов.
С этим лживым, обманчивым «ством» я справился быстро. Моментально отыскал щелку между куплетами и незаметно проскользнул в нее.
Что же открылось мне в глубине души капитана госбезопасности?
Страдания несчастного отца были безутешны…
Я не удержался от вопроса.
— Что с дочкой, Николай Михайлович?
Он не ответил. Даже не вздрогнул. Встал, большими пальцами расправил гимнастерку под ремнем. Подошел к окну, притаившись за шторой, замер.
— Здесь нет прослушки, — заверил я его.
— Как вы можете знать?
— Вижу. Вижу также вашу Светлану. На мой взгляд, вполне здоровая девочка.
— Она разучилась говорить.
— То есть? — не понял я.
— Зачем вам знать, Вольф Григорьевич?..
— Смелее, Николай Михайлович. Я не классовый враг и не двурушник, в чем, надеюсь, вы успели убедиться.
Трущев не ответил, вновь уселся на диван, закинул ногу на ногу, закурил папиросу.
— Она разучилась говорить, — признался он. — Потеряла, так сказать, дар речи. Сильнейший испуг.
— Когда это случилось?
— В декабре, перед новым годом.
— Сколько ей лет? Десять?
Трущев кивнул.
— Будет в сентябре.
— Я мог бы помочь.
Чекист не ответил. Молча докурил папиросу, встал, привычно расправил гимнастерку под ремнем, подошел ближе и поинтересовался.
— Ну, что тут у нас?..
Я протянул ему последний исписанный листок. Он просмотрел его, потом вернул и подсказал.
— Подпись, число.
Я добросовестно вывел: «18 июня. Вольф Мессинг». (Где-то теперь хранятся эти листки? И хранятся ли?)
— Теперь в гостиницу? — спросил Трущев.
— Да.
На лестнице я предупредил чекиста.
— Только не надо никак афишировать мою помощь. Прошу, никому ни слова, для меня это очень важно. Только вы и я, и ваша дочь. В тихой обстановке. Можно у меня в номере. Обдумайте мое предложение.
Трущев усмехнулся.
Я заверил его.
— Если вы об оплате, то меня деньги не интересуют.
— Я не о том. Я в состоянии заплатить, просто я обязан доложить начальству.
— Кто вам поверит, Николай Михайлович? Я непременно откажусь от своих слов. Поверьте, моя помощь вас ни к чему не обязывает.
Трущев вновь усмехнулся. Что-что, а бдительность у советских людей была на высоте. Советским людям не занимать бдительности. Как относиться к этому факту? Осуждать? Ерничать? Восхвалять с пеной у рта? Полноте. Для решения этого непростого вопроса мой соавтор и выдумал «согласие». Оно для того и существует, чтобы не ошибиться, не удариться в крайность, не упустить шанс почуять истину.
Наконец он ответил.
— Не люблю быть в долгу. Кажется, товарищ Мессинг, вы так однажды выразились?
— Спасибо за предупреждение. Повторяю, вы мне ничем не будете обязаны. Мне просто понравилось, что у вас даже мысли не было причинить мне зло, но еще более, как вы изощренно материли сокола, безоружным отправившимся на войну.
— Сколько времени займет курс лечения?
— Не знаю. Я должен осмотреть ребенка.
— Хорошо, завтра. Здесь. Я заеду за вами в десять. Сообщу, что вы попросили еще один день. Свету привезу к одиннадцати. Не забудьте надеть белый халат. Висит в квартире, в платяном шкафу.
— Зачем халат?
— Если вы доктор, на вас должен быть белый халат. Я скажу Свете, мы едем к удивительному доктору, который лечит добрым словом. О гипнозе, пожалуйста, не упоминайте.
Вот это хватка. Мне оставалось только мысленно развести руками.
Лечение оказалось куда более легким делом, чем я ожидал. Сильнейший испуг — девочка одна поздно возвращалась домой. Возле подъезда наткнулась на пьяного негодяя. Света сумела убежать, но с того дня пять месяцев молчала, будто воды в рот набрала. Мне пришлось погрузить ее в гипноз и разблокировать заторможенные центры речи.
Когда Света пришла в себя, она удивленно спросила.
— Это все?
У Трущева желваки заиграли на скулах.
— Да, Светочка, подтвердил я. — Теперь ты можешь не только говорить, но и петь.
— Ну, уж петь, — не поверила девочка. — Вы совсем как Айболит, только не знаете, звери не поют.
— А птички?
— Ну, птички. Это совсем другое дело.
Трущев, давясь от смеха и слез, выскочил из комнаты.
Глава 4