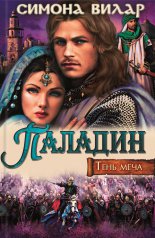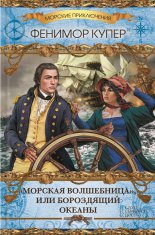Буковый лес Будакиду Валида
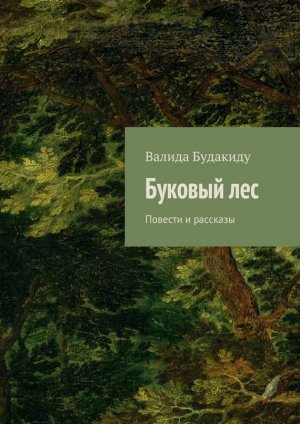
– А чего приехала? – Начальник громко икнул, не прикрывая ладошкой рот, как это обычно делают греки.
– Я-я-я?! – Линда совсем окосела, – Потому, что знала, что встречу здесь тебя! Никогда в жизни мне не доводилось работать под руководством столь чуткого, столь знающего, столь справедливого и щедрого руководителя. Господа, я что-то не то говорю? Наливайте по следующей и снова за Такиса!!!
Потом они опять все вместе поехали праздновать ещё куда-то, потом пить кофе опять куда-то…
– Боже! – Линда была в восторге от самой себя и своей компании, – Если б только… если б только Голунов мог меня видеть! Да он бы гордился мной! И ничего, что он ходил по поликлинике в белом халате на голое тело, да ещё «без лифчика». Вот интересно, как он ходит по своей драной Канаде? Фу, блин! Я не могу даже слышать эти проклятые три буквы «а» в трех слогах!!!
Назавтра опять был рабочий день. Первое, что Линда увидела в холодильнике, когда полезла за льдом – трёхкилограммовая коробка фруктового мороженного.
– Русская, закрой холодильник, – Петрос стоял к ней спиной, но всё видел, – подожди две минуты – сейчас Катерина принесёт одноразовые тарелочки, будем есть мороженное. Представляешь, вчера Коста при нас при всех ей предложение сделал. И ещё: после часа не ешь. Мой папаша впервые за пять лет, что я с ним работаю, приглашает всех в таверну. Он снова хочет послушать эти русские тосты, которые ты ему говорила, потому что велел нам запоминать слова.
Всё это было так давно!
Такис умер от алкоголизма. Теперь Петрос хозяин технической. На похоронах, как и принято в Греции, не плакали. Отпели в церкви и опустили на полметра глубины в песчаный грунт ровно на три года. А через три года в Греции выкапывают. Говорят, что мест нет под кладбища…
Коста на Катерине так и не женился, потому что оказалось, он давно женат, у него есть сын и дочь в деревне. Да, конечно, все об этом знали, и Катерина знала, даже здоровалась с его женой, когда та приезжала, но не хотела портить себе досуг. Никто больше не желает ходить в таверны, никто больше не танцует на столах от безотчётного и безудержного веселья. В стране кризис. Затянувшийся и скользкий, как петля-удавка на шее. Вхождение в Евросоюз было связано со множеством побочных эффектов, как и положено хорошему, сильнодействующему лекарству. Экономика, и без того шаткая и валкая, базирующаяся исключительно на половом влечении туристов к колыбели древней культуры, окончательно развалилась. Почти все действующие производства вывезли в развивающиеся Албанию и Болгарию с бесконфликтными рабочими руками и дешевой силой, просыпающейся после ночной гулянки и приступающей к своим трудовым обязанностям не к двенадцати пополудни, как настоящие эллины, а гораздо раньше. Гос служащим стали задерживать, а после и вовсе сокращать зарплаты. Сперва тринадцатую, типа «доро», как они говорили, «подарок», а потом и обычную. Смена партий каждые пять лет с «зелёных» на «голубые» и с «голубых» снова на «зелёные», как будто нет другого цвета, привела страну в состояние полнейшего не стояния и глубокой депрессии.
Но, народ никак не мог, да и не хотел понять и привыкнуть, что как раньше не будет никогда. Ухоженные дамы не понимали, какая тут связь между отсутствием денег у мужа и её педикюром с парикмахерской?! То есть, она должна так жить. То есть, она так живёт. Ну, нет сейчас, значит, она сделает это в долг, заплатит потом, когда будут. В банках стали выдавать очень хитрые кредиты без предоставления налоговой декларации, например, на поездку в отпуск. Несколько тысяч евро – зато как круто отдохнуть в долг. А потом ничего страшного. Так, сига-сига (по чуть-чуть) расплатитесь. И ведь брали, ведь ездили! И хвастались друг перед другом, у кого больше «ушло».
Греки, конечно, долго держались, не боясь швырять богатые чаевые и соревнуясь друг с другом, кто больше заплатит на «бузуки» – в ночном ресторане, где подают за бешеную цену один нарезанный банан на человек десять-двенадцать и по рюмашке анисовки. Зато можно было всю ночь напролёт танцевать на столе, под столом, раскачиваясь в такт дивным нанайским напевам. И не беда, что завтра вторник, работа – не креветка, подождёт, не протухнет. Поздно, очень поздно, но в какой-то момент до потомков великих эллинов таки дошло, что пояса всё же придётся затянуть потуже. И о пустели улицы с магазинами, и погасли яркие рекламы, электроэнергия оказалась не по карману дорогой. Даже на Пасху и Рождество перестали украшать витрины. Тягостный дух сомненья воспарил над страной.
А Рождество-то оказалось двадцать пятого декабря! Линда безмерно обрадовалась, что «Рождество» это оказалось Рождеством Христовым.
В Греции все праздники связаны с религиозными событиями, только один или два – с историческими.
Когда Линда, наконец, открыла свой собственный стоматологический кабинет и стала работать одна, на радостях в кризис она к Рождеству нарядила ёлку, купила себе подарок, велела в магазине сложить его в коробку и обвязать красной атласной лентой потом его положила на пол под пушистые хвойные лапы села и стала ждать. Она была уверена, что сегодня, в этот волшебный вечер произойдёт чудо. Она не спала до утра, но чудо не произошло. Никто не пришёл, никто не позвонил. Да нет, многие звонили, но какие-то всё не те. И все были грустными, и казалось, что их звонок – просто исполнение дружеского долга.
От всей этой суеты и ожидания не сбыточного счастья стало очень одиноко и страшно. Она вспомнила, как мечтала о весёлом Рождестве в небольшом уютном домике с тёплым светом в заснеженных окнах, о красивых и светлых людях, о детских голосах и пении Ангела. Но, в Греции не бывает снега и люди тёмные, потому что загар их не успевает поблекнуть от лета к лету. В Греции на Рождество вместо снега на деревья вешают гирлянды из тысячи разноцветных лампочек. На улице душно. Можно даже не надевать куртки, ходить в жакетах и кроссовках вместо сапог. На окнах не бывает ледяных узоров, стираное бельё никогда не пахнет морозной свежестью. Запах хвои и чистого белья, наверное, есть в Канаде…
При чём тут эта Канада?! Сколько ж можно?! Сколько можно идиотничать и развлекать себя разными байками? Человек тебя сто лет не помнит, что ты привязалась к нему, как дура?! Он тебе кто, папа? Брат?! Муж?! Любовник?! Кто он тебе?! Что ты вечно выдумываешь и нагнетаешь, как будто тебе не о чем думать.
Всё это, конечно, так… но ведь так хочется, чтоб Он только посмотрел на Линду и удивился, что она уже давно не Гадкий Утёнок. И сказал бы что-нибудь, типа – ох, какая ты стала, Шерочка с машерочкой, и улыбнулся своей загадочной улыбкой. Может, похвалил бы за то, как она умело забивает грекам баки… Ну… и потом бы, как всегда, ушёл.
И Линда бы на него с удовольствием посмотрела. Интересно, каким стал Он, этот Боря, который на самом деле Саша? Худым или толстым? Весёлым или задумчивым? У него есть дети? Семья? Что его радует, что греет душу? Наверное, Он ещё красивей, чем был. Это из тех мужчин, которые с возрастом становятся лучше, как крепкий виски, как настоявшийся кофе…
Какие всё это глупости. Линда, ты хамеешь, чего тебе не хватает? Работа есть, жить есть где. А тебя всё куда-то зовёт твоя неприкаянная душа, которой безмерно неуютно, которой плохо. Она томится и медленно гаснет и скоро умрёт. Тебе не нравится греческий жаркий климат, тебя раздражает скученность домов, тебя бесит, что все живут, как в одной большой деревне – никуда не спрятаться, не скрыться, никто никуда не торопится. Тут даже нет нормальных жёлтых листьев.
Греки не любят деревья и очень тщательно их вырубают, поэтому город сверху похож на плотный известковый муравейник. В Греции, оказывается, деревья закрывают людям солнце. Неужели в Греции можно спрятаться от солнца?! Оно же везде, здесь даже огурцы жёлтые. А, им деревья «закрывают».
Невозможно же так жить. Невозможно, когда «каникулы» – это полмесяца на горячем пляже с бешеными ценами на еду в курортной зоне, купание в сверх солёной воде залива в два часа дня, в семь вечера – отход домой, до двенадцати ночи – полуденный сон, а с двенадцати ночи и до утра – приём пищи. Наутро опять сон до двух. Это греческие каникулы.
– Что, по твоему, отдых? – Подруга – платиновая блондинка с грубой кожей и большими родинками – смотрит в полном недоумении, подняв бровки, – А как ещё отдыхают?!
– Отдых – это когда я живу не с давленными на стенах комарами в непонятной комнатушке, а отдых – это классная гостиница, завтрак, обед и ужин в ресторане. Приезжает автобус, везёт меня на экскурсию. В музей, например, в Альпы…
– Альпы – это город?
– Нет! Альпы – это кондитерская!
Греки добрые, хорошие, милые, но это ж невозможно!
Наверное, давно надо было выйти замуж, жить как все нормальные женщины и не умничать. Конечно, были в её жизни мужчины, но всё это было как-то несерьёзно. Поначалу она в них влюблялась. То есть, очень твёрдо внушала себе, что объект напротив достоин её внимания. «У него, – перечисляла себе Линда, – проблески интеллекта. В зачаточном состоянии, но вроде бы, есть, выразительные глаза, неплохие физические данные. Если интеллект развить, данные подкачать, то может выйти нехилый „мэн“».
Потом, с трудом уговорив себя на влюблённость, она начинала страдать – ждать звонков от будущего «мэна», ревновала, плакала. Одним словом, начинал иметь место весь пакет паралюбовных акций. Потом Линде надоедало, что объект не хочет ни повышать свой моральный уровень, ни гантели таскать, но хочет пива и «ро» – жутко жирные мясные бутерброды из горячей свинины и картошкой «и». Вообще всё это – игра в одни ворота, потому как уже со второго, третьего свиданья объект начинал истерить, не понимая чего от него, собственно, странной подруге надо?
Потом Линде надоедало страдать, хотелось большой и чистой обоюдной любви. Она сама рисовала, сама рвала так и не начавшуюся связь, снова страдала, только уже от одиночества, и страдала ещё больше; потом впадала в депрессии, потом с огромным трудом, приведя себя в порядок, снова «влюблялась». Она привыкла. Состояние постоянной «влюблённости» в кого-то или во что-то с вытекающими из него ужасными душевными катаклизмами стали образом её жизни.
Они были Линде просто необходимы, чтоб было, зачем вставать по утрам и чистить зубы. И она каждое утро вставала и чистила зубы. Связать же свою жизнь насовсем, чтоб прям замуж, чтоб с церковью перед всем честным народом?! А за кого выходить? За такого, как покойный Такис, которому что чихнуть, что пукнуть в обществе всё едино? Даже пукать он любил чаще, потому как говорил, дескать, полезней. Столько пукал и всё же умер?
Мда… Никто в мире не от чего не застрахован. Или выходить за такого, как Коста, так и не осчастливившего, влюблённую в него до зелёных соплей, Катерину? За Косту, который у Линды в своё время спрашивал, «сколько дней „от них“ до Австралии на поезде»?!
Вся Греция – каждодневный праздник, бешеный и сумасшедший. Лёгкие отношения, лёгкие встречи, лёгкие разлуки. Чем кто-то из местных мачо с пеной на зубах будет ей доказывать, если долго бабу трахать, шансы, что родится мальчик растут на глазах.
Зачем её всё это?! Лучше жить одной! Когда ты одна и тебя никто не отвлекает, ты знаешь, что средневековый орган собора святого Стефаноса в немецком городе Пасау способен извлечь четыре тысячи звуков, а не семь нот октавы, и ты эти звуки улавливаешь, ты их прямо в воздухе слышишь.
Одни слышишь, другие входят в тебя через мельчайшие поры в коже, резонируют в каждой клетке, усиливаются, поэтому во всём теле твоём живёт музыка.
Только кому это надо? Греку – жениху? Не, ему не надо. Ему важно чтоб жена умела готовить гемисту (фаршированный перец с рисом) и ездить летом на море, чтоб считать «бани». Да, греки считают, сколько раз они скупались, это называется «баня». Греки хорошие, они замечательные, но… но они другие…
Тогда, давно это было очень грустное Рождество, поэтому Линда больше не встречала его одна и не делала себе подарков. Она с тех пор старалась встречать этот праздник не дома, а где-нибудь с друзьями. Но теперь друзья тоже устали от хронической борьбы за свою нишу в этом новом, довольно необычном для них мире, мире, где, например, «даю слово!» – Пустой звук, а денежные долги надо простить и забыть, как Господь прощает нам прегрешения наши.
Друзья устали от ежедневного добывания денег, от бесконечной борьбы с действительностью. Они нарожали множество детей, стали слишком серьёзными и напоминали увядшие бутоны, так и не успевшие распуститься. Они все один за другим сперва становились задумчивыми, потом меланхоличными, потом начинали странно заговариваться, рассуждать всё больше на общие, ничего не значащие темы о глобальном потеплении, об урбанизации Пакистана, об изменениях климата в ближайшие тысячелетия, как будто, была большая разница, исчезнет Земля через пять миллиардов или миллионов лет. Иногда говорили о работе и считали деньги.
Прекрасная половина ударилась в другую крайность, она, позабыв своё вероисповедание христиан-ортодоксов, пустилась без оглядки в китайское учение – фен-шуй. Часть жён друзей теперь интересовались исключительно инью и янью, превращали свои жилища в какие-то ведьминские берлоги с многочисленными лягушками спиной к входной двери и защитами от «ядовитых стрел», направленными на них с острых углов зданий напротив.
Другая часть подалась в Свидетели Иеговы1, она праздно шаталась по улицам, всучивая зазевавшимся прохожим брошюрки и книжки с цветными изображением приторно-слащавой жизни и всем обещали «скорое избавление» от тягот жизни на том, лучшем свете. Вокруг шли постоянные дебаты, говорить ли на русском, обучать ли русскому детей, или забыть как можно скорее, разлиться и раствориться в местных эллинах, чтобы даже золотые серьги 583 пробы не выдавали выходцев из стран бывшего СНГ? Многие разучились слушать… многие – слышать… и это было так ужасно. В Греции каждодневный праздник медленно, но целенаправленно перетёк в массовую истерию.
Однажды Линда услышала по телевизору, что космонавты на орбите «очень скучают по шуму дождя». Пустой звук! Эта фраза – пустой звук для того, кто не был на орбите… или для того, кто не жил в Греции. Как можно радоваться десяти месяцам лета без весны и без осени?! Однако! Есть, конечно, в Греции одна такая гора, куда можно поехать за снегом. Да! Она не так уж и далеко! Снег на ней, правда, искусственный.
На гору, обычно в выходные едет пол Македонии. На лыжах, естественно катаются, единицы. Основной контингент едет в тамошнюю кафетерию, чтоб подождать внизу тех, которые катаются. Можно взять одноразовые санки. Они похожи на пластмассовые совки для мусора. Садишься на такой совок и аккуратно считаешь задом все торчащие из горы камни, на которые у организаторов не хватило «снега». Радости, визгу!
А самое большое счастье – что ты вот сейчас снова сядешь в свою машину, пристегнёшься своим ремнём безопасности и через два часа будешь сидеть у себя дома, или на набережной и пить холодный кофе-«фраппе» со льдом. Времена года – это извращение, в наше время самое важное – желания клиента. Хочу солнца, теперь снега, теперь котлетку из говна… Помидоры с кочанами, квадратные арбузы, выращенная отдельно от коровы, говядина, карамель со вкусом жжённой резины, пластмассовые цветы, пластмассовые улыбки, пластмассовые отношения, пластмассовая жизнь, и все вокруг счастливы, и платят, платят, платят. Дай им Бог…
«А мне?! А как же я?!» – Линда понимала, что это нервный срыв, что это добром не кончится, но пыталась обмануть сама себя, – Это хандра… это пройдёт, – она себя уговаривала, как если б сидела на краю постели душевно больной, гладила её по спутанным волосам и шептала на ушко: «Скоро всё образуется… Ты только потерпи…»
Когда «образуется»? Разве в Греции, кроме древних развалин Акрополя и Парфенона появится ещё что-то? История Древнего Мира – это, безусловно, прекрасно, но кроме могилы Филиппа Второго – отца Александра Македонского должно же быть ещё что-то! Всё давно растащили. Туристам нечего показывать, поэтому Греция – это шоп-тур в Касторью за шубами.
Только зачем врать себе и всем вокруг, делая вид, что не замечаешь, будто «колыбель культуры» давно уж не колыбель, а нужник всей Европы? Распроданный, розданный за долги небольшой такой нужничок, омываемый Эгейским морем. Теперь же государство, кроме того, что влезло в гигантские долги и собирается объявить дефолт, так ещё перед этой процедурой решило позабавиться и просто так собрать государственные налоги с граждан по второму кругу за год. Вроде как – мы ошиблись, надо сделать перерасчёт. Когда «изменится»?! Когда греки перестанут есть фаст-фуды, роняя себе на грудь картошку-фри и обмазывать всё лицо горчицей? Разве греки начнут приобретать книги?
Линда вообще никогда себе не могла даже представить, что существуют дома, где нет ни книжных шкафов, ни даже книжных полок. Есть бесконечное лето, голые зады на море и без него, есть камины без вытяжки, а книг нет, равно, как и греческого кинематографа. И никогда не будет, потому что они себе слишком нравятся. Но, раз не изменятся греки, значит надо меняться самой?
Нет… это невозможно! Всё, что могло с ней произойти, уже произошло, разлом прошёл через всё тело и не желает заживать, а возможно, придет день, зажжётся в воспалённом мозгу красная кнопка и механический голос скомандует: «Перегрузка! Пип! Внимание! Перегрузка»! Что же тогда делать?! Что будет?! Может, можно предупредить этот красный пикающий огонёк?! Если подумать?
Ничего… ничего страшного… прежде всего, взять себя в руки. Надо выяснить, откуда именно лезет эта хандра со своими мерзкими, мокрыми холодными щупальцами, и сжимает сердце так, что оно больше не хочет биться. Надо узнать, откуда она лезет, и тогда можно будет что-то изменить. Засунуть её обратно, – Линда пытается спрятать голову под подушку, как будто мысли это нечто материальное и лезут в её голову из воздуха. Вдруг ужасное открытые заставило забыть её и об искусственном снеге и о санках, похожих на совок: оказывается самый страшный греческий кризис не в кармане, самый страшный кризис начинается в голове.
– Значит так! Успокоилась! Я сказала, успокоилась! – Линда отрывает ладони от лица и смахивает слёзы, – значит так: чтобы взять себя в руки надо, прежде всего, понять, чего тебе не хватает? Чего именно и с математической точностью. Мыслей? Чувств? Ощущений? Новых встреч? Дождя? Снега? Ну, так и беги за всем этим! Беги, ищи, почувствуй себя снова нормальным, здоровым человеком. Ищи, где зима – это зима, а лето – это лето. Бери путёвку или билет, и лети встречать Новый год хоть… да, хоть … нет… в Россию не получится – нужна виза… получится куда? Где в Европе снег? В той же Германии! Тем более, Германия не скоро забудет русских, они, можно сказать, теперь на веки вечные одной верёвкой связаны.
Тебе нужны новые или хорошо забытые старые ощущения? Типа, «Будь готов! – Всегда готов!» Запросто! Езжай в Лейпциг! Там и по-русски говорят, и есть музей ГДР – живого бесконечного наказания немцам за то, что приютили у себя фашизм. Можно будет и пионерское детство вспомнить, и за папу, всю жизнь мечтавшего встретиться с лидером немецких коммунистов Эрнстом Тельманом, оторваться по полной.
Ты всю жизнь хотела посмотреть концентрационные лагеря? Да кто ж тебе не даёт! Езжай на могилу того же Тельмана – немецкого коммуниста, точнее, в Бухенвальд – там, правда, нет могилы – его сожгли в крематории в общей печи, но есть мемориальная доска. В Германии сейчас идёт снег. Езжай, наслаждайся! Забудь о греческом кризисе, подумай о вечном…
Вот и все проблемы! Помёрзнешь на вокзале, возложишь венки, и возвращайся домой обновлённая и умиротворённая. Вообще, вот мысль: как ты думаешь, почему в Германии есть города, в которых жили целые плеяды великих людей? Почему маленький Веймар является духовным центром Германии, где на малюсеньком клочочке земли творили и Гёте, и Шиллер, и Бах, и Ницше? Почему от Веймара до Бухенвальда можно дойти пешком?! Почему самые знаменитые психиатрические клиники в мире находятся на территории Германии и Австрии?
Линда вдруг покрылась липким потом. «Боже! Какая жара! Зачем они так сильно топят?!» – Она спрыгнула с дивана и подошла к калориферу. Как ни странно, но и трубы, и сама батарея были абсолютно холодными. Их не включали, кажется, со вчерашнего вечера. Линда с удовольствием прислонилась к железной трубе. «Да у меня сейчас на лбу отпечатается эта труба парового отопления не хуже, чем у Есенина, повесившегося в гостинице «Англетер», – юмор всегда придавал ей силы, а «великий и могучий» действительно был единственной опорой. «Ну, так, если вешаться, так тоже в гостинице и на горячей батарее, а не в этой убогой однокомнатной квартирке», – почти уже весело подумала она.
Действительно, почему бы не встретить Новый год не с ватным снегом, пропитанным выхлопными газами, а с нормальным, белым, чистым, замечательно холодным. И всего-то, всего-то перейти через дорогу и купить себе путёвку в любой город Германии. Куда есть – туда и лететь. Деньги… а ну их, эти деньги! Есть же там, в шкатулочке, чтоб заплатить за страховку и за свет – и фиг с ним, с этим светом, да и со страховкой заодно!»
От такой совершенно гениальной мысли Линда заметалась по комнате. Она хватала и швыряла на пол совершенно ненужные вещи, зачем-то несколько раз выскочила на балкон, потом долго не могла найти второй носок. Решив, что вовсе нет никакой необходимости надевать оба, всунула ноги в полусапожки. С трудом найдя ключ от квартиры, она выгребла из фарфоровой коробочки всё, что было подчистую, и, захлопнув дверь, застучала каблучками по мраморной лестнице. «Уже должно быть открыто! Уже скоро десять. Ну да, ладно, если что – на улице подожду. Но, скорее всего, под Новый год у них должно быть больше работы. Открыто, должно быть…»
Оно и было открыто. Турагентство.
– Мне в Германию на Новый год! – Линда только сейчас поняла, что всё-таки стоило умыться. Турагент смотрел на неё с явным недоверием, вертя в руках европейский паспорт с крестом «Элленикис демократияс», видимо, не очень веря в его подлинность.
– Почему же вы раньше не пришли? – Заучено елейным тоном пропел он, – Мы бы вам подобрали что-нибудь… ну… как сказать, – он очень выразительно посмотрел на Линдину неделовую куртку, – что-нибудь по экономичней. Дело в том, что все путёвки раскуплены ещё несколько месяцев назад…
«Ага! Вот он, греческий кризис», – Линда чуть не фыркнула, вспомнив, с каким трудом выбивает из клиентов честно заработанные деньги, а они – эти потенциальные клиенты, оказывается, за несколько месяцев вперёд заказывают себе путешествия по Европам.
«Вот, стало быть, и замечательно, – обрадовалась Линда, – Вот я и адаптировалась, наконец, и стала настоящей европейкой! И за свет, и за страховку я заплачу по приезду. Возможно, заплачу. Ага… отдам… половину… потом.»
– Не пришла, потому, что просто не пришла, – Линда откровенно удивлялась, – вы мне покажите, чем торгуете, а уж дальше в личной экономике я сама разберусь.
Молодой, но уже с хорошим брюшком и залысинами агент, не отрываясь, всматривался в монитор, время от времени отхлёбывая из чашечки с присохшей по ободку кофейной гущей совершенно остывший кофе.
– Вот… Вот есть Берлин – Дрезден – Веймар – Лейпциг, это Восточная Германия.
– Совершенно гениально! – Линда даже не поняла, он специально для неё выбрал это направление, определив по акценту «бывшую», или всё вышло совершенно случайно? А какая собственно разница? Главное, что можно ехать.
– Там в программе посещение Бухенвальда есть? – Линда смотрела на агента правдиво и честно. И всё равно он подумал, что она издевается.
– Да! И именно в Новогоднюю ночь! Всенепременно с песнями и плясками ансамбля Александрова, – проскочила по его лбу бегущая строка. Однако, видя, что Линда не со зла, агент с трудом, но всё же передумал упражняться в остроумии, – от Веймара это недалеко, – выдавил он, внимательно рассматривая за спиной Линды дверь в туалет, вы можете взять машину напрокат и поехать своим ходом. В Бухенвальд встречать Новый год.
– Сколько это всё стоит? В смысле, экскурсия по Германии.
При ответе «сколько» она чуть не рухнула со стула. Удивительно правильно поняв её замешательство, турагент, досверлил взглядом дырку в туалетной двери и снисходительно пожал узенькими плечиками:
– Тридцать процентов новогодняя надбавка.
– Да хоть пятьдесят! Я хочу ехать, и я поеду! – Линда дёрнулась так, как если б пузатенький сотрудник её не пускал, хватая за лодыжки, – Я должна ехать! – Зачем-то прибавила она, оправдываясь то ли перед собой, то ли перед ошарашенным агентом, то ли перед страховой компанией, которой она долго будет обещать расплатиться.
Она не летала двадцать лет. Она просто умирала от страха при одном виде аэропортов, даже по телевизору.
Самолёт оказался маленьким и жирненьким. Вообще-то это раньше он назывался «самолёт», а теперь это был «борт» – кратко и чётко, можно сказать, по военному, «борт». Похоже на немецкое «хальт!» и всё. Прямо было непонятно, как такой пончик, совсем мирный и не похожий на «борт» сможет гавкнуть «Хальт!» и подняться в воздух. Но пончик поднялся.
Линда, вцепившись в подлокотники до потери чувствительности в подушечках пальцев, постоянно наблюдала за выражением лиц таких красивых и смелых немецких бортпроводниц. Они постоянно что-то спрашивали у пассажиров, предлагали то кофе, то купить какую-то фигню за бешеную цену. Однако, видимо именно за их успокаивающие улыбки пассажиры и покупали эту самую фигню.
Вдруг звук в самолёте поменялся. Приятный голос что-то объявил сперва на немецком, потом на похожем на немецкий английском. Ни по-русски, ни по-гречески голос не выдавил из микрофонов ни звука. Линда почувствовала, как вытягивается её лицо. Но бортпроводницы продолжали весело улыбаться и щебетать, а пассажиры как-то оживились, завозились на креслах, кинулись есть дармовой аэропортовский шоколад. По всплеску их энергии Линда поняла, что борт пошёл на посадку. Она расслабилась и наконец, решилась выглянуть в иллюминатор.
Серебристо-белые, какие-то спутанные воздушные нити были, конечно, облаком. Это об него строгий борт шуршал своей обшивкой. Вот просветы начали увеличиваться. Сперва в них можно было разглядеть только отрывочные картинки, то дороги, то какие-то редкие постройки. Самолёт в одно мгновенье вынырнул из серого тумана, и Линда увидела снег.
Сне-е-ег… не лежащий кусками, как если б его раскидал поутру пьяный дворник лопатой, не облезшая и подтаявшая мартовская жижа, а сне-е-ег… замечательный, нежный, пушистый, похожий на детское «ватное» мороженное, которое Линде в отличие от настоящего родители есть разрешали, потому что она бы от него не заболела. «Наверное, он ещё идёт, – с восхищением думала она, – эти серые облака, в которых мы летели, его и роняют. Облака осторожно сыплют снег на столицу Германии – Берлин…
Сне-е-е-г… настоящий и ласковый… Боже! Как, оказывается, я по нему соскучилась! Не по детству с мамой при советской власти в бывшей вотчине генерала Ермолова, а именно по снегу. Заглушающему все ненужные звуки, лечащему израненную душу, убаюкивающему и нежному, как любящая няня. В Берлине идёт сне-е-е-ег… Это такое чудо…
А вдруг, правда, на этот Новый год случится чудо?» – Линда вдруг оторвала руки от подлокотников и нервно скрутила волосы на затылке, словно они ей взаправду мешали. Она давно носила длинные волосы, почти с тех пор, как объяснила маме, что их «встреча была ошибкой».
Борт сел мягко и совсем незаметно. Пассажиры радостно зааплодировали и начали высвобождаться из ремней безопасности.
Снег в аэропорту падал не меленькой россыпью, а большими ажурными хлопьями. Огромные стройные ели с рыжими стволами стояли, склонив убелённые головы, издали напоминая любопытных зрителей, внезапно замерших на средневековой площади, шокированные видом величия гильотины. Даже расплывчатый вид из маленького самолётного иллюминатора не мог умалить ощущения самоуверенного спокойствия, казалось бы, сочившегося из пор этой Земли. «Вот она какая, Германия!» – С удивлением подумала Линда, – «Монументальная и гордая!»
Экскурсии по Берлину начались в тот же день. Группа подъезжала на автобусе к историческим памятникам, они выходили, слушала рассказ, осматривалась и они ехали дальше. Было немного неловко от того, что гид говорила по-гречески. За двадцать лет греческого существования Линда, конечно, выучила язык очень хорошо и говорила практически без акцента, но то, о чём рассказывала гид, должно было для неё звучать, безусловно, на русском. Только слова, произнесенные на родном языке, могли проникнуть в самое сердце, вызвать всю желаемую гамму чувств при виде заснеженного Берлина.
– Первое упоминание о Берлине датируется 1244 годом, – голос гида восторженный, почти на срыве. Сколько экскурсий в неделю проводит эта женщина? Она далеко не девочка. Глаза горят, словно ей в финале «Фауста» аплодирует весь зрительный зал, – Берлин – одно из самых любимых туристических мест международного значения. Его часто называют «Северной Венецией» за огромное количество речушек и каналов, соединяющих и разделяющих город. Всего в Берлине насчитывается девятьсот шестнадцать больших и маленьких мостов…
Боже! У них девятьсот шестнадцать мостов, а у нас ни одного! В нашей столице Северной Греции нет ни одной несчастной реки, а значит и ни одного тощего подвесного, и тем более каменного моста с арками; моста с маленькими и большими торговыми лавочками, с дорогущими сувенирами, пахнущими керосином, потому что раньше это были керосинные лавки; ни одного моста, с которого видно, как в дождь поднимается вода, от страха и безысходности дрожат коленки. Кажется, обезумевшая река сейчас разольётся и затопит всё живое. У нас в Салониках нет ни одного моста, ни одного, по которому в прохладную осеннюю ночь можно спешить домой в свете электричества или, ещё лучше, газовых фонарей. Стёртые от множества ног полукруглые ступеньки.
Раз-два-три… Каблучки нервно постукивают по холодному камню, выдавая торопливые шаги лёгких женских ножек. Внезапно из темноты выдвигается широкоплечий силуэт в чёрной разлетайке. Каблучки стучат всё медленней, совсем не дробно и, наконец, их звук исчезает, то ли поглощённый мраком, то ли ставшими мягкими камнями. Она замирает от ужаса. Она не знает – идти дальше, или бежать назад. Он медленно отделяется от фонарного столба и начинает приближаться. Подходит совсем близко, делает шаг вправо, перегораживая путь… лицо в тени… Она, молча, вздрагивает всем телом, и вдруг… вдруг в наклоне головы, в жесте узнаёт… Голубые глаза кажутся чёрными, но даже при тусклом свете немощного газового фонаря, она видит его взгляд – бесконечно нежный и страстный… Она…
Она то она, а ты… Ты что, офигела?! Какие «голубые глаза» и свеже-сладкий аромат абрикосовой косточки?! Тебе лечиться надо, матушка! Лечиться электричеством, а не пейзажами ГДР, никак не меньше! Прикатила в Германию на экскурсию и рисует себе картины маслом: на старом обшарпанном мосту закапывается носом в мужскую грудь! Да ладно если б ещё кого-то реального вспомнила из последних греческих «женихов»! Ты, матушка…
– …рядом с Кафедральным собором …Бранденбургские ворота – национальный символ единства. На самом верху – окрылённая богиня победы Виктория возвращается в город на колеснице…
«И то место, где я родилась и жила, тоже называлось Городом. И Берлин тоже „город“, и там тоже… Мда… интересно – Городом ту местность, где я жила сами жители так назвали, или кто сто стороны посоветовал? Пожалуй, со стороны… сам до такой ереси не допрёшь. Если б немцы вообще увидели плакаты из нашей городской стоматологической поликлинике с тем гигантским, похожим на злющую тётю Тину червяком в детском зубе, они б, наверное, подали на художника-оформителя в Страсбургский суд за возбуждение в детях психических расстройств».
– …здание Рейхстага… стеклянный купол… передан дух немецкого оптимизма…
«Если б я жила здесь, если б лето было летом, а зима – зимой, если б граждане страны по ночам спали, а по утрам выполняли каждый свои обязанности, если б это Греция с развитой экономикой выделила на подъём экономики Германии деньги, а не наоборот, во мне бы тоже витал дух оптимизма, а так мой дух мечтает только о какой-то стабильности и покое».
Автобусные окна запотели, интересно, какая разница температур на улице и тут?
– …выходим из автобуса. Перед нами Еврейский музей, – Линде показалось или гид действительно стала говорить тише и проникновенней. Её движения стали плавными, замедленными. Внезапно показалось, что эта немолодая женщина очень давно страдает от какой-то хронической болезни, но она привыкла к этому состоянию, привыкла жить с ним.
Это как больное сердце, и оно, это состояние с ней всегда, она так встаёт по утрам, движется, работает, но больно, очень больно! Сердце мучается, ноет, его сжимает огромный жёсткий кулак, и на работе, и дома, и в будни, и в праздники. И хотя все давно знают об этой боли, всё равно её надо прятать, делать вид, что ничего не происходит. Гид зачем-то надела очки. Ну, и что? В Греции все и зимой и летом носят очки, потому как зима и лето плавно перетекают друг в друга, и солнце не успевает поблекнуть, а здесь вроде как довольно пасмурно. Идёт снег. Она в очках…
– …наиболее обсуждаемый во всём мире. Некоторые видят в форме здания разрушенную звезду Давида. Всё здание имеет форму разлома, как бы символизируя тяжесть жизни евреев, – она рассказывает сама себе, ей всё равно, слушают её или нет. Но её слушают. Внимательно и самозабвенно, затаив дыхание. «Почему только евреев?» – Линда прячется за спины экскурсантов и поворачивается к гиду спиной – «разлом» может быть символом любого из тех, кто много раз начинал жизнь заново. У меня свой «разлом», с углами и трещинами, у Голунова в Канаде – свой. И кто знает, превратится ли эта ломаная линия в дорогу, ведущую к храму?
– По мере прохождения по залам выставки, свидетельствующих о Третьем Рейхе, стены и потолок смыкаются, заставив посетителя почувствовать тесноту, тупик. Внутреннее пространство музея сделано таким образом, чтобы заставить посетителя почувствовать себя встревоженным, дезинформированным, вызывать в нём ощущения тех, кого изгнали.
«Ты мечтала о новогоднем чуде? Вот оно – твоё чудо. Обнажённые, как высоковольтные провода нервы и голова без шапки, усыпанная свежим снегом».
Линда запомнила только первый день в Берлине. Дальше все города были настолько нереальными, безумно прекрасными, с энергетикой и лицом, как могут быть только люди. Линда купалась в ощущениях, чувствах, желаниях. Её прямо обуяла жажда познания чего-то нового, доселе совсем неизведанного. Мозг её, изголодавшийся по мыслям, впитывал всё, и нужное, и ненужное, как промокашка из школьной тетради. Сила впечатлений всё усиливалась.
Линда начала путать города, совсем не запоминала названий небольших деревень и поселков, любуясь только на написанные германским шрифтом указатели, вывихивала шею до головокружения, чтоб увидеть острые шпили средневековых замков. Однако, она знала – так бывает от перевозбуждения.
Когда она вернётся домой – всё встанет на свои места и разложится по полочкам. «Вот так, – злорадно думала про себя Линда, – Кто-то очень давно, ещё в Средние века хотел проколоть само небо высоченными готическими постройками, а тут вся наша греческая интеллигенция „вдарилась“ в восточные учения, стала прятаться по углам и вешать на окна сушеных лягушек». Хорошо: если мы такие крутые востоковеды, тогда кто сказал, что Атлантида – страна, погрязшая в роскоши и безделье, действительно покоится на дне морском?! Глупости! Затонувшая «Атлантида» – это переносный смысл, это «восточное иносказание». Да, она «затонула», но в переносном смысле.
На самом деле «Атлантида» – это современная Греция, которая после древних веков, то есть, через тысячелетия после Платона не дала мировой культуре ни одного писателя, ни одного композитора, ни одного учёного! Греция – страна без истории средних веков, без современной истории, с одной новейшей – с судорожно бьющим страну кризисом и огромным государственным долгом госпоже Ангеле Меркель. Она вот и лежит на «дне морском», распроданная по кускам, кусочкам на верёвки на тряпочки. И никогда эта затонувшая Атлантида не перестанет всю ночь плясать на столах, сейчас она немного затаилась; спрашивать, зачем русским столько медведей в квартирах и считать, что англичане совершенно не знают английского языка, потому что не понимают греческого произношения.
Да и Бог с ней, с этой Атлантидой! Если она не думает обо мне и бросает меня со своим кризисом на произвол судьбы, почему я должна думать о ней? Если государство не думает о своих людях, то и люди не обязаны думать о «своём» государстве. Линда, вся в сказочно-прекрасном очаровании, наслаждалась скрипом снега под ногами, вдыхала полной грудью морозный, хрустальной чистоты воздух.
Она впала в какое-то странное состояние анабиоза, когда всё, что мешает думать и внимать отметается, как совершенно ненужное, мерзкое и назойливое. Она притрагивалась к стенам замков, осторожно водила пальцем по безупречной формы лепнине украшавшей залы, гладила витражи в кирхах, забывала есть и только, когда чувствовала, что всё плывёт, покупала знаменитую горячую гамбургскую сосиску.
Всё это – и ароматная вкусная сосиска, и замки, и старинные склепы, и занесённые снегом соборы вводили её в какое-то странное состояние немого восторга, внутренней торжественности. В Лейпциге ей страстно захотелось остаться в Томас-кирхе на всю службу, обнять волшебные металлические трубы органа, вознёсшиеся к самому своду, обнять этот инструмент, за которым сидел ещё Иоганн Себастьян Бах. Ей захотелось остаться в кирхе смотрителем, сторожем, уборщицей, кем-нибудь, но только в этой кирхе.
Автобус бежит к Веймару.
«Веймар… Зимняя сказка!» – Так писали все путеводители. Действительно, он больше похож на нереально пышные театральные декорации, чем на город, в котором сейчас может жить любой. А тогда, в восемнадцатом веке творили Гёте, Шиллер, Бах, Ницше. Веймар – место паломничества немецкой интеллигенции. Здесь вся земля сочится миром, как в церкви. Это святое место. Шиллер и Гёте – все они посланники Бога на Землю. Да… весь город Веймар – это храм. Это огромный храм под открытым небом.
Маленькая, скорее всего семейная гостиница. Официант в ресторане пожилой бюргер с македонскими усами на восток и запад. Линда просит русскоязычную соседку за столом заказать ей супчику. Официант с весело улыбается и переспрашивает:
– «Су-упчик»? Су-упчик – карашо!
Линда взяла машину напрокат, потому что в канун Нового года – Парамони Протохронияс – никто из греческой экскурсионной группы не изъявил желания ехать с ней в Бухенвальд. На неё не стали смотреть, как на чокнутую – греки уважают чужие потребности – но и поехать с ней никто не горит желанием. Возможно, они не хотели портить себе праздник, ведь Новый год будут встречать все вместе в уютном ресторане гостиницы. Дамам надо успеть в парикмахерскую, мужчинам просто покурить в тепле и посмотреть телевизор. Праздник намечается нешуточный – и холл гостиницы, и коридоры и ресторан, и дух обслуживающего персонала, всё пребывает в парадно-торжественном состоянии ожидания чего-то прекрасного, не успевшего сбыться в Рождество…
Зачем ей нужно было в Бухенвальд? Она сама не знала… А может быть, знала, но боялась себе в этом признаться?
Она выехала за город. Вот и Веймар остался позади. Вдоль дороги поразительно красивые разноцветные домики с балконами, все сияющие гирляндами ярких лампочек закончились. Они были почти как тот, маленький пластмассовый домик, который Линда когда-то, очень давно, подарила тому единственному, утомлённому и загадочному рыцарю, который впервые при всех громко произнёс слово «еврей». Такие же дома, только без петуний, запорошенные свежим снегом и от этого, может быть ещё более красивые.
Навигатор приказал ехать вверх.
Странно… очень странно… на дороге нет ни одной машины. Тишина… Кажется, если заглушить мотор и выйти из машины, то будет слышно, как снежинки осторожно ложатся на Землю. Нет вообще никого! Да и в Веймаре на улицах не было ни одного человека. Вот, оказывается, что ещё больше усиливало его сходство со сказочным чудом. Становилось реально жутко… Если сейчас кто-то остановит её машину и утащит Линду в чащу леса – её никто не найдёт! Кстати, это что за густые такие леса вокруг! Это дерево называется «бук». Его древесина одна из самых прочных и поэтому дорогих на рынке. Бук – ветви такие густые, что часть из них тянется к небу, а часть, как у плакучей ивы, к земле. Наверное, когда на них есть листья из-за кроны неба совсем не видно. Это вокруг буковый лес, по-немецки «Бухенвальд».
«Бухенвальд»… какое страшное и чёрное слово. «Бухен-вальд». От сочетания этих звуков шевелятся волосы на голове. «Бухенвальд» – знаменитый на весь мир концентрационный лагерь означает просто «буковый лес», «буковый» это точно так же как «хвойный» или «берёзовый»?! Так нежно и так романтично.
У Линды стала кружиться голова. Несколько раз возникало непреодолимое желание развернуть машину и ехать, ехать обратно, не разбирая дороги. Вправо, влево – всё равно! К горлу подкатывала кислая тошнота. На спине между лопатками стало липко. Линда, пересилив себя, ехала и ехала по заснеженной, словно мёртвой дороге по направлению к лагерю, который на указателях был обозначен, как две чёрные, дымящие трубы на коричневом фоне. Линда знала – эта бесконечная дорога, вдоль которой прямо вплотную к асфальту растут высокие, мощные деревья… «Кровавая дорога» – отстроенная заключёнными для подъезда к концентрационному лагерю.
Вот она – огромная знаменитая башня с колоколом… Чуть дальше и правее – безукоризненно гладкая площадка для стоянки автомашин. Она совершенно пуста. Хочешь, паркуй машину вдоль, хочешь – рисуй колёсами на девственно нетронутом снегу кружева, всё равно никто не узнает. Только плотное кольцо букового леса, как и на трассе, вплотную подступает к асфальтовому полю. Кажется, шаг вправо, шаг влево… и ты заблудился в непроходимом лесу. Везде ощущение сжатого кольца и тесноты. Дальше надо идти пешком.
Всего-то известковая каменоломня, которая должна была поставлять материал для строительства в Германии зданий и дорог, стала в 1937 году предпосылкой для создания лагеря на горе Эттероберг. Мирная и покойная затея. В лагерь для физических работ депортировались мужчины, подростки и дети, которым не было места в национал-социалистическом народном обществе: политические противники нацистского режима, те, кого хотели считать уголовниками, гомосексуалистами, свидетелями Иеговы, евреи.
Белое снежное поле, окружённое кольцом – «маршрутом караульных».
Внутри лагеря двадцать пять метров «нейтральной полосы» до знаменитой колючей проволоки под напряжением, растрескавшиеся деревянные вышки, которые ещё хранят на себе следы ног часовых и лагерные ворота – граница территории между лагерем СС и лагерем для заключённых. Два мира – царство Аида и мир живых и границу сторожит трёхглавый пёс Керберос, бешеные глаза, со рта на землю капает зелёная пена.
В мире живых, на стороне СС – новенький, замечательный зоопарк, в котором есть даже медведи. Излюбленное место отдыха и психологической разгрузки служащих СС и их семей. Они любили с детишками прогуливаться по его тенистым аллеям. Зоопарк большой, забавные обезьянки строят рожи, дети смеются; птицы, сурки, есть даже крупные хищники. По другую сторону, в мрачном царстве мёртвых Аида движутся бесплотные, лёгкие тени в полосатых рубахах, они сетуют на свою безрадостную жизнь без света и желаний. Тихо раздаются их стоны, еле уловимые, подобные шороху листьев, гонимых осенним ветром в буковом лесу, плотным кольцом окружившим это тихое место. Сюда не доходят ни свет, ни радость.
Линде плохо. Сердце хочет выскочить из груди. Она знает, что хищников иногда в зоопарке подкармливали особо строптивыми или просто ненужными узниками. Линда с отчётливой, безудержной тоской убедилась – это была действительно плохая идея – ехать сюда в последний день Старого года. Снегопад усиливается и, кажется, поднимается ветер. Если здесь её застанет метель, она просто не сможет выехать.
Ладони мёрзнут на ветру, она вынуждена постоянно придерживать капюшон, потому что он то и дело сползает на глаза. Кто же ей виноват, что перчатки и бумажные носовые платки забыла на сиденье в машине?! Она старается развернуться спиной к ветру…
Институт проведения опытов для получения сыворотки от сыпного тифа… Станция проведения опытов с сыпным тифом… Крематорий – бывшее патологическое отделение и тут же выложенные огнеупорным кирпичом печи для сжигания трупов… Площадь для построения…
Ничего плохого – «площадь для построения». Просто «построения» заключённых и всё! Как везде в лагере должна быть дисциплина. Рабочие должны встать на ежеутреннюю и ежевечернюю поверку.
Линда отпускает надоевший капюшон. Он падает не на глаза, а на спину. Её светлые волосы тут же подхватывает ветер, рвёт, треплет их, осыпая снегом и ледяной стружкой.
…Они стоят на площади для построения, где каждый порыв ледяного ветра обещает быть для них последним. Рвущий душу лай откормленных овчарок с зелёной пеной, капающей с клыков и весёлые анекдоты эсэсовских офицеров; взрывы безудержного смеха и блестящие портсигары в холёных пальцах. В строю живые держат под руку мёртвых. Если умерший с ними, то можно в столовой получить его пайку, поэтому каждый старается найти труп первым. А вот на племенном жеребце выезжает из конюшни «арийская принцесса» – сама фрау Кох, жена коменданта лагеря. Она гарцует перед строем и, кажется, что мощная спина жеребца прогибается от её веса.
Эльза Кох – бывшая библиотекарша, большая любительница красивой кожи. Лицо её почти неженское, какой-то набор мяса на круглом, словно обведённом циркулем месте искажено гримасой омерзения. Эльза Кох – непревзойдённая «мадам абажур». Она сама придирчиво выбирает на теле заключённого татуировку, а потом из приглянувшегося куска кожи заказывает себе перчатки, сумочки, лампы, и даже… даже очень тонкое и очень сексуальное нижнее бельё.
Ноги Линды не хотят сдвигаться с места. Они вросли в плац, они собирают снег… Может, её скоро совсем заметёт? Как это всё так? Как это может быть, в десяти минутах езды отсюда – Веймар! Веймар – собор без крыши, место, Веймар – место, которое Бог отметил на Земле своей рукой и благословил его, а тут… тут четверть миллиона погибших и гарцующая на коне, окутанная дымом крематория Эльза Кох – потаскуха в душе и жена коменданта лагеря по жизни. Здесь – в десяти минутах езды от дома Гёте и Баха и чуть правее и выше от того места, где стоит Линда «Роща памяти» и низина, куда сваливали пепел из крематория.
…Блок 45 – памятные камни болгарским заключённым, лицам, отказавшимся выполнять воинскую обязанность и дезертировавшим из рядов Вермахта, свидетелям Иеговы и гомосексуалистам.
…Блок 22. Памятник погибшим евреям.
За что такая честь? Всех вместе, а евреев отдельно? Что в них такого особенного, в этих евреях? Именно им посвящалась в 1938 году «Хрустальная ночь», и улицы немецких городов за несколько часов были усеяны осколками стёкол из их окон. Почему Нюрнбергский трибунал так и не смог назвать точную цифру жертв фашизма? Озвучили, что приблизительно исчезло с лица земли шесть миллионов человек. Может, потому, что нацисты уничтожали следы своих преступлений, а многие еврейские общины были уничтожены полностью, не оставив ни родных, ни близких, чтоб никто никого не искал? Так это всё в Германии.
Однако, что были гонения на евреев в родном СССР давно ни для кого не секрет. Все народы, в том числе и евреи медленно, но верно становились русскими, ну, или украинцами. Вон даже в своё время одноклассник Маргулис приносил в школу «свидетельство о рождении» и тряс им перед всеми в доказательство славянского происхождения своих родителей.
Одинокий «Фольксваген» на стоянке стал похож на детскую горку: весь занесённый снегом, как если бы Линда его здесь оставляла на всю зиму. Закоченевшие пальцы совсем не слушаются. Роняя ключи на пол, она долго не может попасть в зажигание. «Быстрей, быстрей, подальше отсюда! От этого Веймара, вместе с его Гёте, от „Рощи памяти“, от воздуха, пахнущего смесью чёрного дыма из крематория и приторных до рвоты духов Фрау Абажур!».
Её тошнило, её выворачивало наизнанку, она гнала машину по заснеженной дороге, не оборачиваясь, и не смотря по сторонам.
Вот, наконец, дорога с указателем «Веймар» направо.
Слава Богу! Можно сбавить скорость, и приоткрыть окно. Да и пусть залетают снежинки в салон машины, зато они садятся на щёки и тают. И тогда совсем непонятно – снег это или слёзы.
Как же понять, откуда эта звериная ненависть к этим «евреям»? Ведь Линда была знакома только с одним. Если Маргулис – русский, то точно с одним! Знала и видела только одного, который двадцать пять лет назад стал «изменником Родины» и уехал в Канаду. Знала одного – того единственного, который почему-то был нужен всем, а ему никто. Его любили, а он боялся любить. Его ждали, а он не приходил.
Может Он не хотел быть снова за кого-нибудь в ответе, не хотел приживаться, не хотел пускать корни. Без корней легче расставаться и уходить, легче бежать, легче обманывать себя, что ты свободен, а на самом деле просто не веришь никому. Уехал в Канаду? Конечно… когда «по мере прохождения по залам выставки стены и потолок смыкаются, заставляя посетителя почувствовать тесноту, тупик», в «посетителе» углубляется разлом, увеличивается гигантская трещина, проходящая через всю его жизнь. Вот и Он в очередной раз бросает всё и едет… едет в Канаду. Там трещина поползёт дальше…
Да кто он такой, этот самый «еврей», чтоб о нём думать все эти двадцать пять лет?! Чтоб искать похожего на Него, искать, ошибаться, снова искать, и не находить! Где Он? Как Он? Счастлив или снова собрался в дорогу?
Откуда у Него это немыслимое, неземное обаяние, порабощающее человека, отнимающее у него волю, силы, надежды? Обаяние, диктующее только единственное желание – увидеть ещё раз! Двадцать пять лет искать встречи, двадцать пять лет изо дня в день думать, думать о нём! Сверять своё время по Его часам, думать, гадать – помнит ли меня? Узнает ли при встрече?
Стал бы Он сейчас мной гордиться, поняв, что я выросла и перестала быть Гадким утёнком? Заметит ли, что я – женщина? Двадцать пять лет – это целая вечность, это треть жизни… Так, а если все евреи такие-то ли ангелы, то ли нечисть, порабощающие разум, владеющие душами людей, не отпускающие их на волю?! Может, поэтому в Буковом лесу и был для них отдельный барак №22?!
– Так это и есть мой «новогодний подарок?! Эти мысли?! Эти „открытия“?!», – Линда поняла, что уже разговаривает сама с собой, – Понять, что это наваждение на всю жизнь и ты никогда, слышишь, никогда не будешь свободна?! Его тень, его образ будут всю жизнь преследовать тебя, не давая жить собственными мыслями. То Рождество, когда ты сидела одна со своими подарками было даже лучше, чем этот путь из букового леса обратно в жизнь! – Линда выехала на автобан.
Вдоль дороги летели одинокие столбы, от однообразно-белого пейзажа она немного успокоилась, даже хотела включить радио, но отрывистая немецкая речь никак не вязалась с Новогодними поздравлениями. Она крутанула ручку радио, чуть не вывихнув её наизнанку.
«Хорошо бы побыстрей вернуться в гостиницу, – ноги задубели совсем и она не чувствовала педали, – Хоть бы не было на подъезде к городу «пробки»! Кофе хочется горячего, аж пальцы на руле судорогой сводит. Зачем всё это было?! Да, моя дорогая, это называется «ма-зо-хизм!».
Ты хотела излечиться от хронической болезни, а заболела ещё сильней. Дался он тебе, этот Боря-Саша Годунов! Поменьше бы о нём вспоминала, давно бы имела семью и скотоферму с поросятками в придачу. Сколько ему сейчас лет?! Ты вообще подумала, сколько ему лет?! А вспомнила, сколько тебе?! Нет его в твоей жизни, никогда не было и не будет», – Линда уже злилась на себя, на Голунова, на снег и вообще на весь мир.
Повезло. «Пробки» не было, но указатель показывал объезд. Надо было въезжать в Веймар совсем с другой стороны.
Окно всё ещё было открытым. Линда мёрзла, но холод как-то отвлекал от тяжёлых мыслей. Она глянула в зеркало заднего вида и ужаснулась. Из зеркала на неё смотрела красномордая, растрёпанная баба с мокрыми глазами и облезлым капюшоном. «Не-е-е-т! В гостиницу так ехать нельзя!» – Линде не хотелось ни удивлённых взглядов портье, ни вопросительных соседки по комнате. Куда ехать-то? В какое-нибудь кафе зайти, что ли? Ровно через семь часов – Новый год! Надо привести себя в порядок, избавиться от тяжёлых мыслей. Надо… надо… много чего сделать надо…
Она притормозила и завернула за угол. А за углом происходило что-то странное, то ли ярмарка, то ли просто привоз. В Греции в каждый день недели по разным районам открывается «лаики агора» – народный базар. То есть, приезжают из деревень производители и продают каждый, кто на что горазд. Кто овощи, кто сыр и колбасы. Кто вино и ципуро – всё ту же анисовую водку.
Но, бросив быстрый взгляд на малюсенькие прилавки, Линда поняла что ошиблась, приняв за ярмарку «Блошиный рынок».
О! Как Линда всегда любила такие места, и не беда, что снег повалил, как бешеный, наоборот, так ещё интересней. Зимняя сказка продолжается!
Лоточки стояли на небольшом расстоянии друг от друга. Кто покруче организовал себе эдакий самотканый навес из простыни и каждые пять минут палкой сбивал с него снег. Сразу было понятно – этот человек на рынке не случайный. Какой-то сытый дедок, розовый и очень весёлый дудел в губную гармошку. Прохожие улыбались ему и махали варежками.
Насколько Линда поняла, сюда приезжали раз в неделю, если не продать что-либо из бывшей в употреблении утвари из домашних раритетов, то устроить себе путешествие, прокатиться по хорошей дорожке, послушать музыку в машине, встретить на рынке старых знакомых. Если жена умеет водить машину, то попить с ними пивка и угостить жёлтыми, вкрутую сваренными яйцами из-под собственной хохлатки. Вокруг витал дух здоровья и семейного счастья.
Продавали всё. Линда даже представить себе не могла, что на «прилавок» можно выставить такое!
Треснутые блюдца, но не майсенского фарфорового завода, а простые, на каких у нас в студенческих столовых подавали винегрет. Старый магнитофон с бобинами и коричневыми лентами, клавиши которого страшно напоминали огромные куски сахара-рафинада; потрёпанные книги, чайники с отбитым носом, виниловые пластинки, наверное, с немецкими военными маршами, настенные часы с рыбой вместо кукушки, чтоб молчала…
Мда… судя по возрасту предложений они «родили» определённый спрос. Ну, не… не совсем спрос… Меж столиков ходили «покупатели», что-то вертели в руках, рассматривали, ставили на место, о чём-то, улыбаясь, разговаривали с «продавцами». Те тоже улыбались. Кто-то, недолго поковырявшись в кошельке, приобретал нечто несерьёзное, но безумно ему понравившееся. «Блошиный рынок» – самый светлый и весёлый из всех существующих.
Меж тем, к деду с губной гармошкой откуда ни возьмись, подошёл молодой человек в расстёгнутой донизу, короткой дублёнке. Дед перестал играть, и стал переругиваться с подошедшим, да так потешно, что вокруг них быстро собралась толпа весёлых зевак. Они, судя по всему, подначивали то деда, то парня. Дед тоже в шутку что-то показывал парню руками, типа, что он, то ли дурак, то ли сволочь, одним словом, не совсем хороший юноша.
Обладатель губной гармошки всё тыкал пальцем в свои механические часы и махал в глубь рынка, из чего вытекало, что молодой человек вроде как попросил деда покараулить его «товар» и сам исчез, скорее всего, надолго, то ли с друзьями, то ли с дамой сердца. Молодой человек же в ответ строил такие забавные рожи, как бы передразнивая деда, что Линда остановилась, засмотревшись на весь этот парад бесшабашного празднества.
– Канст ду мир верлассен, бите, Бога ради! – Парень делал вид, что в шутку отталкивает деда от себя и сам крепко обнимал его.
Ничего себе неожиданность! Молодой, симпатичный, говорит на чистейшем русском! Какой приятный сюрприз, тем более, здесь, в далёкой Германии и тем более сейчас В Греции многие знают русский, здесь же, хоть и бывшая ГДР, для Линды русский звучал неожиданно. По своему поняв удивлённый взгляд Линды, темноволосый парень ткнул деду в живот пальцем и что-то быстро сказал ей по-немецки, как бы оправдываясь за своё поведение.
– Я не знаю немецкого, – Линда дружелюбно улыбнулась, – я просто удивилась, как вы хорошо говорите по-русски. Вы русский?
– Я?! – Тут, видимо, пришла очередь парня удивляться. Чёрные глаза выдавали безграничную жажду жизни, – Я похож на русского? Ха-ха! Вот такого мне ещё никто не говорил! За итальянца принимали, а вот чтоб за русского! – И он, не выдержав, залился весёлым, счастливым смехом.
Линде, казалось, доставляло удовольствие смотреть на хохочущего парня. Всё в нём говорило о здоровье, счастье и благополучии. Было понятно, что и для него этот «блошиный рынок» просто развлечение. Вот он и посадил тут знакомого деда с соседнего прилавка с гармошкой, попросив «покараулить» его «товар», а сам как пошёл навещать знакомых, так с ними и заболтался.
Хотя, судя по его замечательному настроению, он, скорее всего, ходил не к знакомым, а к знакомой, и не поболтать. А деду, видать, по такой холодрыге до ветру сильно приспичило, вот он на «коллегу» и орал.
Насмеявшись вдоволь, и видя, что Линда не торопится уйти, жгучий брюнет в распахнутой дублёнке решил не терять возможности что-то всучить из своего арсенала русской туристке.
– Фрау, возьмите вот эту фарфоровую мышь! Знаете, сколько ей лет? – Он, чтоб ну хоть что-то Линде всучить решил расширить ассортимент продаваемых вещей и вытащил из-под раскладного стола картонный ящик с безделушками. Они просто не помещались на забитый «товаром» прилавок, но, тем не менее, видимо, должны были Линду заинтересовать, – … отбитый хвост, ну и что? Этот мышонок…, – он наклонился чуть ниже, прямо к Линдиному уху с завитком волос и стал шептать какие-то смешные глупости о грызунах. Распахнутая дублёнка взметнула полами, и Линда внезапно почувствовала запах разгорячённого молодого тела. Оно пахло туалетной водой, через которую пробивался тонкий запах чищенной абрикосовой косточки…
Линда схватилась за край стола. Сердце вдруг решило выпрыгнуть из груди, но застряло и бешено заколотилось в горле. Она почувствовала, что не может говорить. Вновь по-своему поняв её внезапное движение, парень ногой пододвинул к ней картонный ящик поближе, чтоб она могла заглянуть внутрь.
Как бы многое сейчас Линда отдала за простой стул. За такой же маленький и шаткий, как у деда с губной гармошкой!
Книги… химические карандаши, деревянная канцелярская промокашка – неваляшка, вся заляпанная чернилами, домик… маленький пластмассовый домик, видимо, от какого-то старого макета. Чья-то бывшая игрушка. Как он попал сюда? Он не может быть один. Это из таких детских наборов – паровозики там всякие, деревья пластмассовые, горки, мосты… – она, пересиливая себя, заглянула в коробку. На промокшем дне не было ни паровозиков, ни мостов, ни деревьев, ни других домов. Значит, он тут один?!
Она сняла перчатку, наклонилась, и подняла домик со дна коробки.
Линда сжала его в ладони и закрыла глаза.
Нежное, ласковое тепло разлилось по всей руке. Это был он, он – её домик из белой коробки с нарисованным на ней паровозом, домик, который она много лет назад подарила Ему на счастье. Вот и белые петуньи, правда, сейчас они облезли и стали грязно-жёлтыми, но среди них отчётливо видны те, красные, которые Линда сама пририсовала, чтоб было похоже, как будто домик весь в розовой пене! В гостиной, освещенной желтоватым светом, стоит наряженная ёлка и под ней лежат, перевязанные атласными лентами, коробки с подарками.
– Сколько… сколько стоит этот домик? – Линда, не отрываясь, смотрит на горячего брюнета с итальянскими глазами. Он улыбается одними уголками губ. Брутальный мужчина, знающий себе цену. А на щеках… совершенно не кстати две детские ямочки на нежной коже!
– Домик? – Мачо был несколько удивлён выбором дамы и озадачен. Он старался казаться бывалым продавцом и не выказать своего удивления. У него торжественное лицо и поднятые вверх брови:
– Этот домик не продаётся, потому, что он ничего не стоит, – дублёнка распахнута, от него идёт нежный запах абрикосовой косточки, – этот домик папа велел подарить кому-нибудь перед Новым годом, на счастье! Нам этот домик счастье уже принёс. Мы живём точно в таком же, но настоящем. Мы купили его месяц назад!
Ха-ха! – Он не может долго быть серьёзным, – Совсем недалеко отсюда купили, – безудержное, предновогоднее веселье, казалось, прямо душило этого торговца подержанным товаром. Оно готово было выйти, выскочить из него и горячей волной перекинуться, захлестнуть любого проходящего мимо, – А вы берите его в подарок, совсем даром и если хотите ещё что-нибудь купить, возьмите хлебницу, – улыбка так же внезапно исчезла с его лица, как и появилась. Он вдруг снова стал совершенно серьёзен, склонил голову и посмотрел Линде прямо в зрачки:
– Эта хлебница сделана из очень красивого дерева, оно называется «бук». Это горное дерево и у нас тут растут целые буковые леса.
А вы знаете, какой бук крепкий и выносливый? Это дерево пока маленькое, может расти даже совсем без солнца. А если спилить взрослое дерево до пня, да хоть под корень, то через некоторое время поднимаются прямо из земли от корней новые ростки, и тогда каждый росток даст начало новому дереву!
Вы когда-нибудь слышали об этом?
Конец
Больше, чем реалити
Повесть
Абсолютно выдуманная история, все совпадения с действительностью – простая случайность.
Глава первая
Белое, матовое лицо, огромные синие глаза без зрачка и без единой мысли… Её выносят из квартиры на специальных сидячих носилках. Кожа отливает зелёным фосфором на фоне старых деревянных икон в серебряных окладах… Иконы… иконы… маленькие, большие, разные… Вся стена в иконах, как на резном иконостасе в церкви. Голова болтается из стороны в сторону в такт движениям санитаров… Значит – пока не застыла… значит… может быть даже жива?! В углу рта слюна, похожая на зубную пасту, противная, с пузырьками… Носилки лёгкие, кажется, плывут по воздуху. Она худенькая, маленькая… Лифта в доме нет, но санитары смогут её быстро донести до «экапа».
«Экап» – так в Греции называется реанимобиль – красивая ядовито жёлтая машина с оранжевыми полосами и, написанным на капоте, зеркальным отражением слова AMBULANS. Несколько сердобольных соседок подпирают щеку руками и сочувственно качают головой. Они все русскоязычные, приехавшие из бывшего СССР. Местные греки, не оглядываясь, проходят мимо. Они не любят наблюдать картины чужого горя да и к своим утратам относятся беззаботно и легко. «Всё в руках Божьих!», – При этом объясняют они и стараются побыстрее свернуть за угол.
Людуська была до безобразия общительной и смешной. Она конкретно ухитрилась, дожив до своих шестидесяти пяти, остаться Людуськой. И даже на «Людуськой» как таковой, а вообще «Дуськой». Это, наверное, потому, что в определённом обществе принято считать «маленькая собачка всегда щенок».
Её «общество» было к ней и в целом благосклонно. На самом же деле Дуське и самой нравилось играть роль «маленькой собачки всегда щенка». Она вообще всю жизнь играла какую нибудь роль, Но именно «щенок» была заглавной. В отчем доме Людуська считалась «самой маленькой «в семье, хотя и была по возрасту старше своих братьев и сестёр; потом «самой маленькой в классе», ну и так по жизни. Освоившись с детства в роли «маленькой собачки», она на долгие годы проросла в неё всей кожей, всем телом, обосновалась, прижилась да так и осталась, научившись очень правильно выкачивала из этого «положения» свои выгоды.
А выгод оказалось много!
К примеру она в зависимости от ситуации то пошаливала, как маленький ребёнок, дула губки, дрыгала ножками, то вдруг, вспомнив сказку Ганса Христиана Андерсена» Гадкий утёнок», искрясь и переливаясь, росла на глазах. Это она «превращалась» в «прекрасного лебедя», «женщину-вамп». В роли «лебедя» Дуська, вытянув вперёд тоненькую шею, могла часами рассекать по городу пешком, с лёгкостью преодолевая гигантские расстояния и ежечасно меняя наряды в примерочных близлежащих магазинов. В любом магазине она профессиональным чутьём кокетки моментально находила примерочную – этот плохо освещённый интимный уголок с пыльной занавеской и вытягивающим силуэт зеркалом, затем с ловкостью изощрённого факира ныряла в «таракотовую» сумку, извлекая тщательно отутюженные и ещё дома в стопочку сложенные наряды и в очередной раз переодевалась.
Она плыла по салоникским улицам, водрузив на голову невообразимую чёрную шляпку с вуалью и птичьим пером на запад, что в климатическом поясе Греции выглядело довольно нелепо. На неё с удивлением оборачивались любопытные туристы, практически в упор разглядывали и не скрывали восторга.
И Дуське это нравилось! Она, гася лукавый прищур, хищно улыбалась, показывая зубы мудрости в золотых коронках. Когда ей это надоедало, она, словно внезапно что-то вспомнив, становилась «ловкой чертовкой». В роли «ловкой чертовки» Людмила, нисколько не обращая внимание на своё «величие», могла запросто незаметно слямзить в гостях или даже в магазине чужую вещь, запихав её себе в лифчик. Дуська открыто презирала все законы греческого общежития, весь день говорила «кали мера» – хорошего рассвета вместо «калиспера» – доброго заката, ела рыбу ножом с вилкой и в гости никогда не появлялась, как положено – предупредив звонком о своём появлении. Разрешения она ни у кого, ни на что и никогда не спрашивала, сваливаясь, как птичий помёт на голову очередной жертвы и орала дурным голосом в домофон:
– Линда! Открой на минуточку! Я тут мимо проходила…
– Ну и проходила бы мимо! – Смеялась Линда, но двери открывала почти всегда.
Наверное, действительно удобно делать из себя «маленькую»: можно прикинуться дурочкой и делать вид, что не понимаешь о чём идёт речь; можно, внезапно забыв, типа провалы памяти, о своих шестерых внуках от троих сыновей, напиться хоть тормозной жидкости и прыгать в таверне по праздничному столу, отбивая кривым каблуком такт вальса «Амурские волны»; можно попросить «взаймы» денег и «забыть» их отдать. Вообще, если дать фантазии полёту, это же сколько же всего можно!
Дуськины поступки реально напоминали поведение «трудных» подростков до двенадцати из неблагополучных семей.
Ещё она могла … ой, да мало ли что могла сделать Дуська?! Но ей все сходило с рук, ей всё прощали. Близкие пожимали плечами:
– Ты что?! Дуську не знаешь? Да, ладно тебе!
И Дуську знали, и Дуська знала.
Линда ни за что не смогла бы ответить однозначно, как она относится к Людмиле. То ей казалось, что Люда ведёт какую то тайную игру, стараясь отвлечь внимание окружающих от чего очень глобального в её жизни, объегоривая всех вокруг и тайно насмехаясь. В такие минуты Линде хотелось огреть её тяжёлым предметом типа примуса по голове. То Линда, принимала Дуську со всеми детскими подгузниками и верила ей, хотя в Линдиной голове всё равно никак не укладывалось: как можно совершать «глупости» только в пользу себя?! А-а-а-а Дуська в роли «маленького щенка» всё наяривала и наяривала каждый день как в последний. Наверное, она уже и сама, случайно заглянув в паспорт, была бы крайне удивлена, обнаружив в нём пропись о своём истинном возрасте. С одной стороны Линда жалела Дуську. В смысле – жалела её не за определённые поступки, а жалела в целом. Ей было неприятно, что Дуська бездельница и «паразитка». Линда ругала её нелепые выходки, например за страсть к бесконечному «шопингу», причём в кредит.
Где потом Дуська добывала деньги, чтоб расплатится за огромные чёрные целлофановые мешки, туго втиснутые под кровать, никто не знал. Так она ещё и любила демонстрировать гостям содержимое этих самых баулов, выворачивая их наизнанку и вытряхивая на свою кровать невнятное содержимое «аристократических» оттенков – «пастэль», «абрикос», «карамэль». На эти тряпки от китайского «Моргана» из греческих «бутиков» Дуська молилась как на иконы. Сколько Линда не пыталась объяснить Дуське, что весь «Морган» в Грецию прибывает приблизительно оттуда, откуда и краска для волос «радикально чёрного цвета» фирмы «Титаник», то есть – без пересадок из Одессы с улицы Дерибасовской, та щёлкала распахнутыми, похожими на окна в ясный солнечный день, глазами и, мелко-мелко кивая, всенепременно во всем соглашалась, говорила, что «спорола фигню», что «в последний раз», что больше «ни в жисть», глаза её медленно наполнялись слезами, она плакала навзрыд, трясясь и вздрагивая всем телом и… и снова выпрашивала взаймы деньги. Вскоре под кроватью появлялся очередной моргановский мешок, и их в крохотной квартирке было уже штук пять, никак не меньше.
Ещё Линда жалела Дуську за неугомонный характер, за непостоянство, за то, что Дуська ни с кем никогда не могла ужиться, за её хронические бредовые идеи, за страсть к резким переменам в жизни. Вот к чему было, спрашивается, вдруг всё бросать и ехать из Киева жить в Грецию?! Понятно, многие греки, совершенно одержимые навязчивой идеей о репатриации, приехали на «историческую родину» в поисках призрачного счастья в «родной Элладе». Все свои разговоры они начинали и заканчивали словами: «Эллада, мана му!» (Эллада, матушка моя!), А Людмиле тут что?! Она же не гречанка! Значит, ей гражданство не светит.
И вот результат – Людмила нигде не работает, «социал» в виде копеечной компенсации за безработицу не получает, языка не знает и чем промышляет для всех загадка. Прикатить в Салоники, только чтоб коллекционировать пхеньянский «Морган» под никелированной кроватью с продавленной сеткой как-то несерьёзно. Линда жалела шалопутную Дуську чисто по-человечески…
Хотя может как раз Дуська и делает всё правильно в отличии от Линды при этом и абсолютно счастлива? Обсуждать кого-то и травить советами самоё лёгкое. А что сама Линда совершила такого умного в своей жизни?! Добилась чего-то достойного? Вытянула счастливый билет? Или было очень продумано и круто, не слушая никого, кинуться за призрачной мечтой в Германию?! Это называется правильным и мудрым решением?! И что теперь из этого вышло?!