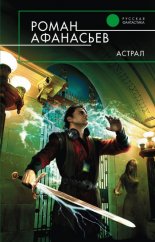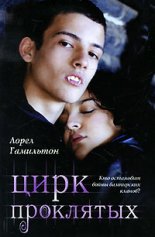Белое, черное, алое… Топильская Елена

— Ни фига ж себе, — присвистнул Кораблев. — А куда ж они ксиву его дели?
— Надо обыски у них делать, Леня, — задумчиво сказала я, присев снова на корточки и разглядывая форменный милицейский ботинок из кораблевского пакета.
Да, именно такие ботинки, с толстой рифленой подошвой, Кораблев привез из морга в виде слипшегося обгоревшего блина. Завтра мне влетит по первое число за то, что по вертолетовским бойцам у меня еще и конь, не валялся. А уж их-то давно надо брать и работать с ними плотно. А мне остается разорваться на тысячу маленьких Швецовых, чтобы все успевать. И не спасает даже Карнеги с его заповедью о том, что дела нужно делать не в порядке их срочности, а в порядке их важности. А что вы скажете, уважаемый Дейл, если дел куча, и все они одинаково срочные и одинаково важные?
Держа в руке милицейский ботинок, я подумала о том, что обгоревший труп, найденный нами в Токсове, все-таки окажется трупом оперуполномоченного Владимира Владимировича Бурдейко, который, судя по тому, что я знаю на сегодняшний день, принимал участие в трех эпизодах шантажа вместе с оперуполномоченным Сиротинским и следователем городской прокуратуры Денщиковым.
Ну, даже если предположить, что в случае с юристом страховой компании Костенко его использовали втемную, — например, Денщиков сказал, что надо съездить, задержать человека за изнасилование и привезти в РУВД, то в следующий раз-то он уже должен был понимать, что к чему? И кроме того, на совести Бурдейко и Сиротинского еще незаконный обыск у Скородумова. Хотя тут тоже — как посмотреть: постановление на обыск у них было, тут не придерешься, а они — люди маленькие, им сказали, что искать, они и искали. С чего я взяла, что он в сговоре с Денщиковым? Да и Денщиков, в этом я не сомневалась, наверняка уже придумал правдоподобную версию в оправдание всем своим акциям. А на чердаке напротив вертолетовского дома что Бурдейко делал? Выбирал место для бомбы с дистанционным управлением? Или выполнял служебное задание, следя за преступным авторитетом? Блин, как разобраться? Дорого я бы дала, чтобы узнать, что же из него вытрясли в токсовском лесочке вертолетовские цепные псы… А что-то, наверное, вытрясли. У них методы дознания очень эффективные. А от того, что там, в токсовском лесу, облили бензином и подожгли предварительно измолоченного, как боксерская груша, не кого-нибудь, а оперативника, было нехорошо на душе. Даже если он и был продажной гнидой, — все равно не заслуживал такой страшной смерти… Интересно, а Сиротинский-то еще жив? А брат его?
— Лень, а где ты все-таки с Анджелой познакомился? Извини, конечно, за нескромный вопрос, — обратилась я, сидя на корточках, к Кораблеву, занимавшему мое место и наблюдавшему за тем, как я собираю его шмотки.
— Подвез я ее, на машине, — рассеянно ответил Кораблев, думая о чем-то своем. — Я иногда на тачке халтурю, жить-то надо на что-то. Нет, вы представляете, как кризис грянул, народ стал на общественном транспорте ездить, не допросишься. Выехал я тут на охоту, стою на Комендани, мерзну, жду возле остановки, — может, кто-то заинтересуется. Поздний вечер. Тут подходит ко мне разодетая барышня, в рюшах и бомбошках, с каблуков чуть не падает. Доковыляла, значит, до меня, наклонилась, из декольте все вываливается, и интимно так говорит мне: «Усть-Луга…» Я чуть из тачки не выскочил, в душе все запело, думаю, голубушка, ты ж меня обеспечишь на всю рабочую неделю. Ух, прямо так сейчас и расцелую. Не в силах сдержать возбуждение, спрашиваю: сколько? Она декольте трясет и отвечает игриво: сто! Лихорадочно соображаю — рублей или баксов. Решаю, что поеду и за то, и за то. Открываю дверь и говорю: прошу, мадам! Она мне — нет, пойдем! И тянет меня за галстук из машины. Я удивляюсь, говорю — куда ж идти, ехать надо, а она повторяет: «Усть-Луга!», причем с придыханием. Блин, и тут до меня доходит: да не Усть-Луга, блин! А «услуга».
Нет, вы представляете? Я до утра в себя приходил.
— А где ж ты Анджелу подхватил? — продолжала я настаивать.
— На площади, возле городской прокуратуры…
Я наконец упаковала пристойным образом Ленькины форменные причиндалы и, поднявшись с корточек, протянула ему пакет. Он его молча взял.
— А где волшебное слово? — Я выжидательно смотрела на него.
— А! Спасибо, — спохватился Кораблев.
— Спасибом не отделаешься, Леня. Надо срочно устанавливать этих людей и всех ко мне вытаскивать. — Я протянула ему список, составленный ювелиром: три фамилии, с номерами телефонов, покупателей и продавцов итальянского креста. — Найдешь их, получишь орден.
— За Вертолета орден не получу, — возразил Кораблев.
— А ты что, только за орден согласен работать?
— А вы за что, за зарплату работаете? Кстати, вам ее заплатили?
— Нет еще, завтра обещают. Ох, блин, я же договорилась с мамашей Чванова и собиралась к ней поехать после заслушивания из городской, а зарплату не раньше трех привезут. Значит, я и завтра не получу.
— Давайте я за вас получу, — хмыкнул Кораблев.
— Ага, и в китайский ресторан. Как ты расплатился-то там?
— Расплатился, не волнуйтесь.
— Тебя не вышвырнули за проявленную наглость? — Меня не только не вышвырнули, мне еще дали карточку постоянного гостя, я теперь туда могу ходить со скидкой.
— А ты не боишься, что, когда широкая общественность узнает о смерти Вертолета, у тебя карточку отнимут?
— На ней не написано, что я друг Вертолета…
— На, почитай, — я кинула ему протокол допроса Костенко.
Кораблев внимательно изучил показания несчастного юриста и прокомментировал:
— Ну вот, кабаки да бабы довели его до цугундера. Половой извращенец, так ему и надо. А это что, моя Анджелка в теме?
— Твоя, твоя, так что глаз с нее не спускай. Она знает, где ты работаешь?
— Знает, я баб когда в машину сажаю, сразу говорю: «Здравствуйте! Полиция нравов!» Я ей уже предложил к нам общественным помощником оформиться.
— Куда к вам? В РУБОП, что ли?
— В полицию нравов…
Трясясь вместе с шефом на нашей разваливающейся машине, по дороге в городскую прокуратуру, на заслушивание, я думала, что, если методсовет будет у прокурора города, лучше смотреть, как облетают последние, редкие листья с кустов на площади. Когда руководство устраивает выволочку, лучше не принимать ее близко к сердцу, а любоваться видом за окном, время от времени кивая в знак того, что не заснула еще.
Методсовет по убийству Бисягина, с учетом важности и общественной значимости дела, взялся вести сам прокурор города Дремов. Я чуть не хихикнула, хорошо, в последний момент удержалась, получилось, что я только сдавленно хрюкнула; просто, увидев наше первое лицо, вспомнила его выступление по телевизору в день похорон депутата Бисягина. Дуремар, вцепившись в трибуну, как мокрый котенок, выкрикнул в пространство какую-то загадочную фразу о том, что информации следствием уже собрано достаточно и что это ужасное преступление будет раскрыто не сегодня-завтра, в общем в самые ближайшие дни, короче — преждевременно… Мы смотрели его выступление в приемной у шефа, куда народ созвали по такому случаю, и дружно пытались понять — в каком смысле преждевременно? Когда общество еще не будет готово воспринять такое раскрытие?
«Злые вы какие, — сказала канцелярская Зоя, — он хотел сказать, еще до того, как истечет двухмесячный срок расследования…» — «Ну так бы и сказал, — проворчал Горчаков. — А мы тут что, гадалки, что ли, соображать, что он имел в виду! Прежний прокурор хоть говорить умел».
Вообще компания собралась весьма представительная: у руля, на председательском месте, Дуремар, в президиуме генерал Голицын (вот кого я была тут рада видеть), наш шеф, прокурор Будкин и Василий Кузьмич. И рядовые в зале-я, Кораблев и Мигулько. Хотя, вернее, в зале-то как раз все вышеперечисленные, а мы с Ленькой и Костиком на арене Колизея.
Сначала Дуремар выступил с получасовой невнятной речью о необходимости раскрытия таких важных преступлений, подрывающих основы государственности; все успели по несколько раз уснуть и проснуться, а мне не спалось, и я с тоскливой неприязнью думала, что убийства сопровождали человечество на протяжении всей его истории, начиная с Каина и Авеля, и ничего такого страшного с государственностью не произошло; а вот несвоевременная выплата зарплаты как раз очень даже подрывает основы государственности. А потом, что значит — «важные преступления»? А что, есть не важные преступления? Депутата убили — это важно, и надо срочно раскрывать, в общем — преждевременно; а мальчика убили в подвале — не важное, значит, преступление? Да ну, мысленно махнула я рукой, это вечный спор: важные, значит, раскрывать, а по остальным, что-не работать? Нет, работайте и по остальным тоже, мы с вас спросим. Только важные быстрее раскрывайте… А не важные что, медленно раскрывать? Нет, их тоже быстро раскрывайте; тогда я не понимаю, в чем разница… Ну что, отметила я, не доспорив про себя с начальством, увертюра к концу идет, сейчас мне объяснят, как надо работать по важным преступлениям.
Придавленные великими истинами, которые изрекал тут прокурор города, все понуро выслушали мой доклад по материалам уголовного дела. Я добросовестно рассказала все про пульт у мусорных бачков, про незадачливую дворничиху, сообщила, что я думаю об истинной цели взрывателей, упомянув, что истинная их цель — Вертолет — скончался третьего дня в одной из городских больниц. И, не подумав скромничать, гордо заявила, что я лично сочла нужным осмотреть труп Лагидина в больнице и ездила на вскрытие; и пришла к выводу, что, несмотря на отсутствие внешних признаков, указывающих на преступление, смерть Лагидина — насильственная, это убийство, но пока эксперты причину смерти не установили.
— Ну, вы их поторопите, что это такое, — сделал замечание Дуремар.
А я отметила, что он совершенно известию о смерти Лагидина не удивился и даже не спросил, при каких обстоятельствах тот скончался и что я лично думаю относительно причины его смерти.
— Обязательно потороплю, — заверила я прокурора города. — Я направлю им письмо о недопустимости так долго устанавливать причину смерти.
Дремов согласно кивнул, я давно заметила, что они в городской очень любят слово «недопустимо».
— Труп из Токсова установлен? — подал голос Голицын. Я повернулась к нему:
— Официального опознания пока не было, но мы получили некоторые сведения о предполагаемой личности трупа, и вероятно, результаты опознания будут для вас, Сергей Сергеевич, не слишком приятными.
Голицын вопросительно поднял брови, и я заметила, как он напрягся и подобрался.
— Есть основания полагать, что убитый лагидинскими людьми в Токсове являлся оперуполномоченным одиннадцатого отдела Управления уголовного розыска Бурдейко Владимиром Владимировичем. Во всяком случае, мы уже установили, что Бурденко исчез, не выходит на работу, и время его исчезновения совпадает со временем убийства.
— Черт знает что, — тихо сказал Голицын и, обратившись к прокурору города, спросил, не считает ли тот, что дело приобрело несомненную общественную значимость, и не следует ли его передать для дальнейшей работы в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры города.
Дуремар глубокомысленно пожевал губами, но ничего не ответил.
— Продолжайте, — кивнул мне Голицын. Видно было, что он расстроился. Да, Сергей Сергеевич, подумала я, вы еще сильней расстроитесь, когда узнаете, какими делами ваш подчиненный Бурденко занимался помимо службы. И совсем вам не улучшит настроения, если мы докажем, что и бомбочку в депутатский домик подложил не кто иной, как оперуполномоченный Бурдейко. Правда, не один, а в составе организованной преступной группы.
— Поскольку стало известно, что незадолго до своего исчезновения оперуполномоченный Бурдейко работал в следственно-оперативной группе у следователя по особо важным делам прокуратуры города Денщикова, нам бы хотелось побеседовать с Игорем Алексеевичем, может быть, он прольет какой-нибудь свет на последние задания Бурдейко. Эту беседу желательно оформить протоколом допроса, — высказала я ключевую (для меня) мысль сегодняшней сходки и посмотрела на прокурора города. Он не замедлил отреагировать.
— Денщиков уволен, — коротко сказал он.
— Что-о?!
У меня открылся рот. И, насколько я могла видеть боковым зрением, — у шефа, Кузьмича и Кораблева — тоже.
— А можно узнать, когда и за что? — справившись с потрясением, задала я вопрос.
— В пятницу, — ответил прокурор города, разглядывая свои руки.
— А что послужило причиной увольнения? — допытывалась я, презрев приличия.
— Не справлялся он с работой в последнее время, устал, в пятницу пришел ко мне поговорить, и мы оба решили, что лучше ему будет уйти, я ему подписал рапорт, отдел кадров оформил, — объяснил Дремов.
— За полдня? — удивилась я. — И он все свои дела сдал уже?
— Да, акт подписали, а если какие-то вопросы возникнут, он будет приходить.
— Ну хорошо, — вздохнула я, — значит, теперь у нас развязаны руки, и мы можем не спрашивать у вас согласия на допрос Денщикова.
Прокурор города тревожно зажевал губами; наверное, он к такому повороту не был готов, думал, что уволили — и с плеч долой. Как и все общенадзорники, он совершенно не разбирался в следствии.
Про нашу прокуратуру вполне можно было сказать словами русского юриста Боровиковского, который так охарактеризовал прокуроров Петербургской судебной палаты в конце прошлого столетия: все прокуроры делились на цивилистов и криминалистов, при этом цивилистами звались те, кто ничего не понимал в уголовном праве, а криминалистами — те, кто ничего не смыслил в гражданском…
— Странно, что не ведется работа с бойцами Лагидина, которые причастны к убийству опера, — подал голос генерал Голицын.
— Честно говоря, мне обещали, что будет решен вопрос о передаче дела в областную прокуратуру, поэтому мы не хотели пока приступать к реализации, — ответила я.
— А почему не решили? — повернулся Голицын к Дуремару.
Напрасно: ответа он не дождался, Дуремар продолжал надувать щеки. Вообще Голицын как-то незаметно взял бразды правления в свои руки; получалось, что он тут главный.
— Я надеюсь, за ними хоть наблюдают? Они не улизнут у нас из-под носа? — слегка раздраженно спросил он.
— Не улизнут, — подал голос Василий Кузьмич. — Мы у них на хвосте висим, и не только мы, но еще и коллеги из ФСБ.
— Помощь нужна? — резко продолжал Голицын. — Если надо, я полглавка подключу…
Вот, у этого свое деление на важные и не важные дела, подумала я. На депутата ему плевать, а вот опера убили, — тут он полглавка снимет с других дел и бросит на это.
— Справимся, — сдержанно отвечал Кузьмич.
Оно и понятно, так он и пустит главк в свою, рубоповскую реализацию. Даже если справляться не будут, все равно без главка обойдутся.
— Что-то плохо справлялись до сих пор, — даже и не язвительно, как можно было ожидать, а устало сказал Голицын.
— Не хотелось начинать реализацию с бухты-барахты, — вступилась я за РУБОП. — Мы и на сегодняшний день еще не все выяснили, чтобы приступать к задержаниям.
— Не понял, — прищурился Голицын. — То вы говорите, что ждете передачи дела в область, то, оказывается, готовитесь к реализации…
— Одно другому не мешает…
Я вдруг разозлилась. Что это он тут командует? У меня свои начальники есть. Но тут же остыла: все Голицын говорил правильно, в отличие от моих начальников.
— Известно ли вам что-нибудь, — вдруг спросил Голицын, — о связи взрыва с убийством предпринимателя Чванова в прошлом году?
Я кивнула:
— Известно. — Посмотрев на Кузьмича и получив добро на разглашение сведений, я продолжила:
— Нам даже известно, что через полтора часа после взрыва Лагидину домой звонил неустановленный мужчина, из содержания разговора можно было сделать вывод, что взрыв был направлен на Лагидина, который не пострадал только по счастливой случайности, и что, — но это уже весьма вольное допущение — что взрыв как-то связан с убийством семьи Чвановых.
— Выражайтесь яснее, — попросил генерал, совсем не злобно.
Я снова посмотрела на Кузьмича и, когда он кивнул, продолжила:
— Во-первых, звонивший поздравил Лагидина с наступающей годовщиной, а через несколько дней, действительно, наступала годовщина смерти Чвановых, и, во-вторых, последняя фраза звонившего, но в этом я не уверена, содержала намек на название фирмы Чванова «Фамилия».
Показалось мне, или нет, что при этих словах прокурор города вздрогнул, не сводя глаз с крышки стола?
— Я бы хотел посмотреть сводки, — сказал Голицын, и тут прокурор города подал голос:
— Сергей Сергеевич, пусть этим занимаются оперативные работники, нас время уже поджимает.
Если Голицын и удивился, то виду не показал и как ни в чем не бывало продолжил:
— Выводы?..
— По-моему, очевидно, что закладка в парадной бомбы имела целью отомстить за убийство семьи Чвановых, — заговорил Василий Кузьмич.
— А значит? — настаивал Голицын.
— А значит, — подхватил Кузьмич брошенную ему подачу, — есть все основания подозревать, что убийство Ивановых совершено либо людьми Лагидина, либо по его заказу. И мотив просматривается: Лагидин являлся «крышей» банка «Царский», у которого был конфликт с Ивановым из-за здания в центре города.
— Прекрасно. Значит, если мы будем целенаправленно работать, то в самом ближайшем будущем раскроем сразу два тягчайших преступления? Кстати, где оперативно-поисковое дело по убийству Ивановых?
— У нас, в РУБОПе, — закивал Кузьмич.
— Таким образом, — продолжал Голицын, — если мы установим людей, которые организовали покушение на убийство Лагидина, в результате чего по чистой случайности погиб депутат Госдумы, и если будем грамотно с ними работать, они могут рассказать нам об организации убийства Ивановых. Ведь если они мстят за Иванова, значит, располагают достоверной информацией о том, что именно Лагидин стоял у истоков этого преступления. Вы согласны? — обратился он ко мне.
Я некоторое время молчала, переваривая полученную информацию и соображая, стоит ли здесь говорить о моих версиях гибели Ивановых, а потом вдруг решилась, уж больно симпатичен мне бьш Голицын и очень хотелось блеснуть перед ним своим оперативным мышлением. И заявила:
— Я не согласна.
Голицын бьш заметно удивлен, у него даже очи блеснули при этих моих словах.
— А… А что же тогда? — немного растерянно сказал он.
— Я думаю, что корни преступления лежат в семье Ивановых. Семейная версия совершенно не исследована по делу, и я собираюсь ею заняться.
— А как же телефонный звонок Лагидину после взрыва? — впервые за весь методсовет подал голос прокурор Будкин. — Куда же девать версию о мести за убийство Ивановых?
— Во-первых, версия о взрыве как мести за Ивановых совершенно нас не приближает к знанию о мотиве убийства Ивановых.
— А как же конфликт из-за здания?
— А какой смысл убивать не только Иванова, но и его жену из-за здания?
Сделка была уже совершена, и убийство Иванова ничего бы не решило. А убийство жены даже в месть не влезает. Я бы еще поняла, если бы убили только жену, а Иванова оставили в живых. Но здесь убийца входит в дом и целенаправленно ищет жену, чтобы убить, все материалы дела говорят об этом. Кроме того, мать Иванова, к которой перешел особняк, до сих пор жива. Нет, здесь какие-то личные мотивы, я бы даже сказала, семейные, и я собираюсь, по крайней мере, честно отработать эту версию. Мне она представляется наиболее перспективной.
После моего спича воцарилась мертвая тишина. Присутствующие смотрели на меня во все глаза, а я разглядывала непроницаемое лицо генерала Голицына до тех пор, пока он не встал и, громко произнеся: «Какая чушь!», покинул кабинет.
Когда стукнула дверь, я с грустью подумала: да, не удалось Артему устроиться в депо; в смысле — не удалось произвести на Голицына впечатление.
Вернее, удалось, но прямо противоположное тому, которое замышлялось.
— Что-то вы ерунду какую-то сказали, — укорил меня прокурор города, придя в себя после генеральского хлопанья дверью. — Не занимайтесь самодеятельностью, слушайте, что вам говорят старшие товарищи.
— Виноват, исправлюсь, — пробормотала я себе под нос.
— Что вы там шепчете?
— Я с вами согласна, — отчеканила я, и по глазам прокурора было видно, что он заподозрил — я над ним насмехаюсь.
Ну что ж, он был недалек от истины.
— Да уж, Сергеевна, ты загнула, — пробормотал в усы Василий Кузьмич.
— Все свободны, — сказал Дремов. — Владимир Иванович, а вы останьтесь.
Мне все равно предстояло ждать шефа, да и зарплату хотелось получить, поэтому я отказалась от услуг Василия Кузьмича и к Нателле Чвановой-Редничук решила отправиться, предварительно заехав в прокуратуру. Постепенно все участники методсовета разошлись и разъехались, а я зашла к девчонкам из милицейского отдела — потусоваться и попить чаю с печеньем. Спросив, что они слышали про увольнение Денщикова, я спровоцировала целый поток информации:
«Как, Машка, ты ничего не знаешь? Он же от жены ушел! Поселился у Татьяны Петровской и разводится. Жена бегала к Дуремару, может, его из-за этого выперли?» — «А где он работает?» — «Стажер адвоката, он там давно, оказывается, мосты наводил».
Когда я ввалилась к себе в кабинет, возвратясь из городской прокуратуры, и бросила на стол увесистый том дела о взрыве, тут же прибежал Горчаков узнать, жива ли я и насколько травмирована морально.
Я села в свое любимое рабочее кресло и, крутясь в нем то направо, то налево, сказала Лешке:
— Помнишь, что говорила наша старая адвокатеса Косова? «Поскольку прокурор очень долго убеждал всех, что аффекта там нет, я решила, что аффект там как раз и есть». Ты согласен?
Умение держать слово — одно из моих главных достоинств. Уж раз я пообещала всерьез заняться семейной версией гибели Чвановых, я не стала откладывать дело в долгий ящик. Получив зарплату и сразу почувствовав себя белым человеком (впрочем, этого чувства хватит лишь на несколько дней, оно кончится вместе с деньгами), я вышла из прокуратуры, поймала такси и отправилась к госпоже Чвановой-Редничук заниматься проверкой самой перспективной версии.
Уже подъезжая к дому, адрес которого был указан в любезно оставленной мне визитке, я почувствовала, что такой утонченной женщине, как Нателла, очень подходит жить в этом старинном особняке, каждый день входить в эту широкую парадную с круглым холлом, украшенную колоннами и изразцовой печкой, где пахнет не затхлостью, а цветами и прудом.
Поднявшись на третий этаж, я увидела, что вместо звонка в дверном углублении торчит загнутая крючком проволочка — очень изящно оформленная, благородно подернутая патиной. Я умилилась: такой конструкции звонок был в старой коммунальной квартире, где я жила в детстве. Снаружи — изящный проволочный крючочек, соединяющийся с медным колокольчиком внутри квартиры.
Дергаешь за крючочек — и внутри квартиры дергается колокольчик, бьет язычком-тычинкой о стенки медного бутончика, извещая о приходе гостей.
С теплым чувством, чуть ли не со слезами на глазах — я и не предполагала, что где-то еще остались такие колокольчики, — я подергала за медный крючок и почти сразу услышала за дверью шаги. Дверь открылась, на пороге стояла Нателла Редничук в домашнем длинном платье, почти до пят, и скажи мне сейчас кто-нибудь про ее аристократическое происхождение, — я бы не удивилась.
Она пригласила меня пройти, и я ступила в ее загадочный дом, как в Сезам, почему-то подумав, что именно здесь я найду ключик к делу, начну смотреть старые фотографии и потершиеся на сгибах конверты — и найду.
Хозяйка указала мне вешалку, стул рядом с нею и со словами: «Раздевайтесь, приводите себя в порядок», — скрылась где-то в глубине квартиры. А я, сняв куртку, стала не столько прихорашиваться, сколько вертеть головой и разглядывать каждый сантиметр этой прихожей, как будто специально дожидавшейся меня много лет, чтобы напомнить о моем детстве. Как удивительно: темный паркет квадратиками, покрытый не лаком, а самой настоящей мастикой, положенной в несколько слоев, один на другой, из-за чего паркетины и казались темными. Такой паркет был и в нашей старой квартире, его натирали специальной щеткой, которая надевалась на ногу, и моя бабушка, никогда ни минуты не отдыхавшая, приучала меня, еще дошкольницу, к труду, вручая мне тугой, остро пахнувший тюбик с мастикой, которую нужно было выдавливать на пол и растирать ножной щеткой. Мне доверяли натирать пол, и я старалась изо всех сил, и так было до тех пор, пока благосостояние нашей семьи не возросло настолько, что был куплен электрополотер с тремя круглыми щетками, весело втиравшими в паркет любую мастику. С ним легко было управляться даже постаревшей и ослабевшей бабушке, поэтому меня отлучили от тугих мастичных тюбиков и щетки с креплением на ногу, похожим на лыжное.
Стены прихожей, оклеенные не моющимися европейскими, а самыми что ни на есть застойными, правда, очень чистыми и аккуратными, бордовыми с еле заметной золотой насечкой обоями, и висящее рядом с вешалкой большое овальное зеркало в тяжелой раме тоже как будто появилось из моего детства. У нас тоже было точно такое зеркало, потерянное позже при переезде, — может, довоенное, а может, и дореволюционное, со слегка затуманившейся поверхностью, которое делало заглядывавших в него женщин красавицами с матовой гладкой кожей и глубокими глазами, а мужчин значительными и строгими. Сейчас такое зеркало в моей жизни осталось только у моей парикмахерши, которая принимает клиентов у себя дома и причесывает их как раз перед таким зеркалом. И я всегда говорю ей, как мне нравится ее зеркало — в нем я всегда хорошо выгляжу, даже в папильотках или с мокрыми волосами, когда до прически еще далеко. А она довольно смеется и рассказывает, что многие предлагают ей заменить или отреставрировать зеркало, но она отказывается, потому что оно живое, в нем аура, и оно знает, как и кого отражать.
За мной в прихожую пришла Редничук и отвела меня в комнату, которая была логическим продолжением прихожей: высокие потолки, старые, но чистые обои, тяжелые портьеры с кистями, такой же паркет, потемневший от многих слоев мастики (интересно, кто здесь натирает пол, подумала я), на стене слегка покосившаяся картина в простой, но явно старинной раме, в которой я с удивлением узнала «Княжну Тараканову», погибающую в крепости во время наводнения, и не удержалась, чтобы не спросить, чья это такая хорошая копия Флавицкого.
— Это его копия, авторская, под рамой есть его подпись, — странно посмотрев на меня, ответила хозяйка.
И я подумала, что, наверное, мое любопытство слишком бросается в глаза, это неприлично, поэтому я решила объяснить хозяйке свой интерес к ее интерьеру.
— Извините, Нателла, если я кажусь вам слишком любопытной. Я как будто в детство попала, наша старая квартира была именно такой — и пол, и стены, и зеркало, только у нас висел не Флавицкий, а Левитан.
Она усмехнулась.
— Вам, наверное, кажется странной такая обстановка. Но это не потому, что руки не доходят или денег не хватает. Как вы понимаете, я могла бы тут все поменять, но не хочу. Здесь ведь жили еще мои родители. Конечно, не все мои знакомые адекватно реагируют на такие причуды, только я уже вышла из возраста, когда мнение окружающих имеет какое-то значение, — она снова усмехнулась. — Но не подумайте, что я оправдываюсь. Вы знаете, я уже могу себе очень многое позволить, например не делать европейского ремонта.
— Ну что вы, — искренне сказала я. — Вот с этим, — я обвела рукой комнату, — никакой евроремонт не сравнится. Здесь во всем дух времени. Можно купить шикарную квартиру и отделать ее по последнему слову, но дух времени не купишь.
— Я сразу почувствовала в вас что-то такое, не свойственное современным чиновникам, — медленно сказала она. — Вы ведь родились здесь, в Петербурге?
— И не в первом поколении, в паспорте у меня место рождения — Ленинград.
— У меня здесь бывали даже художники, которые не помнили автора «Княжны Таракановой», — так же усмехаясь, продолжила она, глядя на меня в упор, но, несмотря на ее дружелюбность и явное расположение ко мне, мне стало почему-то не по себе под ее взглядом. — А кто ваши родители, Мария Сергеевна? — вопрос был задан очень легко, по-светски, без напряжения.
— Оба инженеры, с техническим образованием. Но у меня в семье и отец, и дед хорошо рисовали, дед предпочитал акварель, а отец и маслом писал.
Сказав это, я сама на себя удивилась: уже давно я взяла за правило не рассказывать никаких подробностей своей жизни людям, с которыми меня сводит уголовное дело, независимо от их процессуального положения. Это опасно; люди, которые сегодня по-дружески заглядывают тебе в глаза и говорят комплименты, завтра могут написать на тебя чудовищную клевету, а для придания правдоподобности своим обвинениям привести подлинные факты твоей биографии, тобою же сдуру любезно сообщенные. Но тут же я нашла себе оправдание — бдительность утрачена из-за необычной обстановки, словно я провалилась во времени на тридцать лет назад, в те дни, когда папа рисовал мне на каждый день рождения настоящие открытки с белками и зайцами, державшими подарки для меня; а мама, с высоким лбом и горделивой осанкой, заставляла проходящих мимо мужчин оглядываться ей вслед, и меня, малявку, уже тогда распирало от гордости, пьянил ее женский успех; а бабушка даже в будние дни подавала к обеду гуся в яблоках или запеченную телятину, хотя не так уж много получали мои родители-инженеры, но на еде никогда не экономили, это было у нас не принято. И сейчас, когда я веду собственное хозяйство, мне никак не понять, каким образом ухитрялась бабушка на коммунальной кухне, деля конфорки на плите с соседкой и моя посуду в тазике из-за отсутствия централизованной горячей воды, готовить, почти каждые выходные, пиры на двадцать человек, с салатами, тушеной уткой и пирогами с капустой; с пирожковыми и подкладочными (под суповую) тарелками, хрусталем и мельхиором. Мне не понять, но аромат такого бытия я все-таки вынесла из своего детства, и образ моей бабушки витает надо мной, когда я колдую у своей собственной плиты, готовя по ее рецепту картофельные котлеты с грибным соусом, или коврижку с орехами, или зеленые щи, в тарелке которых, как завершающий мазок в натюрморте, должна плавать половинка крутого яйца желтком вверх.
Стараюсь, как могу, и мне кажется, что мои друзья любят бывать у меня и тянутся к моему дому, как когда-то тянулись к нашему дому друзья моих родителей…
Нателла не мешала мне предаваться воспоминаниям, только внимательно следила за выражением моего лица, и по-моему, оно ей нравилось. Заметив, что я вернулась в реальность из тех дней, она мягко спросила, что я предпочитаю — чай, кофе или какао.
— Спасибо, — смущенно отказалась я, — я ничего не буду, не утруждайтесь.
— Навязывать я вам не буду, — спокойно отозвалась она, — но если захотите выпить чайку или кофейку, скажите, хорошо?
Я кивнула.
— Где вам будет удобнее — здесь или в кабинете? — спросила хозяйка, доставая из ящичка старинного буфета (почти такого же, как тот, что стоял у нас когда-то) большой конверт, из которого торчали уголки фотографий, и еще один конверт с какими-то бумагами.
— Можно, я посмотрю их здесь, на диване?
— Конечно, пожалуйста. Извините, что все это россыпью, но я не люблю альбомов и очень редко смотрю фотографии, а уж показывать — вообще никому не показываю. Я вам нужна буду?
— А вы хотите уйти?
— Я там на кухне вожусь, так что, если я вам понадоблюсь, крикните. С вашего позволения, если не требуется моего ежесекундного присутствия. — Последние слова она произнесла слегка насмешливо, но, впрочем, вполне доброжелательно и вышла, оставив меня наедине с историей своей семьи.
Перед тем как высыпать фотографии из конверта на диван, я еще раз обвела глазами комнату и подумала: как странно, что она не взяла к себе жить внуков.
Конечно, ее резоны заслуживают внимания — у нее устоявшийся образ жизни, присутствие здесь детей создаст неудобства и ей, и им; но дух этой квартиры, так удивительно напомнивший мне дух моего детского жилища, заставлял меня думать, что она должна была поступить иначе…
Как я люблю рассматривать старые, еще черно-белые снимки!
Мне кажется, что на них все более веселые и непринужденные, чем на мгновенных поляроидных фото или кодаковских цветных картинках. Здесь, в конверте, преобладали как раз такие, черно-белые фотографии, и в принципе я вполне разобралась в их хронологии.
Детские снимки Нателлы, она с родителями. В детстве она, конечно, была очаровашечкой. Ее фото в юности; она на показах в качестве модели, модное закулисье, полуголые девушки не в фокусе — похоже, что снимали в шутку, неожиданно для моделей. Какой-то пикник на берегу озера: бутылки, гитары, шашлыки — вид издалека. Большая цветная фотография, сделанная во Дворце бракосочетания; Нателла в очень красивом наряде, ослепительно улыбающаяся, рядом с симпатичным молодым человеком, держащим под руку хорошенькую сияющую невесту в платье с кринолином. Наверное, свадьба сына. В этом ворохе обязательных для любой жизни исторических вех мое внимание привлекли две фотографии: одна — гроб, в котором лежит мужчина с неумело заретушированной раной на виске, она явственно видна даже на черно-белом снимке; у изголовья — очень красивая женщина в черном кружевном платке, наброшенном на светлые волосы, и рядом с ней очень похожая на нее маленькая Нателла. Обе не смотрят в объектив.
И вторая: снимок сзади — Нателла в обнимку с каким-то мужчиной, она обернулась к снимавшему, а мужчина нет; лица его не видно, но фигурой его Бог не обидел; весна или лето, она в легком платье, на которое наброшен мужской пиджак, а он в брюках и рубашке. Нателла смеется, придерживая рукой сползающий пиджак. Эта фотография заинтересовала меня фоном: парочка снята в движении, они направляются к чрезвычайно знакомому мне зданию — нашему Районному управлению внутренних дел. На здании висит транспарант с текстом: «55 лет Великому Октябрю!» Значит, Нателле на этом снимке двадцать шесть лет, машинально подсчитала я. Других фотографий, на которых Нателла была бы снята с мужчиной, я не нашла. И фотографий вместе с сыном — тоже.
Из конверта с бумагами я вытащила пожелтевший Нателлин аттестат о среднем образовании; одни пятерки. Странно, что она не стала поступать в институт, хотя, по всему судя, она себя на сто процентов реализовала как модель, а потом как бизнес-леди; ну и зачем ей тогда высшее образование?
Нашелся там еще конверт без письма, тоже очень старый, с адресом Нателлы, нацарапанным аккуратным старческим почерком, и обратным московским адресом, от Богунец Алевтины Аркадьевны. Свидетельство о смерти отца Нателлы — Редничука Ивана Аркадьевича, род смерти — убийство. Я тихо переписала себе в записную книжку московский адрес и данные свидетельства о смерти. Повертела в руках еще один старый конверт, фамилия адресата на нем была стерта, но адрес остался:
«Учреждение… (две большие буквы дробь трехзначное число)». На штемпеле дата неразборчива, а год виден отчетливо — 1971. Индекс учреждения, по-простому исправительной колонии, я тоже переписала себе. Потом громко позвала:
— Нателла!
Она вошла сразу, вытирая руки белым льняным полотенцем с красной вышивкой по краям.
— Я закончила, — сказала я ей. — Вы разрешите мне на пару дней взять все фотографии? Они могут мне пригодиться. Через два дня я их верну.
Она секунду помедлила с ответом, потом проговорила:
— Конечно, ради Бога.
Я собрала фотографии в конверт, положила конверт в сумку, и мы распрощались, договорившись, что через два дня я созвонюсь с ней и мы поедем в квартиру ее сына — посмотреть архив там.
Конечно, я могла бы взять только те три фотографии, которые меня заинтересовали, — снимок у гроба мужчины, Нателлу в обнимку с молодым человеком возле нашего РУВД и свадебную фотографию ее сына, но мне почему-то не хотелось раньше времени ей показывать, что именно меня заинтересовало, поскольку я намерена была покопаться как раз в этих периодах жизни Нателлы Редничук.
Выйдя на улицу, я остановилась и вдохнула слегка морозный воздух, чтобы собраться с мыслями. Как же меня взволновала эта квартира! Ее непередаваемый аромат, ее аристократическая обветшалость, пыльные шторы, криво висящие картины, туманные зеркала, утонченность в каждом предмете… И полное отсутствие мужского духа, даже на время залетающего. Во всяком случае, мне так показалось. Я могла бы поклясться, что в этой квартире Нателла живет одна.
Можно, конечно, допустить, что у нее есть еще одна квартира для встреч с мужчиной, но мне трудно представить Нателлу, организовывающую условия для свиданий. Не такая она женщина, чтобы самой этим заниматься, не такая. Полно, конечно, женщин, которые на все готовы и сами рвутся на свои деньги снять квартиру для интимных встреч или совместной жизни с мужиком и каждый вечер покупать ему бутылочку… Как говорит Горчаков, историческое развитие отношения к женщине: семнадцатый век — жизнь за взгляд, восемнадцатый век — полжизни за поцелуй, девятнадцатый век — состояние за обладание, двадцатый — ладно, Маня, ставь полбанки, я приду. Но Нателла точно не из таких.
А в этот дом нога мужчины давно не ступала, я в этом уверена. Кстати, Горчаков давно обещал мне кой-чего разузнать про мадам Редничук, надо его потрясти, напомнить. Блин, мне же еще надо доктора Балабаева допросить о причинах его повышенного интереса к телу больного. Хотя мой внутренний голос меня редко обманывает, а тут он говорит, что интерес у Балабаева чисто научный, просто реализует он его нецивилизованно. Конечно, случай интересный и наверняка первый в его практике, вот он и выпрыгивает из штанов.
А завтра я возьму у Кузьмича машину и оперов и съезжу на обыск в квартиру к Вертолету. Обыск — это если вдова настроена неласково, а вообще лучше обойтись осмотром. Там я не рассчитываю найти предметы, изъятые из гражданского оборота, типа противотанковых мин, пистолетов-пулеметов или летательных аппаратов, меня интересуют фотографии. Эти ребята обожают себя запечатлевать, с чувством, с толком, с расстановкой; жанровые картинки, изымаемые мешками на обысках, могли бы называться: «Я и моя баба», «Я и моя собака», «Моя тачка», «Я с братанами», «Я ем», «Я пью» и тому подобное… Один опер на обыске у члена организованной преступной группы, умаявшись паковать и опечатывать бесконечные фотоальбомы, в сердцах сказал: «Они специально для нас, что ли, это делают?
Знают же, что мы когда-нибудь придем и все отнимем…»
А не устроить ли нам сегодня с Сашкой ужин при свечах?
Ночью, после ужина при свечах, мне пришло в голову соломоново решение: пусть съездит «на сутки» и допросит доктора Кораблев. Не барское это дело.
Организовывать опознание обгоревшего трупа пришлось через генерала Голицына. Поскольку жил Бурдейко один, соседей его решили не беспокоить, в морг приехали его начальник и сослуживец. Тягостная это была процедура. Хоть санитары и постарались, готовя труп к опознанию, огонь и гнилостные изменения сделали свое дело, и герои «ужастиков» могли отдыхать. Начальник отдела старательно от меня отворачивался; хотелось верить, что ему стыдно за вранье в прокуратуре: прикрыл, называется, работника. Я бы не хотела оказаться на его месте.
— Похороны мы организуем, — наконец мрачно сказал начальник отдела, впервые за время пребывания в морге обратившись ко мне, но смотрел все равно в сторону.
По иронии судьбы, похороны они организовали очень быстро, и назначены они были на тот же день, когда хоронили Вертолета. Гробы с потерпевшим и виновником смерти стояли в соседних залах в одно и то же время, большие группы желающих проститься с тем и с другим смешивались в узком коридоре морга, и мне это напоминало процесс по делам частного обвинения, когда избитый или оклеветанный человек может обратиться в суд, минуя стадию предварительного следствия; суд возбудит дело, и он будет потерпевшим, а тот, на кого он жалуется, — подсудимым; но если подсудимый подаст встречную жалобу, то стороны будут именоваться: «подсудимый, он же потерпевший». Сам черт не разберет, кого из этих покойников правильнее назвать потерпевшим, а кого убийцей; наверное, каждый из них был бы «подсудимый, он же потерпевший». Что называется, не рой яму другому…
Я не стала торопиться с обыском до похорон. Все равно то, что мне было нужно, никуда не денется, а остальное, то, за чем мы не удосужились приехать сразу после смерти хозяина, уже давно вынесено и перепрятано. Прокол.
Как только я появилась в прокуратуре, меня сразу вызвал шеф и попросил активизироваться по взрыву в доме Бисягина.
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Чвановым, Владимир Иванович.
— Мария Сергеевна, Чванов подождет. Займитесь взрывом, вы же видите, нам руки выкручивают именно по Бисягину.
— Владимир Иванович! Вы же знаете, получается, что Чванов и Бисягин…
Тьфу, я имею в виду взрыв, связаны. Наоборот, надо по Чванову активизироваться.
И по Денщикову. Его же клеврет на чердаке сидел.
Шеф тут же перевел глаза на экран стоявшего в углу его кабинета телевизора, по которому в программе новостей без звука шел репортаж с похорон сотрудника уголовного розыска. Горчаков мне сказал, что в главке уже вывешен его портрет с подписью: «Герой России», и пол под портретом завален цветами.
— Мария Сергеевна… — Прокурор помолчал. — Может, по Чванову не будем продлеваться? Приостановим, и все. На Пруткина прекратите дело за недоказанностью, а убийство заглухарим.
— Если это указание, то я бы хотела получить его в письменном виде, дерзко сказала я, хотя мне было очень жалко шефа: не в его стиле давать такие указания, сейчас он скажет, что такой вариант ему посоветовал прокурор города.
— Это не указание. Это предложение прокурора города.
— От которого мы не в силах будем отказаться? Владимир Иванович, а заглухарить дело о гибели депутата Госдумы он не предлагал?
— Мария Сергеевна, ну что вы ерничаете?
И мне еще больше стало жалко шефа. Все-таки он уже старый человек, и зачем ему эта хроническая нервотрепка? Валидол у него на столе на видном месте, а в ящике стола еще и корвалол, неотложку только за этот год два раза вызывали.
Я-то по своему невысокому должностному положению могу на политес плюнуть и взбрыкнуть, а он вынужден вести себя так, чтобы всем нравиться…
— Но это же одно и то же! Владимир Иванович, если уж заниматься делом, то мне надо ехать в Москву.
— Это еще зачем?
— Работать по версии об убийстве Ивановых из-за личных отношений.
— Мария Сергеевна! Уймитесь наконец! — шеф даже прикрикнул. — Вы же слышали, что сказал по этому поводу прокурор города, я уж не говорю про генерала Голицына. Это чушь. Займитесь вплотную взрывом!
— В Москву не отпускаете?
— Да вы что? Забудьте и думать. И денег нет на командировки. Вы же знаете, в Москву — только по вызову Генеральной.
— Ну, давайте, я позвоню в Генеральную и скажу, что срочно нужна командировка по убийству депутата Госдумы.
— Звоните.
Шеф подвинул ко мне телефон, и даже сам набрал по межгороду номер нашего зонального в прокуратуре России, и, услышав ответ, передал мне трубку.